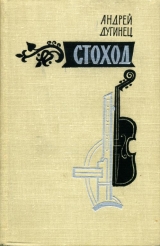
Текст книги "Стоход"
Автор книги: Андрей Дугинец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 28 страниц)
Не прекращая игру, Гриша подошел к Ивану Петровичу, чтобы посоветоваться. Но не успел он окликнуть Волгина, как из-за ширмы, за которой был буфет, вышли два гестаповца. Быстро поднявшись на эстраду, они подхватили скрипача под руки и почти понесли к выходу.
На улице было уже совершенно темно. У подъезда стояла машина. Втолкнув в нее музыканта, один гестаповец сел рядом и приказал шоферу:
– Во второй!
«Второй» – это корпус гестапо, где пытают и расстреливают. Из «второго» живыми не возвращаются.
Но что будет с Иваном Петровичем? Неужели схватят и его? А потом могут найти и Анну Вацлавовну и Олесю?
Что же случилось? Почему его схватили?
* * *
На закате Олеся не вытерпела мук голода и вышла из лесу на поле, где среди картофеля сочно зеленела грядка моркови. Из хаты, стоявшей в конце поля, ее не видно. Да хозяев Олеся и боялась меньше, чем самой себя, – впервые в жизни приходилось воровать. А самым страшным было то, что Анна Вацлавовна может прийти в условленное место как раз в этот момент и тут же уйти. Поэтому, нахватав большой пучок моркови, Олеся сразу же умчалась в лес. На ходу оскребла морковку одна о другую и сгрызла ее в один миг. Вернулась под старую приметную березу, где вот уже третий день безрезультатно ждала связную. Недалеко от березы журчал ручеек. Олеся сбегала, перемыла морковку и, вернувшись под березу, теперь уже не спеша начала есть.
Она питалась на хуторах, заходила под видом беженки, выпрашивала чего-нибудь и уходила. Чаще всего люди совали ей в сумку еду и просили поскорее уходить «от греха подальше». Немцы расстреляют всю семью, если узнают, что накормили советского человека. Были и такие, что, невзирая ни на что, приглашали в дом, кормили и только тогда отпускали.
Но последние три дня Олеся сидела как привязанная к березе, потому что связная не шла и не шла. И вот теперь, грызя морковку, Олеся думала и гадала о том, что же могло случиться в Бресте за эти дни…
Внезапно трижды ухнул филин. Олеся вздрогнула. Филин ухнул опять. Теперь только два раза. И наконец, тише, ухнул один раз.
Олеся трижды стукнула палкой о ствол березы. И тут же к ней подбежала запыхавшаяся Анна Вацлавовна.
– Идем. Радируй скорее!
За руку Олеся ввела ее в кусты, где возле пня у нее был присыпан старыми листьями «северок». Поставив рацию на пенек и раскинув антенну, Олеся приготовилась кодировать текст.
– Только наберись мужества и не прерывай меня! – потребовала Анна Вацлавовна. – Первое сообщение закодируй и передай. Потом второе. Всего три.
– Что с Гришей, где Гриша? – вскрикнула было Олеся, но Анна Вацлавовна уже диктовала.
– Восьмого шесть утра, Брест – Гомель последует эшелон. Танки, горючее, – продиктовала Анна Вацлавовна.
Олеся быстро зашифровала радиограмму и передала ее.
– Пятого ночью гестапо расстреляло Надежного.
– Гришу?! – Олеся неожиданно для себя и Анны Вацлавовны поверяла сознание и упала на бок.
Анна Вацлавовна подняла ее и поудобнее устроила под деревом. Брызнула водой в лицо. Олеся шевельнулась, попыталась встать.
– Сиди, сиди, родная. Ты, наверное, голодная. На, выпей вот молока.
Олеся отстранила бутылку и, не вытирая ручьем катившихся слез, потянулась к рации.
– Седьмого ресторане устроился Охотник. Ждем дальнейших указаний. Перехожу на прием.
Молча они долго ждали ответа. Наконец аппарат зазуммерил. Через несколько минут Олеся тут же расшифровала:
– Вместе с Охотником продолжайте работать. Сообщите результаты бомбежки пятого.
– А разве пятого была бомбежка? – удивилась Олеся. – Пятого ж был дождь.
– В городе с вечера прошел маленький, а потом разведрилось и прилетели наши самолеты. Склад боеприпасов возле костела и до сих пор горит да потрескивает патронами! Автоколонна с эсэсовцами стояла замаскированная в парке, так одно месиво осталось. Видно, в Бресте не мы одни.
– Я, как дождичек начался, сразу уснула. А ночью гремело, так думала, гром, – тихо сказала Олеся и вдруг прильнула к Анне Вацлавовне, как к родной матери, и, больше не в силах сдерживаться, зарыдала:
– Гриша! Гриша! Неужели правда, что его нет?!
Анна Вацлавовна даже не успокаивала ее. В таком горе лучший успокоитель – слезы.
* * *
Когда машина, в которой везли Гришу, сбавила ход на повороте, дорогу ей преградила толпа немецких солдат и офицеров, в панике бежавших к большому каменному дому, под которым было бомбоубежище. Гестаповец высунулся в окошко и тут же крикнул шоферу:
– Стой. В бомбоубежище! – А арестованному махнул рукой, чтобы вылезал.
И когда Гриша не спеша выбрался из машины, гестаповец изо всей силы толкнул его автоматом вперед и крикнул что-то. Гриша побежал за шофером, который, втягивая голову в плечи, не то что бежал, а прыгал как-то неуклюже. Гестаповец бежал следом и все подталкивал Гришу.
А с востока, словно ураган, быстро приближался тяжелый, грозный гул. «Наверное, целая эскадрилья!» – с радостью подумал Гриша. Вой сирен, рев и гул автомобилей, прерывистые паровозные гудки, крики и вопли бежавших в бомбоубежище немцев – все это вдруг поглотил высокий звенящий вой, обрушившийся с неба, как смертный приговор.
«Тю-ууу!» – И перед бомбоубежищем багрово-черным смерчем взметнулось все, что было твердью.
Шофер бросился влево, к другому дому. Гестаповец бежал теперь рядом с Григорием, казалось, уже не обращая на него внимания.
Взрыв потряс землю. Гестаповец глянул на арестованного, толкнул его опять вперед. Григорий сделал вид, будто бы толчок был таким сильным, что он не удержался, и упал под ноги фашисту. Гестаповец упал через него. Гриша вскочил и бросился за угол дома. Оглянулся, не гонятся ли за ним. Но гестаповца не было видно.
И вдруг в доме с проломленной стеной раздался такой взрыв, что, казалось, прорвалась бездна, в которую провалится весь город.
Гриша бежал по совершенно пустой улице и, глядя в небо, потрясал кулаками и кричал наседавшим на самые крыши краснозвездным самолетам:
– Дайте им! Еще! Еще!
Увидев над головой самолет с красными звездами, ярко горевшими над вспышками зенитных снарядов, Григорий замахал руками, закричал:
– Туда, туда!
Ему хотелось, чтоб самолет сбросил бомбу на огромное здание с глухими, почерневшими от времени кирпичными стенами без окон, расположенное почти рядом с костелом. Гриша догадывался, что это военный склад. И самолет, словно послушавшись его совета, спикировал на мрачное здание. Глухо разорвалась бомба во дворе склада. Потом черно-кровавой тучей в небо взметнулось, казалось, полквартала и в небо, как всполошенное воронье, полетели бревна, кирпич, куски железа. Григорий невольно присел под огромным дубом. И здесь лицом к лицу столкнулся с высоким тонкошеим парнем, совсем еще безусым.
– Тоже из города хочешь выбраться? – спросил незнакомый.
– Да, – как-то просто доверившись, ответил Гриша.
– Тебя как зовут?
– Гриша.
– Меня – Алексей. Бежим, Грыць, пока паника, – предложил парень и первым бросился по скверу.
Они бежали, охваченные радостью. Ни стрельба зениток, ни вой сирены и паровозных гудков, ни трассирующие пули, летевшие невесть откуда вдоль и поперек улицы, – ничто их не страшило, они радовались самолетам, каждой бомбе, завывавшей над головой, каждому взрыву, поднимавшему на воздух все, что было заготовлено для убийства советских людей. Только теперь, по взрывам и пожарам, Григорий понял, как много в этом городе было военных складов.
– Еще! Еще! Давай им! Давай! – непрерывно кричал Григорий сквозь рев и грохот, точно командовал бомбежкой.
– Здорово! Молодцы! – вторил Алексей, размахивая кулаком.
Они бежали мимо изуродованных немецких автомашин, мотоциклов, убитых солдат, полицейских. Вдруг Григорий остановился возле небольшого, похожего на наш «газик» грузовика. Машина левым передним колесом висела над кюветом. Колесо это кружилось то в одну, то в другую сторону.
– Что ты остановился! – крикнул ему Алексей.
– А ехать не хочешь? – с лукавинкой спросил Гриша, подходя к машине.
Услышав, что мотор работает, он заглянул в кузов. Там какие-то ящики, аккуратно составленные в два яруса. Открыв дверцу кабины, увидел убитого немецкого офицера. Водитель, видно, убежал. Обойдя машину, Григорий открыл вторую дверцу. Немец сам вывалился из кабины. Григорий забрался в кабину. Присмотрелся, пытаясь угадать, куда повернуть рычаг скорости, чтобы отъехать назад, от кювета. Наконец, положив руку на холодный шарик рычага, потянул на себя и нажал на педаль. Машина, тяжело загудев, рванулась назад. Теперь уже смелее переключив скорость, Григорий направил автомобиль вперед. Алексей на ходу вскочил в кабину. Быстро набирая скорость, машина помчалась в восточный конец города.
А самолеты наседали и наседали. Земля гудела от непрерывных взрывов.
Вот и шлагбаум. Справа будка, из которой беспрерывно палила в небо скорострельная зенитная пушка.
Здесь их остановят. У Григория мелькнула мысль: «А что, если направить машину на фашистов, а самим спрыгнуть. Надо только сделать так, чтобы машина продолжала двигаться без водителя. Вот если бы придавить чем-нибудь тяжелым педаль». В ногах Алексея увидел домкрат. Вот это и нужно. Там же лежала длинная ручка, которой заводят мотор. Попросил Алексея вставить ее в рулевое колесо так, чтобы руль находился в одном положении.
Разогнав машину и направив ее на зенитную точку, Григорий махнул Алексею: «Прыгай!» – и сам кубарем скатился в кювет. В той стороне, куда умчалась машина, раздался грохот, потом частые взрывы, похожие на орудийную стрельбу.
Зенитка умолкла. Григорий выбрался из кювета на картофельное поле и пополз по борозде. Картофельная ботва высокая, листья широкие, лопушистые. С дороги едва ли кто заметит. Осторожно, с опаской выглянул из-за картофельного куста.
На месте будки курилась глубокая яма, машины не было и в помине. Лишь далеко в стороне лежало отброшенное взрывной волной колесо.
«Видно, ящики в машине были с взрывчаткой или снарядами», – догадался Григорий и, улыбнувшись удаче, тихо свистнул:
– Алеша!
– Я здесь. Ползем скорее от дороги!
– Мало проехали! – виновато потирая затылок, сказал Гриша и быстро пополз. – Будка помешала…
– Что ты! За такую будку я согласен ползти тысячу верст, – быстро работая локтями, говорил Алексей. – Завидую тебе…
– Ты почему убегаешь из города? – спросил Григорий.
– Кокнул гестапака! – Алексей хлопнул себя по оттопыренному карману.
– Пистолет? – обрадовался Григорий.
– Семизарядный. Две обоймы запасных!
– Ну, с этой штукой мы не пропадем, – кивнул ему Григорий.
Кончилось картофельное поле. Пригнувшись вбежали в кустарник и углубились в лес.
Прошло минут десять, как Гриша рассказал все, что произошло с ним в Бресте, а все молчали. Ефремов как сидел, низко склонившись над столом, так и не шевельнулся. Гриша с нетерпением ждал, что он скажет. Ждал и Александр Федорович, сидевший напротив Ефремова.
…Вчера, придя в отряд Миссюры, Гриша рассказал, как ему удалось выбраться из Бреста, и тут же начал умолять командира и комиссара поскорее отозвать Ивана Петровича, иначе гестапо схватит и его. Но Александр Федорович как-то не реагировал на Гришино опасение, а по нескольку раз спрашивал об одном и том же: какого числа пришел в ресторан Волгин и через сколько дней арестовали Гришу. И когда Гриша отвечал, что все произошло в один день, то Миссюра и Моцак недоуменно пожимали плечами. Наконец они сказали, что́ именно их удивляет. Об аресте Гриши Олеся сообщила в отряд. Правда, в радиограмме говорилось: Гриша расстрелян. Но дело не в этом. Командира и комиссара удивляло другое: Охотник, как они называли Волгина, сообщил, что он Гриши в ресторане уже не застал, что прибыл он в город через два дня после расстрела Надежного. Ну, а сам Гриша утверждает, что видел Охотника и даже боится за его судьбу. Вечером радистка попросила Анну Вацлавовну повторить все, что ей было известно об аресте Гриши и приходе в город Охотника. Радиограмма поступила точно такая же, как первая. Вдобавок Охотник передал сообщение о важном поезде, направляющемся по дороге на Барановичи. Он даже предупреждал, что впереди эшелона будут пущены два состава с балластом, которые проследуют на расстоянии одного километра один от другого.
Долго совещались в этот вечер Моцак и Миссюра. Наконец решили посоветоваться с Ефремовым. Связались с ним по радио. Сергей Николаевич попросил комиссара прийти с человеком, прибывшим из Бреста.
И вот они, Крук и Моцак, в областном штабе. Всё рассказали, ждут решения начальника штаба. А он молчит.
Гриша, глядя на Ефремова, размышлял: «Каким этот человек был до войны? Неужели таким же молчуном и тугодумом? Чего тут особенно думать! Это же ясно, что надо немедленно вызвать Ивана Петровича, и Анну Вацлавовну, и Олесю. А может, уже поздно? Или Ефремов что-то об, этом знает и молчит?..»
– Вы, товарищ Крук, пока поживите в отряде «Буревестник». Вам кем хочется быть?
– Пулеметчиком, – чувствуя, что краснеет, ответил Гриша и встал, неумело вытянув руки по швам.
– Есть у них замечательный учитель этого дела. Он вас обучит. Пленный чех. А товарищ, с которым вы бежали, пусть остается в вашем отряде.
Ефремов открыл дверь и сказал дневальному, стоявшему возле землянки:
– Степан, отведи товарища Крука к Спишаку, пусть за неделю сделает его первоклассным пулеметчиком. – С этими словами Ефремов положил руку юноше на плечо и улыбнулся.
Гриша благодарно кивнул, попрощался с Александром Федоровичем и ушел. И всю дорогу до землянки пулеметчиков удивлялся этой неожиданной улыбке Ефремова. Глубокие морщины, которые окаймляли его рот, как-то изогнулись, приподнялись вверх, на щеках вдруг прорезались ямочки. И получился веселый, добродушный человек. Даже не верилось, что одно и то же лицо может так измениться.
– А как думает комиссар? – оставшись вдвоем, спросил Ефремов.
– Много лет я знал Ивана Петровича Волгина. Миссюра знает его еще больше. Ну а Гриша молился на этого человека – он спас его отца, чуть не на руках принес из немецкого плена после гражданской войны, – сказал Моцак и, вздохнув, развел руками: – А теперь я ничего не понимаю, да и Миссюра чешет в затылке. Этот непонятный увоз его на «оппеле» из имения в начале войны… Как жаль, что Гриша мне тогда не сказал, что видел его в такой машине!
– Да, этот Крысолов умел великолепно маскироваться. Двадцатилетний стаж разведчика обязывал к этому.
– Не может быть! – Моцак отшатнулся.
– Мы связались с Москвой. Оказывается, о нем наша разведка уже в сороковом году кое-что знала, да война помешала вывести господина Бергера-Волгина на чистую воду…
– Тогда… – потирая вспотевший лоб, Александр Федорович нахмурился, – тогда нам надо срочно менять базу и отозвать связную.
– Анну Вацлавовну отзовем сегодня же. На ее место пошлем другого связного, а насчет перемены базы ты прав, – кивнул Ефремов. – Вам и «Буревестнику» надо передислоцироваться. Кстати, вашу резервную базу кто строил?
– Егор Погорелец и двое погибших, Омар и Санько Козолуп.
– Кто в отряде знает об этой базе?
– Только трое: Погорелец, я и Миссюра.
– Вот это хорошо! Как вернетесь, сразу же перебирайтесь, – распорядился Ефремов. – Второе… Тех двоих, что направил к вам Крысолов, немедленно арестовать и под усиленным конвоем доставить сюда.
– В доме Крысолова есть еще женщина. Как с нею? – спросил Моцак.
– Она, возможно, ценнее этих двоих. Обязательно возьмите ее. А дом тщательно обыщите, там должна быть рация.
– Вы даже так думаете? – удивился Моцак.
– Пока что предполагаю. А чтобы знать все наверняка, попытаемся отозвать этого Охотника. Если не придет, значит, наши догадки верны.
– Да, сильно промахнулись мы с Миссюрой, – повинился Моцак.
– Тут не только ваша вина, – ответил Ефремов. – Виноваты мы все, что до сих пор в отрядах никто не занимается такими вопросами, как проверка людей, особенно новичков. В отряде нужен человек, который бы все умел видеть, все знать, все сопоставлять…
* * *
Крысолов пришел к Анне Вацлавовне в середине дня. Сообщил о продвижении воинского эшелона совершенно секретного назначения. Закурив свою трубку, хотел уходить. Но Анна Вацлавовна сказала, что его отзывают в отряд.
– В штаб или в отряд? – внешне спокойно спросил Крысолов, пуская кольца густого темно-сизого дыма.
– В отряд. Видно, боятся, чтобы и вас не схватило гестапо, как Гришу Крука.
– Я сижу за роялем, как на иголках, – ответил Крысолов. – Но кто сейчас не рискует?!
– Что верно, то верно.
– Передайте в отряд, что в течение трех дней я получу здесь очень важные, сведения, и тогда не обидно будет покидать город. А коль будут настаивать, что ж, если нужно, я готов!
В этот же вечер Анна Вацлавовна ушла в лес, к Олесе. А Крысолов встретился с шефом гестапо, и тот сообщил результат поисков трупа арестованного скрипача.
Следствие установило, что конвоир, везший арестованного, струсил, когда налетели советские самолеты. И скрипач во время бомбежки бежал.
– Бежал? – вне себя заорал всегда спокойный Бергер. Теперь он понял, почему его вызывают в партизанский штаб: парень этот уже в отряде, и там все знают.
* * *
Войдя в землянку, Моцак сразу же спросил Миссюру:
– Где писарь?
– На рыбалке.
– На какой еще рыбалке? – удивился Александр Федорович.
– Так он днями и ночами на речке пропадает. Придет весь мокрый, принесет какой-нибудь десяток карасиков, а счастья, будто сома пудового поймал.
– Да-а… Карасики… – Александр Федорович устало опустился на стул и спросил, нельзя ли все-таки найти этого «карасика».
– Сейчас пошлю хлопцев, – равнодушно кивнул Миссюра. – Тут столько проток, что не скоро найдешь. А чего он так понадобился? Придет сам. Хотя, кажется, я его с вечера не видел.
– Кажется или точно? – с тревогой спросил Александр Федорович.
Подумав, Антон твердо ответил, что писаря нет еще с вечера.
– Прав Ефремов, прав! – тихо, словно самому себе, сказал Моцак.
– В чем прав?
– В том, что в отряде нужен специальный человек… – И Моцак подробно объяснил, что это значит.
– А что, писарь оказался… – Миссюра не договорил, но Моцак понял его и кивнул:
– Да, он с Крысоловом…
Писарь не вернулся и к вечеру. Не нашли и книги, в которую он записывал все дела отряда. И только после этого Антон понял, для чего Сурков так подробно записывал все, что узнавал о партизанах. Видно, собирались истребить под корень не только самих партизан, но и тех, кто им помогал.
А от Ефремова перед самым уходом отряда на запасную базу пришло сообщение, что исчез и Синцов.
В доме Крысолова партизаны никого не обнаружили. Не нашли они и радиопередатчика.
* * *
Олеся сидела на пеньке и, расшифровывая радиограмму, вслух читала ее Анне Вацлавовне:
«Крысолов предатель. Немедленно возвращайтесь в отряд. На белом озере вас будет ждать лодка. Миссюра».
Олеся и Анна Вацлавовна долго, без единого слова смотрели на маленькую, но страшную, как змея, ленту радиограммы.
* * *
В середине дня на лагерь отряда «Смерть фашизму!» налетел бомбардировщик и тремя заходами разбомбил все, что верой и правдой служило партизанам больше года.
А партизаны в это время натягивали палатки в новом лагере. И когда после восьмого взрыва наступила длительная тишина, Миссюра сказал:
– От теперь доложит: «Смешал партизан с грязью».
– Товарищ командир! – подбежал к Миссюре Ермаков. – Разрешите пойти на место бомбежки. Одна бомба не взорвалась. Заберем взрывчатку.
– Кто тебе об этом доложил? – спросил Миссюра.
– Простая арифметика: в каждом заходе он бросал по три бомбы, чтобы кучней ложились. Но третий раз был перерыв между двумя взрывами. Значит, одна цела.
– Да я боюсь, чтоб не нарвались вы на такую бомбу, что и самих разнесет, – ответил Миссюра.
– И я считаю, товарищи, что на этот раз ваша затея пустая, – заметил Моцак. – Земля-то там сплошное болото. Копали, знаете.
– Ну и что ж? – удивился Ермаков.
– Да то, что ушла ваша бомба в землю так, что не докопаетесь.
– Пр-а-вда, – сразу сник Ермаков.
И только он это сказал, начались взрывы бомб совсем в другой стороне.
– «Буревестника» бомбят, – кивнул Моцак. – Но и там им не повезло… Зато мы теперь знаем, кто такие Крысолов и его «приблудные».
* * *
А Бергер, бледный, злой на всех и на себя, сидел в это время в Берлине перед шефом.
– Что же с вами делать? – пристукнув по столу, сказал Краузе. – Вы и без меня знаете, что старыми заслугами не проживешь. У вас же они многолетней давности. А с новым делом вы провалились бесславно!
– Я не раз говорил вам, что я разведчик, а не мелкий шпик! – парировал Бергер.
– В этой войне не приходится считаться со склонностями. Делать надо то, что требует фюрер.
– Дайте мне другое задание, и вы убедитесь…
– Что ж, остается одно посильное вам задание – фронт!
Возвращаясь домой, чтобы собраться в дальний путь, Бергер вспомнил, как Краузе произнес слово «фронт». Оно прозвучало как смертный приговор.
Как же они, эти тыловые крысы, боятся этого слова!
Подходя к дому, Бергер перестал об этом думать: кто знает, может, стены умеют не только слышать, но и мысли читают? Все может быть в этой автоматизированной стране. Все может быть…
Для Бергера самым страшным был не фронт, а дорога к нему. В пути он подружился с начальником эшелона и стал консультировать, как пробраться через партизанскую зону. За Брестом их поезд шел только днем с двумя составами порожняка впереди. Первые составы часто подрывались на партизанских минах. Немцы ремонтировали или делали обводной путь. И так продвигались в день километров по тридцать, а то и меньше. Только теперь Бергер по-настоящему оценил размер партизанской войны, понял цену своего провала.
«О, если бы можно было вернуться к партизанскому делу, – мечтал теперь Бергер, – я бы навел порядок. Я все сделал бы черной зоной, где не было бы места ничему живому!» – И он так зажал в кулак свою неразлучную трубку, что она хрустнула и разломилась пополам.
Бергер с огорчением взглянул на две черные половинки, похожие теперь на угольки. Дерево, оказывается, давно истлело и держалось только лакировкой.
Жаль стало трубки, как чего-то очень дорогого. Он смотрел на нее, словно прощался с чем-то, что долго было частью его самого. Эту трубку он взял у отца, отправляясь на долгие годы в неведомую Польшу. Она была единственной вещью из родного дома. И все годы он пронес ее как некий талисман. И вот больше нет его.
Этот случай наводил Бергера на очень грустные мысли…
Ветер, который внезапно среди холодной осени принес большую оттепель, дул с юга, от Черного моря. Но мужики говорили:
– Сталинградский ветерок!
Всходило солнце, люди кивали на восток:
– А в Сталинграде уже день!
Когда в партизанский отряд приходил доброволец, командир сердито спрашивал: «Не подул бы сталинградский ветерок, сколько б еще сидел на печи?» И посылал в хозяйственную роту или в обоз.
Немцы, понурив голову, ходили с широкими черными повязками на рукавах и вполголоса говорили о Сталинграде.
Полицаи шептались о том же и, почесывая грешные затылки, украдкой посматривали на лес.
Крестьяне поняли, что наступил перелом в ходе войны, и начали втихомолку готовиться к весеннему севу.
А партизаны, оставив лесные землянки, расположились в глухих, отдаленных от магистральных путей селах, на хуторах. И впервые за войну устроили себе выходной. Вывесили на домах красные флаги, лозунги с кратким, но вразумительным текстом: «Смерть немецким оккупантам!» Плясали под балалайки и гармошки. Пели песни. На ходу сочиняли частушки о Сталинграде.
Все: и люди, и природа, и сам воздух – казалось наполненным звонким победоносным – Сталинград.
В отряде «Смерть фашизму!» теперь было около двухсот человек. Расположившись в селе Вулька и на окружавших его хуторах, партизаны готовились к крупным диверсиям на железной дороге.
На улицах села снег растаял, несмотря на глубокую осень, дома украсились красными полотнищами и венками из еловых веток. Казалось, что село празднует Первое мая. Не хватает только зеленой травы да цветов.
Во всю ширь улицы идут хороводы девушек и парней. Почти все с оружием за плечами. Поют, пляшут.
Веселье возрастало, когда с заданий возвращались группы подрывников и разведчиков.
– Особая сибирская дивизия! – приветственно кричит кто-то.
– Качать всю дивизию!
– Качать, качать!
И на середине улицы высоко над толпой взлетают вверх маленький, щуплый дедусь, четырнадцатилетний подросток и лет девяти конопатая девочка Люся.
Дед и его нареченные внуки были любимцами отряда. Они втроем ходили по городам и делали что-то, известное только им самим да командиру. Дед то под видом нищего, то под видом святоши проникал в любой город. Устим был связным. А Люся пробиралась в места, совершенно недоступные для взрослых.
Сегодня «сибирская дивизия» привела врача-чеха, шорника-мадьяра и двух пожилых австрийцев.
– Вот вам целый тернационал. Добровольно захотели к нам, – сказал дед, когда его наконец опустили на землю. – Дивизии не грех и отдохнуть. Показывайте, значит, где нам расквартироваться…
В конце села послышалась песня:
В чистом поле, поле под ракитой,
Где клубится по ночам туман,
Там лежит, глубоко зарытый,
Там схоронен красный партизан.
– Ермачок! – закричали мальчишки и босиком побежали по холодной грязи вдоль улицы.
Подрывников Ермакова мальчишки узнавали по песням. Никто не пел так залихватски, с такими присвистами да выкрутасами, как Ермачок.
На быстрых, разгоряченных конях из проулка показались всадники. Впереди скакали Ермаков и его помощник Бугров. За ними – подрывники, увешанные трофейным оружием, как цыганки ожерельями. Кто в немецких шинелях и в кудлатых бараньих шапках, кто в свитках или полушубках, кто в зеленых немецких касках. Одеты и обуты кто во что горазд. Но у каждого на голове алая лента – по ней сразу узнаешь партизана.
Эх, сама героя провожала
В дальний путь, на славные дела,
Боевую саблю подавала,
Вороного коника вела.
Три коня под седлами бежали,
Только пыль клубилась позади,
Пэпэша в руках бойцы держали
И погибель Гитлеру несли.
Ехал Митя Иртышов по полю
И не знал, что враг уж взял прицел,
Боевую песню напевая,
До конца допеть он не успел.
Он упал на травушку сырую,
Он упал, простреленный, в бою
За Советы, за страну родную
Отдал жизнь геройскую свою!
Он упрямый, непреклонный,
Он изъездил тысячи дорог.
Но себя от смерти черной,
От злодейской пули не сберег.
А последний куплет допели уже сами мальчишки:
В чистом поле, поле под ракитой,
Где клубится по ночам туман,
Там лежит, глубоко зарытый,
Там схоронен красный партизан.
И партизаны, и жители села, и взрослые, и дети от души хохотали, глядя на Ермакова, ехавшего впереди своей группы.
В самом командире подрывников не было ничего смешного. Он был в белом полушубке, белых полотняных штанах и в лохматой белой шапке из овчины. Поперек шапки широкой полосой алела лента со звездочкой посередине. И не бородка, очень старившая Ермакова, смешила людей.
Смех вызывал хвост. Черный, задранный вверх телячий хвост, торчавший из-под белого полушубка Ермакова. Когда конь бежал, хвост в такт бегу взмахивал и повиливал. И парень становился похожим на черта из гоголевских повестей.
Ермаков знал, над чем смеются люди, и, когда отряд его остановился, он еще нарочно проскакал по улице, мол, смейтесь, на то и праздник.
Когда он разместил отряд и вышел на улицу, его стали расспрашивать.
– Да много рассказывать! Ну, коротко скажу. Сделали мы свое дело… и…
– Подорвали мост?
– Все ж подорвали? – спрашивали друзья.
– Большой фонтан пыли был, – ответил Ермаков, уже окруженный толпой. – Ну вот, идем назад. Встречается конный отряд в глухом лесу. Мы засели. Кричим: «Кто такие?» Отвечают: «Свои! Ищем вас, партизан». «А откуда ты, – говорю, – знаешь, что мы партизаны?» «Да немцы-то в такую глухомань и носа не покажут», – отвечает мне их старшой. «Давай сюда один!» Приезжает. Ну, потолковали немного. «Что ж, – говорю, – поедем с нами, да только сначала докажите, что вы будете настоящими партизанами». «Мы бы, – говорят, – доказали, да у нас только винтовки, а нужен бы и автомат. К нам, – говорят, – в село приехали немецкие офицеры на охоту. Их двадцать». Как услышали мы про это, сразу загорелись: дать жизни этим фашистам! Э-э, да «сибирская дивизия» уже тут? – увидев деда, прервал свой рассказ Ермаков. – Ну, побегу.
– Да что ж ты на самой середине оборвал!
– Хоть скажи, что с теми «охотниками»?
– А что! Пока они выслеживали дичь, мы выследили их, – стараясь выбраться из толпы, говорил Ермаков. – Устроили засаду и прикончили всю банду. Хлопцы и приоделись, и вооружились.
– А хвост, хвост как?
Но Ермаков уже убежал. Пришлось за него отдуваться Бугрову. И тот рассказал, как, заехав к кузнецу, Ермачок сделал себе седло. Как потом обрядили его свежей телячьей шкуркой.
– В каждом селе смех поднимался такой, что во всю войну не слышали! – закончил Бугров.
Солнце зашло. Ночь наступала еще более теплая, чем день. С крыш уже не капало. Весь снег стаял. Веселый, хорошо вымытый вчерашним дождем молодой месяц низко висел над хатами, присматривался, что делается в селе.
Стоял ноябрь. Но для партизан, как и для всех советских людей, начиналась весна.
* * *
Зато в душе Бергера после Сталинградской битвы наступила студеная, лютая зима. Здесь, на фронте, когда подолгу не подвозили боеприпасы и продовольствие из-за «неисправности» путей, он окончательно понял, что такое партизаны, как дорого расплачивается армия фюрера за провал его незаметной с первого взгляда миссии на Полесье. До злой тоски было обидно, что двадцать лет успешной деятельности вдали от родины, среди полудиких лапотников пропали даром из-за мальчишки, которого не сумели просто-напросто вовремя расстрелять… О, если бы он начинал свою миссию по борьбе с партизанами теперь, он знал бы, что делать. Всю зиму Бергер обдумывал планы превращения Полесья в зону выжженной пустыни, сплошное пожарище, где ничто живое не найдет себе ни пищи, ни крова. И наконец весной написал письмо Краузе:
«Барон, я понимаю, что теперь не до щепетильности. И сожалею, что не уразумел этого раньше… Я знаю каждую пядь земли партизанского логова, как никто другой, знаю повадки этого зверья. Поэтому прошу еще раз доверить мне миссию, с которой я не справился однажды.
Преданный Вам Бергер».
Краузе прочел письмо и хмыкнул:
– Хм! Другие рвутся на фронт из партизанского края: на передовой знаешь, где смерть и куда стрелять. А этот… В нем просыпается ариец. Ну что ж, возвращайся, изложи свои планы. Подумаем, посоветуемся.
* * *
С Брестом связь партизан не порвалась, а, наоборот, за зиму укрепилась. Оказалось, что Сергей, друг Алексея, бежавшего с Гришей из города, работал на станции Брест. И он с радостью согласился помогать партизанам. В город была послана связная, на которой Сергей «женился», и через нее сообщал все, что узнавал о движении поездов. Сергей сумел установить контакт и с другими железнодорожниками, которые охотно ему помогали.








