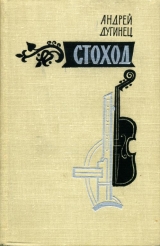
Текст книги "Стоход"
Автор книги: Андрей Дугинец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 28 страниц)
Буханка черного хлеба!
Все мечты теперь были только о ней! Но где ее взять? Здесь не увидишь даже корочки, даже сухой, черствой горбушки, которую так часто хозяйки бездумно выбрасывают на помойку.
Глаза всех, кого видел перед собою Гриша, были полны голодной тоски. Эти смертельно усталые глаза, казалось, вопили одно и то же:
– Хлеба!
– Хлеба!
– Хлеба!
– Браток! Музыкант!
Гриша оглянулся:
– Вы меня?
– Просьба к тебе. Дружок умирает. Страшно любил музыку, все оперы знает наизусть. Уважь напоследок. Поиграй, если можешь.
В густой смрадной тьме Гриша не видел того, кто обращался к нему с просьбой. Он хотел спросить Александра Федоровича, можно ли здесь играть. Но не решался его беспокоить. Как вдруг тот сам тихо, но внятно сказал:
– Сыграй, Гриша, если есть силы. Сыграй…
Гриша молча развернул тряпку, в которую заматывал свой инструмент после того, как выбросил футляр. Подтянул смычок, струны и, пересев туда, где лежал умирающий, тихо заиграл. Он робел перед человеком, который все оперы знал наизусть. Сам-то Гриша пока не знал ни одной…
Ночь темная, безлунная. Вповалку на голой земле спят люди, у которых нет будущего. Спят обреченные. Не спят часовые. Посвечивают сигаретами. Да скрипка не спит. Плачет. Хоронит кого-то. Того ли только, кто уже умирает? Или не только его?..
Гриша почувствовал, что кто-то благодарно пожал ему ногу да так и оставил свою холодную руку на колене. Потом эта рука стала совсем холодной, неподвижной.
– Спасибо, дружок, – шепнул тот, кто попросил сыграть. – Усыпил ты его. Навеки.
И только теперь Гриша понял, что тот, для кого он играл, умер, что это его рука стыла на колене…
– Всех усыпил. Тишина какая!
– Нет! – проговорил кто-то в темноте. – Нас он разбудил.
Гриша прислушался. По голосу узнал комиссара Зайцева и невольно подумал: «Он все еще мучается. Какой живучий!»
– И мы больше не уснем, пока не вырвемся отсюда!
– Бежать! Бежать, если даже половину перестреляют! – в тон Зайцеву сказал Александр Федорович.
Гриша даже привстал от радости: его учитель находит в себе силы хотя бы говорить о побеге.
– На подготовку дня три уйдет, – прошептал кто-то.
– Ни одного дня! – возразил Зайцев. – Бежать, пока они здесь ничего не оборудовали со своей проклятой аккуратностью!
– Правильно! – согласился Моцак. – Они обязательно поверх ограды натянут колючую проволоку или, еще хуже, электроток!
– Заведут собак, а самое главное, осветят лагерь, – добавил Зайцев. – Разве это не ясно?
– Что же вы предлагаете, Зайцев?
– Бежать немедленно! Кирпичами забросать часовых двух вышек, выходящих в сторону болота. Кто согласен на эту операцию, отправляйтесь ползком к первой казарме. Там со стороны ворот – куча кирпича.
– Видел, – ответил глухой, простуженный бас.
– Видел? Это ты, Бугров? Значит, поведешь людей?
– Поведу.
– С кирпичами подползайте к вышкам и ждите сигнала. Как заиграет скрипач… А ты постарайся заиграть как можно громче, – обратился комиссар к Грише. – На стены ограды будете подсаживать друг друга. Откроют пулеметный огонь – все равно нужно бежать до последней возможности…
– Я видел возле погреба доски, – подсказал кто-то… – Может, их положить как трапы и перебегать через ограду?
– Солодов, это ты? – окликнул комиссар. – Бери двадцать человек и – за досками. Отправляйтесь!
– А мы вас понесем, товарищ комиссар, – сказал кто-то в углу.
– Это Синьков? – спросил Зайцев. – Ты первым бросишься к ограде и поможешь больным. А меня вынесут другие.
Грише почудилась в голосе комиссара неискренность. Видно, сам он и не собирался отсюда бежать, зная, что не жилец на белом свете.
– Больше никаких разговоров. Готовиться молча, быстро, осторожно, – четко прозвучали последние слова комиссара.
И опять в лагере тишина. Слышны только стоны раненых да сонные выкрики.
В полночь под каменной стеной ограды вдруг заиграла скрипка. И тут же грянуло «ура». На южных вышках ударил пулемет. Но стрельба сразу утихла: пленные сбили пулеметчиков градом кирпичей.
Люди полезли через стену, как на приступ. Побежали по доскам, поднятым одним концом на стену. Доски трещали, ломались, перегруженные. Южная стена шевелилась, как живая.
С двух других вышек открыли огонь сначала по стене, а потом и по всей южной части лагеря.
Завыла сирена. Во двор ворвались три грузовые автомашины. Из автомашин выскочили несколько десятков солдат с автоматами. Стреляя на ходу, немцы двинулись цепью к южной стене.
– Вперед! – стараясь перекричать и стрельбу, и рев тысячной толпы, кричал своим басом Бугров. – Товарищи, вперед! Теперь не помилуют!
Прибыли еще пять автомашин. На южных вышках ожили пулеметы. Кинжальным огнем остановили они поток перебиравшихся через стену людей.
Немцы согнали в угол двора возле главных ворот всех, кого застали у южной стены, кто убежать не успел и остался в живых.
Утром этот угол отгородили колючей проволокой в три ряда.
К полудню фашисты согнали всех пленных к южной стене, где еще не были убраны трупы. Лицом к стене выстроили в колонну по десять и долго молча прохаживались вдоль строя. Видно, хотели психически воздействовать на пленных, сделать их свидетелями кровавой расправы с беглецами.
Часа через два явился начальник лагеря. Лицо у него было белое, холеное и казалось даже благодушным: оно не выражало ни злобы, ни раздражения. Спокойным, тихим голосом он что-то сказал бежавшему за ним рысцой угодливому человечку в черном костюме и огромных роговых очках.
– Господин комендант приказывает, – не по росту зычным, далеко слышным голосом закричал переводчик. – Всех, кто во время массового побега был захвачен у стены, расстрелять. Сейчас дежурный будет считать по порядку. Каждый десятый должен выйти из строя и отправиться к воротам. Пойдете рыть яму.
Когда Гриша подал сигнал к бегству, сам он находился под стеной, рядом с Александром Федоровичем и Зайцевым, и, конечно, мог бежать в числе первых, тем более, что лишь в трех-четырех метрах от него была поднята на стенку широкая толстая доска. Он помог учителю взобраться на эту доску, но потом его прижали к ограде. И он смог выбраться из кучи убитых и раненых только тогда, когда прекратилась стрельба. И сразу же попал в число тех, кого, избивая автоматами и винтовками, немцы сгоняли в угол. Скрипка, завернутая в тряпку, чудом уцелела. И это было единственное, что связывало его с прошлым, со всем тем, что происходило в его жизни до этой кошмарной ночи.
Гриша молча сидел в толпе смертников, думая только о том, что случилось в минувшую ночь. Он не в состоянии был думать о себе, о своем будущем, о том, что его расстреляют. Он даже с открытыми глазами видел все случившееся ночью, слышал стоны, крики смертельно раненных. Ему казалось, что он теряет рассудок и то куда-то проваливается, то, наоборот, поднимается вместе с нарастающим в голове ревом, стрельбой и свистом…
В закутке у самых ворот он увидел еще одну загородку из колючей проволоки. Подошел ближе. В закутке лежало трое умиравших от ран пленных. Среди них – комиссар Зайцев. Широко разбросав руки и ноги, он, казалось, уже не дышал. Над запекшейся раной под правой рукой надоедливо роились мухи. И у него уже не хватало сил их отгонять. Гриша остановился возле самой проволоки; и ему вдруг показалось, что из огромной раны комиссара что-то вылезает… В голове у юноши помутилось. Но присмотревшись, он понял, что это сгусток запекшейся крови вздрагивает от судорожного дыхания.
– Отойди от проволоки! – посоветовал кто-то из пленных, лежащих под стенкой. – А то сам туда попадешь.
– А-а-а, музыкант, – скосив глаза на Гришу, простонал Зайцев. – Жаль, что ты не успел. Жа-аль…
Услышав голос Зайцева, Гриша невольно еще больше подался вперед и быстрым шепотом спросил:
– Товарищ комиссар, вам чего-нибудь надо? Воды принести?
– Ничего уже не… Ничего… Впрочем, – комиссар поднял было голову и, тут же уронив ее на землю, умолк.
Гриша решил, что он умер. Глубоко запавшие, в черных подковах глаза были закрыты. Рот полуоткрыт. Вдруг судорожно вздохнув, комиссар повернул голову и, глядя на кучку камней, видно давно еще заготовленных для ремонта мостовой, попросил:
– Принеси булыжник. Потяжелее.
«Да! Как это я не догадался! – мысленно тут же упрекнул себя Гриша. – Ведь ему так неудобно лежать! Ничего нет под головой…»
– Товарищ комиссар! Так я вам что-нибудь мягкое под голову… Шинель или вот мой пиджачок…
– Булыжник! – нетерпеливо перебил Зайцев.
Гриша послушно направился к куче камней.
Выбрав покрупнее камень, он понес Зайцеву.
– Подкати ногой, чтобы фашисты не заметили! – с трудом вымолвил Зайцев.
Серый, с черными прожилками камень, который Гриша, положив на незапретной зоне, толкнул ногой, подкатился к руке умиравшего.
– Спасибо, – простонал тот. – Уходи, музыкант. – Комиссар всем лицом сморщился от боли, но все же повернулся на бок и подложил себе камень под голову. – Уходи! И постарайся выбраться отсюда. Ты молод. Еще сможешь послужить людям, которые будут бороться с фашистами, будешь сам бить захватчиков. Весь народ поднимается на борьбу. Если вырвешься, постарайся пробраться в какой-нибудь большой город – Брест, Пинск или Гомель. Попытайся как-нибудь устроиться. Успеха тебе, музыкант!
Гриша слушал, и в голове его мелькали варианты побега из лагеря. Он готов был сейчас же попытаться осуществить один из этих планов. Но из калитки железных ворот вышел фашистский офицер с орденами на груди. Пришлось отойти к стенке, прижаться, стать незаметным.
Может быть, надо было скрыться за казармой, но уйти совсем от умирающего Гриша не мог. Присев среди других пленных, расположившихся, как на длительном привале, Гриша, не отрывая взгляда, смотрел на комиссара, ставшего ему теперь самым дорогим человеком. Гитлеровец прошел вдоль колючей проволоки, мимо Зайцева. Потом вдруг остановился и, перешагнув через проволоку, подошел к неподвижно лежащему красноармейцу. Толкнул его носком сапога. Поняв, что пленный умер, быстро направился прочь. И когда фашист проходил мимо комиссара, тот весь как-то собрался, подтянулся ближе к дорожке, напружинился всем телом и обеими руками схватил гитлеровца за ногу. От неожиданности тот упал головой к ногам Зайцева.
Гриша привстал от удивления. Да и другие пленные следили за комиссаром, затаив дыхание.
А Зайцев, собрав последние силы, поднял обеими руками камень. И этим камнем, вкладывая в него остаток всех сил, всей своей ненависти, проломил голову поверженному врагу. Одновременно с камнем Зайцев и сам навалился на фашиста.
– Еще одного! – вырвалось из его груди вместе с последним вздохом.
Он не убил. Он только ранил. Но умер в сознании, что уничтожил еще одного фашиста.
Одни позавидовали комиссару. Другие безмолвно, в душе поклонились. Третьи отвернулись, чтобы не быть свидетелями, если начнутся допросы.
Из ворот с криком бежали охранники.
Гриша поскорее вошел в толпу пленных, которые шарахнулись в угол. Но тут же чуть не упал от какой-то тяжести, обрушившейся ему на плечо. Оглянулся – это немец ударил его прикладом и заорал, свирепо глядя в лицо:
– Цурюк!
Только теперь стало ясно, что смертников выгоняют из лагеря. Спасаясь от побоев, Гриша втиснулся еще дальше в толпу, хлынувшую в широко распахнутые ворота. Охранники свистели, зычно покрикивали, направо и налево били прикладами, пинали падающих, а в тех, кто не мог быстро встать, стреляли, а бегущих следом заставляли тащить убитых.
За воротами, на площадке, окруженной сплошной цепью полицаев, пленным приказали раздеться догола и построиться в колонну по восемь.
Гриша сделал то, что делали все: разделся, бросил свою одежду в общую кучу и вернулся в строй. Но тут же по плечу его так ударили чем-то тяжелым, что он присел, теряя сознание. Второй удар снизу заставил его подняться.
– Это что у тебя? – закричал на него полицай, ударив дулом винтовки в грудь, к которой Гриша прижимал завернутую в тряпицу скрипку.
И только теперь Гриша понял, какой нелепостью кажется со стороны, что он до сих пор не бросил свой инструмент.
– Что это у тебя? – во всю глотку повторил свой вопрос полицай.
– Скрипка, – тихо ответил Гриша, прижимая к груди инструмент, и, холодея, подумал:
«Узнали, что я подал сигнал!»
– И на том свете играть собираешься? – Полицай загоготал и вдруг неожиданно посерьезнел: – А ты что, хорошо играешь?
– Говорят, хорошо, – кивнул Гриша.
– В ресторане сумеешь играть?
– В ресторане? – вскрикнул от радостной неожиданности Гриша и, словно наяву услышав недавнее наставление Зайцева, смело соврал: – Я целый год играл в Пинске.
– Ну а теперь будешь пилить в Бресте, там мой брат открыл ресторан. Одевайся! Да рванья не бери. Вон там в куче костюм лежит, новый. Живей, живей! – торопил полицай, но ни разу не ударил.
Гриша удивлялся такому повороту судьбы и дрожащими руками механически выполнял приказания.
Подошел полицай постарше и ростом побольше и спросил первого, чего он тут мешкает. Тот, приподнявшись на носках, что-то шепнул на ухо. Старший удивленно посмотрел на Гришу и одобрительно улыбнулся:
– Ты даже из свинячьего дерьма умеешь выжать шнапс! – с завистью сказал он и отошел.
Вечером на другой день Гриша играл уже в брестском ресторане в паре с баянистом. А полицаи, продавшие его хозяину ресторана, до полуночи пили, ели и все покрикивали:
– Музыкант! Мы тебя спасли! Теперь ты наш, собственный! Играй нам! Играй всю ночь!
Скрипка стонала, голосила, рыдала. Скрипка расплачивалась за свое спасение…
Был полдень. Лодка тихо причалила к заросшему густым лозняком берегу графского озера.
– Соня, ты лежи, на рыбок любуйся, вон их сколько вьется. А я пойду, может, своих увижу, – наказывала Олеся подруге, выходя на мшистый, болотный берег.
– Будь осторожна. Не смотри, что имение это в глухом лесу, фашисты могут превратить его в госпиталь или охотничий дом, – ответила девушка, неподвижно лежавшая на дне лодки с перебинтованной распухшей ногой.
– Сонечка, за эту неделю ты меня сделала почти разведчицей, – шутливо отозвалась Олеся, – так что не бойся. Я скоро вернусь.
Пробежав по болотцу, Олеся выскочила на приподнятый песчаный берег, поросший старым сосновым лесом. Сосны стояли высокие, стройные, ствол к стволу.
Лес молчал.
Только изредка раздавался высокий, хрустальный звон сухого обломившегося сучка сосны. И этот чистый музыкальный звон радостно отдавался в озере. Широкое голубое зеркало воды, казалось, вздрагивало, чутко прислушиваясь к жизни леса, со всех сторон заглядывавшего в недосягаемую, холодную глубину озера. А звон обломившегося сучка, пронесшись над озером, медленно таял на том берегу не то в сизых, проросших густыми туманами камышах, не то в непролазной, хмурой чащобе лозняка. Остановившись под развесистой березой, Олеся внимательно обвела глазами озеро. Нигде никаких признаков жизни.
На той стороне, среди густо белеющих стволов берез, угрюмо, загадочно чернел дом Крысолова. Большие окна и двери крест-накрест заколочены досками.
Светлый графский палас как корабль, выброшенный волной на берег. В нем и окна, и двери были раскрыты настежь. Никому, кроме ласточек да летучих мышей, он теперь не нужен.
Дом управляющего, где жила когда-то Олеся, видно, тоже пуст, хотя окна и голубые ворота с калиткой не заколочены.
На островке пусто, уныло. Между березками, больше прежнего склонившимися к воде, чернел след костра, который разжег Савка в ночь перед войной.
С горечью вспоминала Олеся последнее катанье с Гришей на лодке, его мечты о музыке, горячий шепот в березняке…
Все кануло…
Олеся смотрела в воду, на темно-зеленые былинки куги, росшей у самого берега. Высокие, как камыш, безлистые круглые стебли чуть-чуть покачивались. В воде эти стройные былинки отражались змейками, все время извивающимися и уходящими вглубь…
«Тишина, красота, будто бы и нет никакой войны», – подумала Олеся и направилась к дому с голубыми воротами.
– Стой! – неожиданно раздался строгий окрик где-то совсем рядом.
Вздрогнув, девушка застыла на месте.
– Куда идешь, девошька? – с акцентом спросил неведомый голос.
– Да я… я тут жила. Кое-что забыла… Хотела забрать. Ну, а если нельзя, то я… – испуганно проговорила Олеся и повернулась, чтобы идти назад.
– Сабсем немножко обожди! – тише заговорил тот же голос, и из-за стожка сена, сложенного в зарослях березняка, вышел красноармеец в пилотке набекрень, в старой выцветшей гимнастерке.
У Олеси отлегло от сердца: она боялась, что это немец, а это был киргиз или узбек.
– Испугал! Думала, немец! – махнула она рукой и неожиданно для себя улыбнулась: – Дядя Антон тут?
– Товарищ Миссюра? – переспросил боец и тоже улыбнулся.
Олеся удивилась этой улыбке. Она думала, что у этого человека все такое же черное, как лицо да волосы, а оказалось, что зубы у него белее сахара и все ровные.
– Давно знаешь Миссюра? Хорош товарищ, хорош!
Незнакомец так звонко прищелкнул языком, что Олеся невольно усмехнулась: никогда она не слышала, чтоб так щелкали. Теперь она нисколько не боялась этого парня и даже осмелилась спросить, как его зовут.
– Омар звать, – с готовностью ответил боец, – фамилия Темиргалиев. Отчества у казахов не бывает, – и в свою очередь спросил, кто она такая, что знает Миссюру.
И когда Олеся коротко рассказала о себе, Омар трижды свистнул. Тотчас скрипнула калитка, и Олеся от неожиданности всплеснула руками:
– Санько!
Долго стояли, крепко держа друг друга за руки. Молча смотрели в землю. И думали обо всем горьком, что произошло с начала войны…
Потом так же молча Санько повел Олесю во двор.
– Хорош девошька! Ни один лишний слова не сказал! – вслед им произнес Омар.
Олеся вошла в знакомый дом, в котором не была с начала войны. На кухне пахло теплом недавно протопленной печи. Над чугуном, стоявшим на шестке, роились мухи. Дверь в горницу была полуоткрыта. Олеся заглянула в щелку, не решаясь идти дальше.
В горнице, в дальнем углу, на старом диване лежал человек с забинтованной головой и руками, обмотанными разным тряпьем. Рядом с ним на табуретке сгорбившись сидел Антон Миссюра. В коленях у него был зажат чугун. Большой деревянной ложкой Миссюра кормил неподвижно лежащего человека. Открыв дверь, Олеся тихо окликнула Миссюру по имени. Увидев ее, Антон чуть не выронил чугун.
– Олеся, голубонька, это ты? Проходи, садись. А я вот заместо сиделки… Да ты ж его знаешь…
Олеся подошла к дивану, внимательно всмотрелась в заросшее лицо. Кровоподтеки под глазами и огромный синяк на правой скуле делали это лицо каким-то расплывчатым, неопределенным.
– Не трудись, Олеся, я и сам себя не узнал бы, – тихо, но внятно проговорил больной.
– Александр Федорович! Вы живы! Александр Федорович! – Олеся припала на валик дивана и заплакала. – А где же… а где ж…
– Гриша? – Моцак сразу догадался, о ком хочет спросить девушка. Лишь на мгновенье задумавшись, сказал: – Скоро и он прибьется к нам.
Олеся благодарно и радостно посмотрела заплаканными глазами:
– Живой он, правда? Где же он?
– Потерпи, заявится.
– Бронь боже! – замахала Олеся руками. – Только бы не пришел прямо в Морочну. Там же Сюсько!
– Гриша все знает, – успокоил ее Моцак и коротко рассказал обо всем, что произошло с ними со дня отъезда из Морочны.
Миссюра со всей щедростью набрал полную ложку каши и старался всю ее сразу впихнуть в рот Моцаку.
– Дайте я! – не вытерпела Олеся. – Кто ж так кормит!
Миссюра охотно уступил свое место и виновато развел руками:
– Так я ж не учился ни на врача, ни на сестру милосердия, да и руки у меня не такие, чтоб за больными ходить.
– Не слушай его, Олеся. Руки у него нежнее женских, не смотри, что большие да грубые. Второй раз он меня спасает, – благодарно посмотрев на Миссюру, сказал Александр Федорович. – Только первый раз, при панах, я сам ложку держал, а теперь заявился к нему чуть тепленький.
– Алэ, – подтвердил Миссюра. – Ночью чую, что-то скребется. Ну, думаю, добрался и до меня новый пан комендант. Выхожу – около дверей человек лежит. А ни слова, ни полслова. Внес. Он весь в крови и глаз не видно – от бороды до виска сплошной синяк. Это сейчас уже отошло, а то ж он совсем глаз не открывал.
– Почти вслепую добирался, – подтвердил Моцак. – В правом глазу была маленькая щелка. Открою, присмотрюсь и ползу от дерева к дереву. Трое суток полз по берегу озера.
– А до озера ж как вы? – вытирая крупные капли пота со лба Моцака, скороговоркой спросила Олеся, хотя и знала, что сейчас ему лучше лежать молча.
– До озера плыл по канаве, лежа в лодке. Одной рукой греб.
– Как же можно лежа и одной рукой? – опять не удержалась Олеся.
– Беда всему научит…
– Так от же ж принес я его на диван, – продолжал Миссюра. – А у меня таких перебывало уже немало: все тряпье изодрал на перевязки. На мне осталась последняя сорочка, да и то самая старая. Ну кое-чем перевязал и этого. Молоком попоил. Корову мэтээсовскую я оставил у себя, вот и пригодилась. Три дня молоком из бутылки отпаивал… Думал, не выживет. И только на четвертый день, когда он помаленьку заговорил, узнал я, кто это.
– Олеся, где Анна Вацлавовна, Игорек? – спросил Моцак.
Олеся ждала этого вопроса. Но, увидев предостерегающий жест Миссюры, поняла, что сейчас говорить о гибели Игоря не время.
– Анна Вацлавовна уехала к отцу. Там безопасней. – И Олеся коротко рассказала о том, как ездила с Анной Вацлавовной искать Гришу и его, Александра Федоровича.
Тяжело вздохнув, девушка закончила:
– Некуда мне теперь возвращаться!
Узнав, что жена пристроилась у родных, и уверенный, что сынишка с нею, Моцак облегченно перевел дух:
– Добрая весть что бальзам на мои раны.
– У вас и ноги изранены? – спросила Олеся.
– По мне танк проехал. Уцелел я только потому, что лежал в глубокой, узкой канавке. А во время побега из Картуз-Березы еще и ранило в ногу.
Олеся откинула одеяло.
– Заражение крови! – задыхаясь, словно в комнате вдруг не стало воздуха, прошептала она и начала ощупывать опухшее и посиневшее колено Моцака. – Лошадь есть? – обратилась она к Миссюре, угрюмо стоявшему возле дивана.
– Зачем?
– У меня в Морочне красный стрептоцид есть. Ну да я и пешком… – Она метнулась к двери.
– Стой, Олеся. Нас тут таких еще пятеро, – остановил ее Моцак.
– Пя-те-ро? – удивленно протянула Олеся и подумала об оставшейся в лодке Соне.
– Олеся, я слышал, что ты спасла Санька Козолупа, – сказал Моцак. – Не каждый мужчина нашел бы в себе мужество так поступить.
– Ну, чего там! – отмахнулась Олеся.
– Но сейчас меня вот что интересует: как, по-твоему, этот Сюсько любит тебя или пристает просто потому, что красивая?
Олеся смутилась, сбивчиво рассказала, как еще при поляках Савка начал за нею ухаживать, не давал прохода, хотя она не раз откровенно говорила ему, что терпеть его не может…
– Олеся, – Моцак сурово посмотрел девушке в глаза. – А вот теперь наберись сил и… потерпи. Здесь сейчас нас, тяжело раненных, шестеро. А может случиться, будет больше… И твоя помощь очень нужна будет всем нам.
– Что же мне делать?
– А то, что и всем нам, – ответил Александр Федорович и обратился к Миссюре: – Дайте ей почитать листовку.
Миссюра достал из-под дивана листок бумаги с мелкими черными буквами и подал Олесе.
– Может, лучину запалить? – спросил он Моцака. – А то ж темно.
– Не нужно! – впившись острыми глазами в листовку, отмахнулась девушка. – «…В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные и пешие, создавать диверсионные группы…» – читала полушепотом Олеся. – Александр Федорович, что такое диверсионные группы?
– Партизанские группы, которые будут уничтожать все, что может пригодиться врагу для войны: взрывать поезда, машины, заводы, жечь и уничтожать военное имущество, убивать самих фашистов.
– Понятно, – кивнула она и продолжала читать: – «…Диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны повсюду и везде…»
– Обрати внимание, Олеся, на подчеркнутые в конце слова. Эта война является великой войной всего советского народа против немецких войск.
– Значит, Москва не сдалась?
– Что ты! Москву никогда не сдадут!
– Ой, как здорово! А то они все кричат по радио, что Гитлер уже чай пьет в Кремле.
– Этому никогда не бывать! – воскликнул Моцак. – Говорят, что фашисты заигрывают с мирным населением: открывают школы, больницы. Так вот, если и ты хочешь бороться против захватчиков, иди на свой пост, в больницу.
Олеся вскочила:
– Работать на фашистов?!
– У фашистов, – поправил Моцак.
– Поняла, – кивнула девушка, – там работать, чтобы помогать нашим.
– Тебя долго не видели в селе? Могут спросить, где была.
– Скажу, ходила в Ровно, хотела там устроиться на работу, – с готовностью ответила Олеся.
– Правильно, – одобрил Моцак, – только сюда больше не приходи. Омар у тебя будет связным. Договоришься с ним, где встречаться… Иди, дочка! Воюй! Ты будешь одна среди врагов, поэтому будь осмотрительней: хитри, изворачивайся. Веди себя так, будто бы ты за них. Помни, ты обманываешь только врага, обманываешь ради нашей победы.
Олеся встала. Но не уходила. Моцак заметил какую-то нерешительность и спросил:
– Ты что-то все хочешь мне сказать, но, вижу, не решаешься. Что у тебя?
– Да мне посоветоваться надо…
– Так я пойду… – решив, что он тут лишний, сказал Миссюра и быстро направился к порогу.
– Нет, нет! Не уходите! – замахала Олеся. – Я и хотела только с вами об этом поговорить, ну да вдвоем вы лучше придумаете, что мне делать.
И Олеся рассказала о подобранной ею в лесу радистке, тяжело раненной в ногу.
– Ходить Соня если и сможет, то разве только через год, – заключила Олеся. – Вот я и думаю: устроюсь в больницу и возьму ее к себе.
– Нет. Это не годится! – возразил Моцак. – Чего же сразу о ней не сказала?
– У вас и своих забот хоть отбавляй!
– Где она?
– Здесь, на озере.
– Антон Ефимович, возьмите и эту девушку в свой лазарет. У нас ей будет безопасней, особенно когда переселимся отсюда. А ты, Олеся, переночуй и утром отправляйся в Морочну. Да сразу в село не иди. Сначала поговори с людьми на хуторах, разузнай, как там, что. Если почувствуешь опасность, сразу возвращайся. Если мы к тому времени переселимся в более надежное место, здесь в лесу мы оставим своего человека. А удастся устроиться, сразу Омару сообщи, как и что. Ну, не боишься?
– Боюсь! – нехотя призналась Олеся. – Савку боюсь, пана Суету. – Однако решительно добавила: – Боюсь, но все сделаю, что надо!
– Вот так и рождается героизм, – задумчиво заметил Моцак. – Боюсь, но сделаю все, что требует Родина!
Поздним вечером Миссюра, Моцак и еще шесть мужчин и одна женщина на большом човне перебрались в болотную глухомань, в непроходимые болотные топи, куда попасть можно было только по протоке, затерявшейся в непролазном лозняке.
* * *
«Домашняя думка в ярмарку не годится», – вспомнила Олеся любимую материну пословицу, глядя на бумажку со свастикой на середине большой немецкой печати.
Все планы, какие строила Олеся, возвращаясь в Морочну после встречи с Моцаком, рухнули. Идя в село, Олеся думала о том, что в больнице все же будет не на виду, что там ей с Сюсько часто сталкиваться не придется, а если он когда и заявится, всегда можно найти предлог уйти от него. Но, возвратись домой, Олеся увидела на столе повестку, в которой ей приказывалось немедленно явиться в районную управу. «Зачем в управу?» – недоумевала девушка, чувствуя, как неожиданный холод сковывает все тело. Была уже полночь, но Олеся решила весь чемоданчик с медикаментами, какие успела припрятать перед приходом немцев, отнести в условленное место, а то ведь неизвестно, что с нею сделают завтра в управе…
Из лесу она возвратилась только под утро. И сразу же, одевшись похуже, обув старенькие, рваные ботинки, непричесанная, пошла в управу. Полицейский, дежуривший у входа, глянул на повестку и отвел Олесю к самому голове районной управы Якову Шелепу.
Районный голова, увидев робко остановившуюся у дверей девушку, подчеркнуто строгим, начальническим тоном приказал подойти ближе и сесть.
– День добрый… – по старой привычке Олеся чуть не назвала районного голову Суетой, но вовремя спохватилась и покорно села на самый краешек мягкого, обитого кожей кресла.
– Ну, как живется при новой власти? Это что ж, подруги по комсомолу увезли все твои наряды? – участливо спросил пан голова и, видя, как побледнела девушка, успокоил: – Да ты не бойся, комсомолом я тебя не упрекаю. Знаю, что пошла не по доброй воле.
– Пан голова, так то не правда, что всех комсомольцев будут вешать?
– Ну что ты, что ты! – Шелеп встал и, обойдя длинный, накрытый зеленым сукном стол, остановился за спиной Олеси: – Вешать таких красавиц? Наоборот, мы дадим вам настоящую жизнь. Ну-ка, идем вот сюда, – гостеприимно пригласил пан голова. Олеся подошла к большому зеркалу в гардеробе. – Вот, вот, посмотри на себя! – с иронией сказал Шелеп. – Повернись кругом. Довольна?
Олеся в недоумении пожала плечами и спросила, чем она должна быть довольна или недовольна.
– Своими лохмотьями! – отрезал пан голова. Он написал несколько слов и подал Олесе бумажку с печатью: – Пойдешь на склад. Выберешь себе десять платьев. Только самых лучших.
– Зачем мне столько? Чего вы от меня хотите?
– Не волнуйся, – подчеркнуто любезно протянул Шелеп. – Мы же с тобой старые знакомые. Я тебе верю. Вот и решил взять к себе на работу.
– На какую работу?
– Я беру тебя своим секретарем. А, сама понимаешь, сюда будет приходить немецкое начальство, которое любит все красивое. Вот почему я и хочу видеть тебя всегда веселой и нарядной. Кстати, и жить будешь рядом со мною. Там я уже поселил свою машинистку. Дом охраняется, вы будете в безопасности.
Вот как повернулось дело. Хотела меньше быть на виду, а получилось наоборот…
– Тебе все будет дозволено. Кроме одного… – пан Суета многозначительно поднял тонкий, обтянутый желтой, морщинистой кожей указательный палец: – Из села выходить не разрешается. Иди и сейчас же переселяйся.
Олеся не знала, что ей дальше делать: оставаться в Морочне или нет. И думала только о том, чтобы поскорее как-то сообщить все это Александру Федоровичу.
Выйдя из районной управы, Олеся вспомнила рассказ Санька о его встрече с Гришиной матерью на пепелище и решила, что этой женщине можно довериться. Задворками Олеся быстро пошла к ней.
Оляна молча выслушала просьбу Олеси и тихо сказала, что этой ночью она и так собиралась сходить к Антону. Утром у колодца она обещала передать Олесе ответ Моцака.
– Ой, то ж тяжко – за ночь туда и обратно! – заметила Олеся.
– А кому теперь легко, голубонька? – только и ответила Оляна.
Утром возле колодца Оляна прошептала:
– Оставайся в управе. Старайся работать так, чтоб тебе доверяли. Все, что узнаешь интересное для наших, передавай мне.








