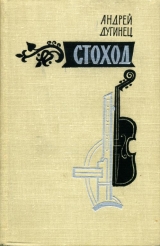
Текст книги "Стоход"
Автор книги: Андрей Дугинец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)
– Вот так пройдем через всю Чертову дрягву! – Антон взмахнул рукой напрямик. – И по этой новой речке вода из трясины сама уйдет в Стоход. А чтоб она не ленилась, мы и Стоход углубим.
– Так и зажурчит? – радостно, совсем по-детски подхватил какой-то облинявший курносый дедок.
– Ну а теперь мы займемся устройством жилья, – сказал Антон и, выключив мотор, перешел на второй понтон, стоявший позади экскаватора. – Тут построим себе домик и начнем войну с Чертовой дрягвой!
– Так это мы сами смастерим, зачем вам терять время! – решительно заявил Егор Погорелец. – Правда, мужики?
– В два счета! Только пусть крепче берутся за Чертову дрягву.
Среди любопытных был и Крысолов со своим неразлучным чертиком в зубах. Увидев, как начинаются работы по осушению болота, он понял, что дело затевается серьезное и бороться с ним будет не легко. А бороться надо. На второй день после опубликования постановления правительства об осушении и освоении Полесской низменности он получил из Берлина шифровку, в которой категорически требовалось озера его подшефной области сохранить недоступными для советских танков. Крысолов догадался, что в будущем предполагается высадка десанта на озерах, и сразу же начал принимать все меры, чтобы выполнить и это задание.
«Если Чертову дрягву осушат и углубят русло Стохода, то графское озеро обмелеет и станет непригодным для посадки гидросамолетов, – размышлял Крысолов. – Да, придется поломать голову…»
Оляна стояла в густом, белесом лозняке и ждала, пока разойдутся все, кто пришел или приплыл смотреть на экскаватор. Ей хотелось скорее увидеться с Антоном, поговорить наедине, порадоваться, что никто теперь не назовет любимого человека чудаком, неудачником и что с этого дня к нему вернется его добрая, звучная фамилия – Миссюра, Антон Миссюра.
Долго уплывали вверх по Стоходу переполненные лодки. Казалось, им не будет конца. И откуда их столько набралось!
Наконец вереница лодок скрылась за изгибом реки. Оляна осторожно выглянула из зарослей. На речке никого. Был полдень. Утомившееся солнце бросало на воду широкую белую дорожку. На этой дорожке вдруг показалась еще одна лодка – большой, уже почерневший от времени човен.
«Это он, Антон!» – обрадовалась Оляна и скрылась в своей засаде. А когда лодка поравнялась с лозняком, окликнула его, сгорая от стыда, как в молодости.
Услышав ее зов, Антон разогнал лодку так, что она чуть не до половины выскользнула на мягкий торфянистый берег.
– Оляна! – Выскочив из лодки, Антон обнял ее своими огромными железными ручищами…
Оляна прижалась к нему со всей страстью, накопившейся за долгие годы одиночества, поцеловала жадно и щедро. Губы у нее были полные, огненные…
Солнце клонилось к закату, когда Антон и Оляна сели в лодку, до половины наполненную сеном.
– В дороге мы спали прямо в лодке, на сене. Мягко и тепло, – пояснил Антон, хотя Оляна ничего об этом не спрашивала.
Она вообще ничего не могла говорить после случившегося на берегу. Ей до жару в голове было стыдно, что все это произошло среди бела дня, под открытым небом.
Лодка вошла в залив, окруженный прохладным, терпко пахнущим ольховым лесом. По берегам рос высокий, густой камыш.
– Глянь, курочка! – прошептала Оляна и показала рукой на отмель, заросшую кувшинками да ряской. – Болотная курочка.
– Где? – Но тут Антон и сам увидел крохотную рябенькую птичку, преспокойно, как в гнезде, сидевшую на листе кувшинки. Он направил лодку к птичке. А та сидит себе и ни-ни.
– Хозяйкой в заводи чувствует себя! – с радостью за птичку, все так же тихо сказала Оляна.
– Хозяйка из нее! Легче цыпленка, раз держится на таком крохотном листке.
– Какая ни есть, а хозяйка в своем уголке!
– Может, подбитая? Почему не убегает?
– Поймай! – попросила Оляна и робко добавила: – На счастье. Я загадала.
Лодка бесшумно подплыла к птичке. Антон протянул руку.
Но крохотная хозяйка залива вдруг, в один миг, исчезла. В глазах Антона и Оляны, как вспышка молнии, остался лишь след ее длинных, спичечно тоненьких ножек.
Первые прыжки резвая курочка сделала по маслянисто-зеленым листьям кувшинок, разбросанным на поверхности воды, как просяные блины. Потом порхнула по воздуху, едва касаясь густой ряски, росшей под берегом. Дальше, трепеща темно-серыми крылышками, прочертила зигзаги прямо на воде. И последней точкой опоры ей послужила белая как снег, царственно пышная лилия, цветущая под кустом широколистого рогоза.
Лодка подплыла к лилии, которая еще качалась от легкого толчка тоненькой птичьей лапки. Но никакого следа на цветке не осталось. Да и нигде уже не было следа от маленькой притворы и обманщицы.
– Поймал? – лукаво прошептала Оляна и бросила на Антона стыдливый, но по-прежнему обжигающий взгляд.
– Зря вспугнул, – раскаялся Антон.
– Вот какое у нас с тобой счастье! – убежденно заключила Оляна и вздохнула тяжело, обреченно. – Было и вдруг нету. Даже следа не осталось.
– Что ты! Ерунда.
– Не, Антон, не ерунда. Это плохая примета. Значит, больше мы не будем с тобой вместе.
– Не будем вместе?! Э нет! Теперь я тебя не отдам никому. – И, бросив на борт весло, Антон начал целовать ее еще горячее, ненасытнее, чем на берегу.
Лодка застряла в камышах. А весло соскользнуло в воду и поплыло по течению…
* * *
– Перестань! Не до музыки! – едва переступив порог, сердито буркнул дед Конон.
Гриша покорно опустил смычок и, удивленно пожав плечами, спрятал скрипку в футляр, хотя ему необходимо было сегодня же проиграть все песни, которые завтра на концерте будет петь Олеся.
Ни на кого не глядя, Конон Захарович прошел в передний угол. Вовсю выкрутил фитиль в лампе. Сел за стол. Отодвинул огромный надрезанный каравай и разложил замусоленную, протертую до дыр газету с постановлением об осушении Полесской низменности.
На последней странице газеты Гриша заметил какой-то план, вычерченный карандашом, но не посмел спросить, что это такое, потому что дед, тяжело вздохнув и обхватив руками голову, сердито насупился.
Гриша терялся в догадках, что случилось. Ведь никогда, даже при панах, дед не запрещал играть. Наоборот, часто сам просил сыграть что-нибудь невеселое. И вдруг: «Перестань». Спрашивать бесполезно: по нахмуренным, как тяжелая дождевая туча, седым бровям видно, что ничего не скажет. Гриша повесил скрипку и сел на лаву. Сегодня лава была свободна. Обычно на ней по вечерам усаживается вся семья. В углу – Гриша со скрипкой. На середине – мать с прялкой, у самого порога – дед Конон. Сидя на низеньком треноге, он делал колодки для обуви. Это стало его обычным вечерним занятием с тех пор, как взялся за организацию сапожной мастерской. Целыми днями он обучал людей своему ремеслу и, конечно, уставал. Но всегда приходил домой веселый, жизнерадостный и, немного отдохнув, снова брался за работу. А сегодня даже не глянул на ящик с инструментами.
Что же случилось?
Ужинал дед неохотно. Так только, чтоб не приставали. А когда начали укладываться спать, куда-то ушел и вернулся только после первых петухов.
Утром, перед уходом в МТС, Гриша все же спросил, что приключилось. Но дед только рукой махнул. Однако горе его было так велико, что, когда внук ушел, он не вытерпел и поделился с дочерью:
– Землю у нас отнимают.
– Землю? Бог с вами! – Оляна отмахнулась, как от наваждения. – И скажете такое!
– Да ты сядь. Тут надо посоветоваться, а не руками размахивать.
Оляна не помнила такого случая, чтоб отец просил посидеть и мирно посоветоваться. Недоуменно посмотрела в его мрачные глаза и, предчувствуя недоброе, присела на лаву.
– Правду ж говорю, хотят нам нарезать участок в другом месте, а на старом канаву прокопать. После Чертовой дрягвы и Зеленый клин осушать собираются. А канава падает прямо через наше поле. Вот… – он показал на газете план осушительного канала.
– Тю на них! Мало им места для канавы?
– То же самое и я говорю. Только ж своего ума им не вставишь!
– А кто это там мудрует?
– Из райисполкома и двое приезжих.
– Э, так я думала то кто-то так. А то ж власть… – здраво рассудила Оляна. – Что ж мы тут можем? Берите в другом месте. Может, еще лучше земля достанется.
– Лучше свое латаное, чем чужое хватаное! Посеешь на чужом, а в случае чего… и останешься, на чем стоишь…
– А что еще может случиться?
– Сказано, баба! Что курица, дальше своего носа не копнет! – И, придвинувшись, отец прошептал: – Ходят слухи, что Украина отделится от России. А случись такое дело, то сразу нас чи германец чи другая держава к рукам приберет. Опять вернутся паны и со своей земли всех метлой… Вы, бабы, тут за горшками ничего не слышите…
– Боже ж мой. Опять паны? – побледневшими губами прошептала Оляна.
– Видно, не судьба нам жить по-людски…
– Что ж делать?
– Скорее распахать весь участок и посадить бульбу, – решительно рубанул рукой Конон Захарович. – Я понял вчера, что по засеянному полю проводить канаву не посмеют. А до осени, бо зна, что будет…
– Боже ж ты мой! – твердила Оляна.
– Надо сегодня ж посадить бульбу!
– Тато, может, отступиться? – тихо, несмело произнесла дочь.
Отец решительно встал:
– Где Грыць?
– Должно, в клубе. Там что-то готовится.
– Я пойду. Хай попросит коня в мэтээсе. Парой опашем за вечер и посадим под плуг.
Оляна хотела возразить. У нее все еще не лежала душа к затее отца. Ей хотелось крикнуть: не смейте втягивать хлопца в это дело. Хватит того, что хлебнул он при панах. Вступаясь за сына, хотелось заодно высказать все, что накипело в душе, сказать, что вся ее жизнь пошла прахом из-за какого-то ковалка земли, что и муж ее погиб из-за упрямства старика, который, как клещ в кожухину, вцепился в этот несчастный ковалок… И многое еще сказала бы в глаза отцу. Да не хватило духу: не привыкла она ему возражать, ведь все годы вдовства он был надежной опорой, любил внука да и ее по-своему жалел.
* * *
В самой середине урока музыки в дверь громко постучали. Никодим Сергеевич сам открыл дверь.
Еще за порогом сняв ветхий соломенный брыль, в кабинет вошел дед Конон. По решительности старика учитель музыки догадался, что тот пришел за Гришей. Любезно поздоровавшись с Кононом Захаровичем, учитель кивнул Грише, мол, иди поговори с дедушкой.
Но Конон Захарович ответил, что говорить им некогда, что есть важное дело, ради которого музыку пока что придется оставить.
– Да, да, – с готовностью согласился Никодим Сергеевич. – На час, на два ты можешь уйти, Гриша. Если дедушке надо помочь, то иди. Придешь попозже.
Конон Захарович виновато посмотрел на музыканта. Почесав пальцем серую, как сыромятина, лысину, выдавил:
– Оно-то часом тут не обойдешься, Я его на всю ночь беру.
– На всю ночь? – И без того белое сухое лицо Никодима Сергеевича побелело еще больше. Он поднял руки так, будто хотел сдавить себе виски. – Вечером у нас концерт художественной самодеятельности. Так сказать, проверка дарований. Гришу даже с работы отпустили на весь день.
Конон Захарович решительно повторил, что хочет забрать внука на ночь, чтоб вспахать поле.
Музыкант, ухватившись рукой за сердце, сел на стул и жестом попросил гостя тоже сесть, а Грише махнул, мол, иди погуляй.
Гриша вышел, оставив стариков одних.
– Сердце у вас неладное? – сочувственно спросил Конон Захарович.
– Лекарствами живу, – ответил Никодим Сергеевич, капая из пузырька на сахар зеленоватую жидкость.
– А семья, наверно, большая, всех обуть, одеть надо.
– Нет, это меня не беспокоит. У меня дочь – артистка, сын – режиссер. Жена тоже еще работает, преподает в музыкальном училище. Да и пенсия приличная. Ведь я сорок лет преподавал в музыкальной школе. Квартира у нас в самом центре Киева.
Дед Конон выпрямился и посмотрел на собеседника, как на чудака:
– Так чего ж вы из большого города, из теплой чистой хатки приехали в эту болотную вонь?
– Как вам сказать… – болезненно сморщившись и посасывая сахар, старый музыкант развел руками. – Я люблю путешествия, необычайные открытия… В детстве мечтал сделаться великим мореплавателем, открывателем новых земель. А когда подрос и узнал, что все земли на морях и океанах уже открыты, надолго разочаровался в жизни. С горя увлекся музыкой… И лишь когда перевалило за пятьдесят, узнал, что могу осуществить свою детскую мечту: стать открывателем…
Конон Захарович хотел что-то возразить. Но старый музыкант уже загорелся и скороговоркой рассказывал о том, как он месяцами ездил по стране в поисках музыкальных самородков, как из малышей, найденных в самых захолустных деревушках, вырастали замечательные музыканты.
– Всю свою страсть открывателя я отдал этому делу. Каждый найденный мною в народе музыкант приносил мне радость, пожалуй, не меньшую, чем новые острова мореплавателю. – Никодим Сергеевич уже забыл о своем больном сердце, крупными шагами бегал, метался по комнате и говорил, говорил.
– И в Харькове, и в Киеве есть мои питомцы. Я часто их слушаю. Когда стихает зал и раздаются быстрые шаги дирижера, я жду его, как родного сына. Мне хочется крикнуть всем сидящим в зале театра: «Это же я нашел его! Из глухой деревушки вытащил сопливым заморышем». А знали б вы, Конон Захарович, какое счастье испытываю, когда этот дирижер, прежде чем поклониться в зал, публике, низко, благодарно кланяется в сторону моей ложи, кланяется, даже когда там я не сижу.
Никодим Сергеевич остановился посредине кабинета и, откинув назад свою седую голову с высоким сверкающим лбом, мечтательно и сладко повторил:
– Так будет и сегодня перед началом «Снегурочки»…
Много людей повидал на своем веку дед Сибиряк, но с таким беседовал впервые. Далеко не все разбирал он в речи музыканта, но одно бывалый старик понял хорошо: человек этот влюблен в музыку так же, как сам дед Конон в свой ковалок земли. И это сближало их, роднило.
– Когда Полесье было освобождено от панов, я сразу же, несмотря на страшные угрозы врачей, поехал сюда. – Размахивая руками, будто бы дирижируя оркестром, седой, сухонький старичок говорил все громче и страстней: – Я был уверен, что в этом краю, воспетом Куприным и Короленко, найду самородок особенный, не похожий на все прежние!..
Он вдруг замолчал.
Конон Захарович поднял на него большие удивленные глаза:
– И что ж, нашли?
– Нашел.
Помолчали, словно оба с завистью прислушивались к веселым голосам молодежи в саду за стенкой клуба.
– Нашел! Такой самородок нашел, какой не снился ни одному золотоискателю. – Встав против Конона Захаровича, музыкант прямо посмотрел ему в глаза. – Дни и ночи учил я этого юношу в течение полугода. Сам себя проверял: не ошибаюсь ли по старости… Не обольщаюсь ли? Нет! Не ошибся! Это самая чуткая, самая музыкальная натура из всех, какие я встречал в своей жизни.
– И что ж из нее, той натуры, выйдет? – спросил дед Конон, когда музыкант замолчал.
– Могло бы выйти большое дело, бессмертное! – учитель задумался. – Да поздно я его нашел. Если б лет семь назад… И все-таки попробуем…
– Так вы это про Гришу? – вставая, проговорил дед Конон, и в глазах его отразились и радость, и испуг, и удивление.
– Да! Речь идет о вашем внуке, Конон Захарович, – почему-то с грустью ответил музыкант. – О нем.
– Так я что ж… я не знал… Тогда обойдусь. Конечно обойдусь… Я давно говорил, что ему надо уходить с земли. Не везет нам на земле. – И, несколько раз попросив прощения за то, что прервал занятия, дед поспешно ушел.
* * *
– И где вы ходите! – набросилась Оляна на возвратившегося отца. – За вами два раза от районного председателя приходили.
– От районного? – удивился Конон Захарович. – Чего я районному?
– А нигде ничего такого не говорили? – вкрадчиво спросила дочь.
– Да вроде бы ничего. – Старик задумался. – Ото ж только на болоте.
– А что там у вас вышло? – в ужасе прижимая руки к груди, спросила Оляна.
– Оно ж ничего особого и не вышло. Я только сказал тому болотному планировщику, что ляжу поперек своего участка и не дам копать канаву.
– Боже ж мой, боже! Грех с вами, да и только! Ну пусть уж с панами не мирились. Со стражниками грызлись. А это ж пришли свои – и тоже не ужились! Когда ж он будет, тот покой!
– Да ты постой, дай подумать.
– Чего тут думать? Чего думать? В Сибирь загонят!
– И то так. Пошел против власти. Политика. Самая настоящая политика, – старик почесал затылок. – Ну, ты не горячись… Дай чистое белье. На всякий случай переоденусь. Да в торбу еды какой… И пойду. Куда ж деваться? А Сибирь… Чего ж ее бояться? Сибирь – богатый край. Паши, сколько хочешь…
– Откажитесь вы от этой земли! Плюньте на нее. Просите в другом месте, только бы все тихо.
– Постой, – вдруг задумался старик. – Так районным председателем же теперь наш бывший учитель Моцак!
– Ну и что ж?
– Так он же меня знает! Пойду посоветуюсь с ним.
* * *
Дед Конон осторожно вошел в кабинет председателя райисполкома. Александр Федорович Моцак сидел за огромным дубовым столом и что-то писал. Дед остановился у порога, приглаживая рукой голову.
Председатель отложил ручку, вышел навстречу.
– Конон Захарович! Давно мы не виделись. – Моцак пожал руку старику, подвел его к массивному, обитому кожей креслу.
У деда Конона отлегло от сердца. Он смело посмотрел в такое же, как и прежде, сухое лицо Александра Федоровича и удивился, что одет тот в простой серый костюм, а на ногах большие армейские сапоги, на рантах которых засохла болотная грязь.
Александр Федорович не спеша начал расспрашивать о жизни.
Дед Конон хотел сказать, что живется при новой власти очень хорошо. Но, пристально посмотрев в добрые, издавна знакомые глаза, решил говорить все, что думает. Начал пословицей:
– С пролежнями и на перине твердо спать… Еще чешутся рубцы от панских канчуков. А тут, вижу, и свои намахиваются.
– Да что вы! Кто это? Не лесничий ли? Он человек крутой, это правда. Но чтоб канчуком…
– Да насчет канчука я так, к примеру. А дело тут поважнее. Всю жизнь я не верил ни в бога ни в черта. А получается, можно сказать, так, что коммунисты заставляют верить в судьбу да всякую всячину…
– Нич-чего не понимаю, Конон Захарович.
– Да оно и понимать тут особо нечего… Вы только послушайте про мою житуху.
Конон Захарович посмотрел в глаза председателя так, будто бы хотел проникнуть в самую душу…
– Пришел с японской войны, купил ковалочек земли. Посеял жито. На беду, выдалось дождливое лето, и хлеб вымок. Даже семена не вернул. Не везет. Выдал дочь, можно сказать, за ковалок земли. А зять возьми да заболей. Хозяйство расстроилось, и пошла его земличка за долги.
Опять остались на моих заболоченных трех моргах. Зять начал осушать. Паны его за это в тюрьме сгноили. Я попробовал отвоевать свою землю у болота, так графские стражники чуть не убили меня. Ну ладно, то была вражья сила. А тут же ж свои… И тоже гонят с того несчастного ковалка. Вчера сказал инженер, что прямо через мой участок проведут канаву, а меня перенесут… Что ж, выходит, такая моя доля? Судьба?
– Да-а… Вообще-то очень похоже на судьбу… Очень… – раздумчиво протянул Моцак. – Был у меня перед вами один хуторянин. Тоже на судьбу жаловался. И то же самое: только обзавелся хуторком, своей землицей, а тут заставляют переселяться в село, потому что хлопца учить надо да и самому просвещаться. Я, говорит, лучше каждый день на лодке буду возить хлопца в школу, только дайте мне пожить по-человечески. Я говорю, что на хуторе не человеческая, а волчья жизнь. Да его не убедишь. Впрочем, между вами большая разница. Вы человек бывалый и даже вот сами осушали болото. А он не верит, что болото можно превратить в хорошее пахотное поле. По его мнению, болото – это место, проклятое богом, и осушать его не только грех, но и бессмысленно.
Вошла секретарша и доложила, что пришла машина.
– Еду. Звоните в МТС, – ответил ей председатель, а когда она вышла, обратился к старику: – Вот что, Конон Захарович. Я вас знаю давно, поэтому не стану разубеждать и уговаривать. Пройдет несколько дней – и вы сами откажетесь от своего ковалка земли, распашете новый участок. Но я верю еще и в другое: со временем и на новый участок будете смотреть как на обузу, потому что и вас, и меня, и всех, кому дорога судьба этого края, захватит дело, которое никак нельзя сравнить с вопросом о каком-то там клочке земли в десять гектаров!
Старик, не понимая, к чему клонит председатель, скреб затылок.
– Я вызвал вас затем, чтобы просить вашей помощи.
– Моей помощи? – дед Конон, пряча за спину свою торбу с хлебом и бельишком, даже привстал.
– Мне нужен человек, хорошо знающий болота. Но человек свой, надежный. Вас я знаю и верю, как самому себе… У нас тут есть специалист, который занимается осушением болот.
– Такой маленький, в черных очках?
– Да. Вы уже с ним знакомы?
– А как же! Это ж он намечает канаву через мой ковалок…
– Ах вот как! – Моцак усмехнулся. – Ну ничего, вы с ним подружитесь. Он человек неплохой, а настойчивый, как и вы.
– Да я что ж, я крепких людей люблю…
– Сейчас он придет сюда вместе с директором МТС. Я вас представлю – и, как говорится, с богом.
– А что я должен делать?
– Пока только поводите его по болотам и расскажете все, что о них знаете. А потом видно будет.
– Но у меня ж сапожная мастерская.
– Это мы уладим. Теперь обойдутся и без вас. Вы там обучили уже многих. Ну, а насчет участка не беспокойтесь. Землеустроитель нарежет вам, где получше.
– Да я… – Старик махнул рукой, он уже стыдился того, что сказал в начале беседы. – Оно ж так всегда в жизни. Уткнешься носом только в то, что перед тобой, и ничего не видишь, думаешь – только и света что в окне. Я ж сам читал то постановление насчет осушки. Никакому празднику так не радовался. А потом как-то… Земля, она засасывает хуже любой трясины. Появился у тебя свой ковалок, то уже весь ты в нем и душой и телом. Что правда, то правда, земличка засасывает нашего брата. Крепко засасывает.
Встарой, продымленной хате Ивана Гири стоит густой смрадный полумрак. Низкая, покосившаяся хата полна икон, целебных трав и кореньев. На стенах, в промежутках между иконами, под потолком, на сошке, подпирающей прогнувшуюся балку, – везде, где только можно было прицепить, висят пучки засушенной с лета омелы, чемерицы, Адамова дерева, свят-кореня, дубовой коры. Целые веники липового цвета. И бесконечное множество венков из богуна – самого универсального лекарства.
В лампадке мерцает слабый, никогда не гаснущий в этом доме огонь. От ладана, от разомлевших трав в хате стоит тягучий, удручающий смрад, которым отличаются жилища неряшливых, но очень богомольных старух. Свет в лампадке тихий, желтоватый, колдовской, словно горит в ней не масло, а тлеют и плавятся все эти травы, коренья, кора.
Скупо светит и лучина, горящая в коминке, висящем на середине хаты. Коминок этот сохранился еще с той поры, когда здесь квартировал учитель Моцак.
Унылый, устало мигающий свет едва достигает стола, вокруг которого склонились угрюмые, почти все бородатые мужики, нехотя, словно по принуждению, играющие в карты. Изредка хозяин бросает в коминок сырую осиновую чурочку. Подсохнув на жару, она долго дымит, потом неохотно, вяло разгорается. И тогда на стенах оживает, будто бы даже шевелится, тусклая позолота икон. Кажется, что она осыпается и чуть слышно шелестит.
Икон в этом доме ровно пятьдесят семь.
В переднем углу – сорок одна. Над дверью – девять. Над ведром с водой – семь. И во всем этом скрыт глубокий смысл, известный только посвященным. Число икон предопределяет количество лет, недель и дней, дозволенных богом для жизни большевиков на земле.
Это пророчество вещуна, основанное на откровении святого Иоанна.
Сорок икон в переднем углу вокруг большой иконы Христа Спасителя – это сорок недель сверх одного уже истекшего года владычества большевиков на Западной Украине. Девять икон над дверью – это девять дней, отпущенных богом для советской власти сверх одного года и сорока недель. А седьмица над всегда полным ведром освященной в церкви воды – это семь дней, в течение которых некие благословенные богом воины будут изгонять большевиков.
И сие есть непреложная истина, и она сбудется, ибо 41 + 9 + 7 = 57. А сумма цифр числа 57 (5 + 7) равняется 12, количеству Христовых апостолов. Сумма же этого числа (1 + 2) равна 3 – цифра святой троицы. Так говорил вещун, посланный богом.
Услышав это пророчество, Гиря сжег свой дом на хуторе, залил весенней водой поле, засеянное озимой рожью, и перебрался в эту развалюху, оставленную еще его отцом. И как только переселился да оделся в лохмотья, достойные последнего нищего, сразу отстал от него сельсовет. Больше не слышал Гиря ни слова о раскулачивании.
«Чего у него теперь кулачить? Господь сам его раскулачил», – говорили сердобольные морочане и верили, что старый волк и хапуга смирился, «повернулся лицом к богу и людям».
Никто, конечно, не подозревал, что по вечерам, когда старые друзья собираются в убогую хатенку перекинуться в карты, покурить жгучего самосаду, в Иване просыпается другой, настоящий Гиря. Хитрый, уравновешенный и рассудительный, он стал вожаком кулачья, затаившего злобу на новую жизнь.
Сегодня должен решиться важнейший для шайки Гири вопрос: о стороже на экскаваторе. Если удастся поставить на это место своего человека, то тогда жизнь колхоза, который делает еще только первые шаги, будет в их руках, потому что, пока не осушат Зеленого клина и Чертовой дрягвы, колхоз будет жить как ребенок, наглухо закутанный в пеленку, и тех, кто не пошел в него, прижимать не будут…
Но что ж так долго нет Макара Фисюка? Его прочили сторожем экскаватора.
Наконец Макар заявился, угрюмый, расстроенный. Упавшим голосом пробурчал:
– Багна Конона поставили на экскаватор.
Не промолвив на это ни слова, Гиря неторопливо собрал карты, не тасуя, роздал и зашел первым. И только потом злобно, сквозь зубы процедил:
– Я ж говорил: Макару такого дела нельзя доверять. Божился, клялся все уладить…
– И было улажено! Чего ты вытаращился на меня? – огрызнулся Фисюк и вытер рукавом потное восковое лицо. – Так Сибиряк же добрался до самого председателя райисполкома и, видно, нашептал ему…
Сосредоточенно склонившись над столом, долго играли молча. Хилый свет лучины лишь время от времени вырывал из темноты то желтый потный лоб, то лысый восковой висок, то синий тяжелый нос. Дым от цигарок густой сизой пеленой висел над столом. Угарно. Сумрачно…
Вдруг в середине игры Гиря бросил карты на стол.
– Нашептал! – повторил он слова Фисюка, сказанные с полчаса назад и, казалось, уже забытые. – Значит, было что нашептать! Проболтались. Ат, черт с вами! Делайте что хотите. Больше я вам не советчик. Уеду в город и пересижу где-нибудь в закутке, пока все перемелется.
– Кум, да ты не горячись, – подсел церковный староста Самох, веселый, с виду добродушный старик, с маленькими юркими глазками. – Давай подумаем. Еще не все пропало. Сегодня сторожит Сибиряк. А завтра на его место могу стать я или кто другой. Все мы под богом ходим…
– Поди ты к черту со своим богом! Твой бог – топор. А я ему не молюсь.
– Да ты не кипятись, – успокаивал и Фисюк. – Дело говорит человек. Пройдет немножко времени, и Сибиряка… – Он многозначительно придавил ногтем на столе.
– Нет! В тюрьме сидеть не хочу, – отмахнулся Гиря. – Да и не умею я этого. Кабана резать нанимаю, а то человека…
– Так и тут можно нанять, – благодушно протянул Самох. – Никто ж тебе не говорит, что самому. Я тоже на своем веку не зарезал даже курицы.
– Нанять? – смягчился Гиря и перешел на шепот. – Нанять… А кого?
– Знаю… только бы деньги, – подмигнул Самох.
– Сколько надо?
– Да тысячи три.
– Это что ж, по пятьсот рублей с брата?
– Даже меньше, – быстро подсчитал Самох. – Тут нет еще Гниды и Фомы, а с них же тоже полагается.
– Верно! Не одним нам отдуваться! Явдоха, где ты там! – крикнул Гиря, приоткрыв дверь в чулан. – Неси гроши.
– А ты, кум, сдай карты. Случаем, кто зайдет – в очко играем, – распорядился Самох.
– Кто поплетется в такой дождь! – возразил Фисюк. – Иван теперь в удобном закутке живет: и на селе и посередине болота.
– Ага, место как раз по такому времю, – процедил молчавший до этого тесть Барабака, старик, у которого лоб нависал над самым носом, а большие густые усы подпирали, как бы поддерживали, мясистый ноздреватый нос. – Ныкывыдисты придут, так и то можно удрать. Через окно и – на болото.
– Ну, выкладывайте, – торопил Самох.
И на стол полетели полусотки, тридцатки, червонцы.
Только Фисюк не шевелился и безучастно смотрел на растущую кучу денег.
– А ты чего загордился? Особого приглашения ждешь? – спросил его Гиря.
Заскорузлыми черными пальцами Макар поскреб в бороде:
– Дело не дуже благословенное. Я лучше на церкву пожертвую.
– А-а-а! Вот как! – глядя прямо в глаза, придвинулся к нему Тимох.
– Хочешь остаться чистеньким? – привстал тесть Барабака.
А Гиря отвернулся и молча смотрел себе под ноги.
И тут Макар понял, что если он сейчас не подчинится, то никогда больше не вернется домой из этой удушливой, продымленной хаты. Вынув кошелек, Макар долго отсчитывал тройки, пятерки, рубли…
* * *
С возвращением Антона Оляна неузнаваемо изменилась. Родной отец удивлялся ее неожиданным выходкам. В огороде она ковырялась только урывками, а все свое время отдавала работе в рыболовецкой артели, организованной этой весной. Вероятно, оттого ее хвалили на каждом собрании и даже на Доску почета поместили как лучшую сортировщицу. И почти каждый вечер успевала сходить на болото, к Антону. Она стала подолгу прихорашиваться перед зеркалом. Конон Захарович давно это заметил и однажды, не выдержав, спросил:
– Ты что ж, замуж собираешься за Маракана? – Он нарочно назвал Антона старой, теперь уже забытой, презрительной кличкой.
Кокетливо заглядывая в зеркало и поправляя платок, Оляна спокойно ответила:
– А я давно уже замужем.
– Да ты шо? З глузду зъихала? – отец грозно глянул на дочь.
– Вот пройдут Чертову дрягву, Антон получит дом и устроим свадьбу.
– А хлопец? А я?
– Вы сами знаете, что Грише Антон будет хорошим отцом. Да и вы не будете в обиде.
– Да я т-тебя! – отец схватил с пакила веревку.
Но ударить не успел. Оляна сама подбежала к нему, раскрасневшаяся, решительная, неузнаваемая.
– Тато! – глядя в упор, крикнула она строго. – Я вас очень люблю, но бояться больше не хочу. Не хочу! Не хочу! Мне надоело всю жизнь кого-нибудь бояться. На-до-ело! – Оляна говорила, все повышая и повышая голос, и последнее слово бросила так громко, так сурово, что Конон Захарович, только вздохнув, тихо сказал: «Тю на тебя!» – и тяжело опустился на лаву.
– В печке борщ, молоко в погребе. Вечеряйте и спите. Я приду поздно, там надо постирать да поштопать, – с порога бросила Оляна.
– Ну, то идем вместе, – уже другим тоном промолвил отец. – Я ж теперь сторожем на экскаваторе…
Оляна удивленно вскинула широкими черными бровями, счастливо улыбнулась и начала подавать на стол.








