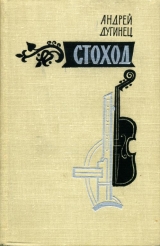
Текст книги "Стоход"
Автор книги: Андрей Дугинец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 28 страниц)
Стоход
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Морочна стоит в самой глуши Полесья, между Припятью и ее ленивым притоком Стоходом. Это большое старое село с кривыми деревянными постройками, подпирающими одна другую, с огромными гнездами аистов на крышах и скрипучими колодезными журавлями на середине узкой единственной улицы. Черные от дождей да вечных болотных туманов дранковые крыши хат и сараев почти слились в одну, и аисты царственно расхаживают по ним из конца в конец села. Ни садика, ни палисадничка. На все село красуется одна-единственная груша с засохшей макушкой. Зато чуть ли не перед каждым двором зловеще, как виселица, чернеет высокий деревянный крест, увешанный любовно вышитыми рушниками да передниками. Это жертва неумолимому и скупому на милости богу.
Бедно и тесно живут морочане. Да что же делать? Вся земля здесь принадлежит ясновельможному графу Жестовскому, почетному члену польского сейма. С одной стороны к селу вплотную подступил дремучий графский бор, из которого, как одинокие волки, выглядывают матерые дома хуторян. А с трех сторон огромными черными клешнями обхватили Морочну другие владения пана – Пинские болота. На сотни километров простираются непролазные топи, усеянные мелкими, поросшими лозою островками. И никто из морочан толком не знает, что же там, в середине болот. Только страшные россказни ходят в народе про те места. Где-то в камышах есть остров, на котором в давние времена стояла высокая белокаменная церковь. Да однажды, в ночь на Ивана Купала, эта церковь ушла под землю. И теперь только самые богомольные старики слышат глухой подземный звон ее двенадцати колоколов… А в другом месте, куда ни на лодке, ни пешком не проберешься, есть большое высохшее озеро. На дне его пасутся теперь уже одичавшие кони запорожских казаков, тех самых «лыцарей» Богдана Хмельницкого, что изгнали когда-то польских магнатов с Украины. Говорят, будто кто-то из косарей слышал грозное ржание заждавшихся скакунов, кто-то видел седого запорожца, летевшего над болотом на белом крылатом жеребце. А в позапрошлом, тридцать шестом году, когда по всей Польше прокатилась буря забастовок и восстаний, среди морочан нашлись молодцы, такие отчаюги, как Антон Миссюра, что пытались добраться до этого таинственного озера. Да куда там!..
Но самое страшное рассказывают об островке, расположенном среди непроходимой трясины, издавна прозванной Чертовой дрягвой. Старые люди твердо верят, что на том островке, среди гущи лозняка и камыша, живет сам черт, хозяин болот. Говорят, что однажды апрельской ночью, в самый разлив, отец нынешнего пана, Казимир, пробрался туда на лодке и один на один всю ночь разговаривал с нечистым. То, что старый пан туда плавал, – сущая правда. Видел это и дед Сибиряк, а уж он-то никогда не врет. А вот о чем помещик беседовал о дьяволом, никто не знал целую неделю. Но потом все выяснилось. Даже детям стало понятно, о чем торговался пан с чертом. Управляющий на сходке показал бумаги с печатями и желтыми дьявольскими подписями. По этим бумагам все окрестные болота переходили в собственность пана Жестовского, и за каждый клочок сенокоса или пахотной земли на болоте теперь надо было платить пану или отрабатывать. И еще было написано в тех бумагах, что теперь пана Казимира Жестовского следует величать ясным паном да еще и графом.
Через год после этого события многие мужики стали должниками ясного пана. А со временем долги, как болотная трясина, засосали все село. Бедняки понимали, что скоро они совсем разорятся, вымрут как мухи, но боялись даже втихомолку сказать недоброе слово про пана, продавшего душу нечистому.
Только один человек в селе жил постоянной мечтой выбраться из цепкой панской трясины. Это дед Сибиряк, который пешком пришел из Порт-Артура в Морочну и видел столько, что уже не верил ни в бога, ни в черта. С ним даже панский приказчик не вступал в пререкания, потому что хорошо изучил его крутой нрав. А лесничий навсегда зарекся встречаться с дедом один на один, после того как они столкнулись на порубке леса. Правда, никто так и не узнал, что же произошло на лесной делянке. Но графский лесничий остался без пальцев на правой руке, а дед отсидел два года в пинской тюрьме и три месяца в Березе Картузской.
Непокорный он, этот Сибиряк!
Впрочем, какой он сибиряк? Коренной морочанин. Даже фамилия самая местная – Багно [1]1
Багно, багон – болото.
[Закрыть], Конон Захарович Багно. А Сибиряком его прозвали за то, что, возвратившись из далеких странствий, он дни и ночи рассказывал о сибирских просторах, о плодородной сибирской земле, о богатой охоте в дремучей тайге.
Несколько раз Сибиряк порывался перекочевать на эти вольные земли. Но помещик понимал, что за бывалым мужиком потянутся и другие, и каждый раз ловко его останавливал. А потом Сибиряк незаметно для самого себя тоже залез к пану в долги, постарел, согнулся, присмирел.
А уж после революции, когда Пинщина, как большая краюха от каравая, была отрезана от России, дед потерял всякую надежду на переселение в Сибирь и стал мечтать только о том, как бы выкарабкаться из долгов да приобрести клочок земли. День и ночь сидит он с внуком под грушей и плетет корзинки для продажи. Да плохо идут они: много появилось на базаре этого товару.
Да, потерял дед надежду на переселение. Совсем потерял. И теперь уже разве только после чарки жгучего самогона в седой голове его просыпаются прежние удалые думы…
* * *
– На шарварок! На шарварок! [2]2
Шарварок – отработка за долги или общественная повинность.
[Закрыть] – точно рев сорвавшегося с цепи панского бугая, раздался на улице зычный голос графского десятника.
– Дедушка, неужели и нас погонят на шарварок?
Дед воткнул в колоду шило, бросил лозу, из которой начинал плести новую корзинку, и, приставив к уху черную шершавую ладонь, прислушался. То там, то тут раздавался отчаянный скрип ворот. Голос десятника ближе, громче, властнее, и от него все разбегаются, все запирают ворота.
– На шарварок! На шарварок!
– Дедушка, а если долг потребуют? Все равно не пойдем на шарварок? Правда?
– А ты не гадай. Делай свое, – сердито, будто бы во всем виноват внук, ответил дед Конон и вновь принялся за работу. – Вон мать идет…
С огорода, широко размахивая левой рукой, а правой держа в подоле ботву, почти бежала бледная перепуганная мать Гриши, Оляна Кононовна. Следом за ней, смешно взмахивая голыми крылышками, ковылял желтый, еще не оперившийся утенок.
– Мимо прошел этот горлан? – бросив ботву в хлев, где визжал поросенок, скороговоркой спросила она отца и тут же набросилась на Гришу: – Опять с книжкой! Опять! А корзинку только начал! Тут поспешать надо, пока на шарварок не выгнали, а он в книжку уставился! Не читаньем же твоим будем расплачиваться с паном за землю! Сколько раз говорила тебе!
– И чего привязалась! – покосился старик на дочь. – Он сегодня уже за восьмую взялся. Меня обогнал.
Оляна недоверчиво посмотрела под стреху сарая, где висели новые корзинки:
– Да я ж не заметила. Ну, то и хорошо. Помогай, сынок, помогай. Наскребем деньжат, так хоть на тот год выберемся из долгов.
Она опять ушла на огород, одной рукой поправляя платок, а другой помахивая бегущему следом утенку.
– Цивь, цивь, цивь! – звонко попискивал утенок.
– Вуть, вуть, вуть! – звала его хозяйка.
И со стороны казалось, что они прекрасно понимают друг друга.
Гриша всегда удивлялся, как быстро мать приручает животных. Когда была корова, постоянно разговаривала с ней: пока подоит, расскажет все свои обиды. И Чернушка всегда стояла тихо, даже переставала гонять жвачку, словно и на самом деле старалась не пропустить ни одного слова. А когда секвестратор [3]3
Секвестратор – сборщик налогов.
[Закрыть]увел корову за долги, мать перенесла свою любовь на телочку. За лето они так сдружились, что телочка не отставала от хозяйки ни на шаг. И в огород, и в поле, и к соседям – всюду ходила за нею. Забрали на панский двор телочку – мать приручила приблудного утенка.
Гриша вздохнул: трудно ей без отца, скучно, вот и привыкает ко всякой живности. По-стариковски покачав головой, он снова принялся за свое дело. Взялся и за чтение. Он делал это без ущерба работе. Раскрыл книжку на ящичке с кострикой, подвешенном под окном для предохранения хаты от сырости. Глаза бегают по строчкам книжки, а руки плетут корзинку. Лишь изредка глянет: ладно ли идет дело – и снова в книжку. Не может оторваться – так интересно рассказывается в ней про мальчика Янко, который всю жизнь мечтал о скрипке, а когда прикоснулся к ней, его убили.
С самого рассвета сидит Гриша с дедом под огромной дикой грушей, которая одной ветвью закрывает всю хату и двор, а двумя другими достает чуть не до середины улицы. Ровный и широкий, как стол, пень когда-то спиленного отростка груши – любимое место деда и внука.
– На шарварок! На шарварок! – слышится уже в другой стороне.
– Грыць, а выглянь: он уже на хутора пошел или еще вернется?
– Сейчас, дедушка! – с готовностью ответил Гриша и полез на дерево.
Он по крику знал, куда направляется десятник, но хотелось хоть на минуту распрямить замлевшую спину. Быстро, как кошка, Гриша забрался на самую макушку груши. И, словно забыв поручение деда, вдруг звонко, беззаботно запел:
И шумыть, и гудэ,
Секвестратор идэ!
Ховай, маты, стари шматы,
Бо и ти вин забэрэ!
– Что ты там поешь!
– Дедушка, так правда ж, следом за десятником идет секвестратор. Во! Прямо к Козолупихе во двор. Не зря ж Санько говорил, что у них тоже хотят забрать корову!
И снова, теперь уже громко, как бы предупреждая друга, Гриша пропел:
И шумыть, и гудэ,
Довгоносый идэ!
Ховай, Санька, виревочку,
Бо корову забэрэ!
– Кому сказал, перестань! – рассердился дед Конон. – За такую песню прямо с этой груши загремишь в Картуз-Березу!
– В Картуз-Березу?!
Услышав это проклятое слово, Гриша нахмурился и начал спускаться с дерева.
Береза Картузская! В этой страшной тюрьме замучили его отца. Долго морили деда. И кто знает, не придется ли побывать там и ему?
– Ну, так где ж десятник?
– Вернулся, – угрюмо ответил Гриша, – ходит по дворам.
– Прячь лишнюю лозу, – сказал дед, когда Гриша спрыгнул с дерева. – Скорей, а то этот лупоглазый еще подумает, что на панском болоте нарезали. Да и корзинки убери.
Едва Гриша все это сделал и снова сел на свое место, как во двор вошел десятник, тонконогий, нескладный верзила лет семнадцати. Лицом он напоминал кулика: нос длинный и острый, а подбородок будто бы сдвинут назад. Под маленьким продолговатым лбом бегают выпученные, как у жабы, жадные глаза.
– Дзень добрый, пане. Дзень добрый, – оскалив кривые зубы, тихим, ласковым голосом заговорил десятник.
Даже не верилось, что это он только что горланил на всю улицу. С дедом Сибиряком он всегда говорил заискивающе: боялся его. Да и вообще он мог, когда надо, прикинуться тихеньким, ласковым, угодливым.
– Какая веселенькая корзиночка! Ей-бо, веселенькая. И сколько ж могут дать за такую?
– Не виляй хвостом, Сюсько, – туго закрепляя ручки корзинки, сказал дед. – Выкладывай, чего пришел.
Но Сюсько продолжал болтать о корзинках, будто бы не слыша вопроса. Тогда и дед решил зайти с другой стороны.
– Ну, Савка, у тебя и горлянка! Панский бугай позавидует.
Сюсько заулыбался.
– Дьячок сказал, что перед вторым пришествием Христос возьмет меня будить мертвых. О! Вот послушайте. – Повернувшись лицом к улице, он раскатисто закричал, делая особое ударение на звуке «р»: – На шарварок! На шарварок! – И, прислушавшись, спросил: – Слыхали? Аж за речкой отдалось. О!
Дед Конон покачал головой. Сюсько принял это за одобрение и расхвастался больше прежнего.
– Гэ-э! Так это ж я не во всю силу, бо сегодня еще не ел. А дали б мне хлеба от пуза, да сала, сколько очи захотят, да на закуску кувшин кисляку, только б кисляк не с обрату, как на панском дворе, а с настоящего молока, – вот тогда… Тогда бы я мог и не ходить по селу. Открыл бы окно своей хаты, высунулся, крикнул два раза и опять на бок. О!
– Понятно! – одобрил дед. – Жил бы, как тот царь: сало с салом ел и на соломе спал…
– Гэ-э! И каждого дня новые постолы обувал с шелковыми онучами, – простодушно продолжал присказку Сюсько.
– Что и говорить! Ты свою дорогу нашел, – кивнул дед Конон и заговорил тем протяжным, нарочито серьезным тоном, каким говорят с маленькими, неразумными детьми. – Ты, конечно, выбьешься в люди. Сперва десятником. Потом стражником с добрым канчуком в руке. А там – прямо в полицию. Могут принять. А что ж? Такого могут.
– Оно б не плохо. Да грамоты у меня маловато, – насупив белесые брови, задумался Сюсько.
– Э-э, грамоты! В полиции не грамота нужна и даже не ум. Там потребен свинцовый кулак да горлянка добрэнна, чтоб на людей гавкать.
– А правда, сколько ж платят вам за такую корзиночку? – пропустив мимо ушей насмешку, спросил Сюсько.
– Да чего ты все про корзинку? Чи торговать собираешься?
– Э! Я ж вот обойду село, вернусь домой и на бок. А деньги ж и мне нужны. Ох, как нужны мне деньги! Ей-бо! – И, доверительно наклонившись, Сюсько прошептал: – Ковалок [4]4
Ковалок – клочок.
[Закрыть]землички хочу подкупить. Ма-аленький ковалочек, моргов [5]5
Морг – 1/ 8гектара.
[Закрыть]пять.
– Купишь земли и женишься на поповой дочке, – подсказал старик.
– Тю! На лысого злыдня мне рябая, долгоносая! Я себе хотя и без приданого, зато такую красулю отхвачу!.. У хлопцев глаза на лоб полезут. О!
– Вот тебе и дурень! – покачал головой дед Конон. – Возьми ты его за три гроша, когда он злот стоит!
– Я уже подсмотрел себе, – чуть не в ухо деду шептал Сюсько. – Дочку Антоси. Олесей зовут ее. Не дивчина, а ягодка!
– Да… Когда-то мне один киргиз говорил: каждый горбатый верблюд считает, что стоит арабского скакуна.
– Что вы сказали? – не расслышал Сюсько.
– То я так. Старое вспомнилось.
– Может, думаете, Антося не выдаст за меня свою дочку? Я уже говорил с нею. Сказала, покупай землю, учись хозяйновать, а дочка тем часом подрастет.
– Дай боже нашему теляти да волка съесть, – пробурчал дед и опять спросил: – Так ты все ж таки чего пришел?
– Да чего ж… Шел и к вам завернул. Да припомнил, что за вами должок. Ма-аленький должочек, – вкрадчиво пропел Сюсько, – ну да я знаю, что вы расплатитесь. Конечно, расплатитесь. Только бы пан управляющий согласился ждать. А он согласится, если вы сходите на шарварочек.
Гриша плел корзинку и прислушивался к каждому слову десятника. Дед Конон долго молчал: сразу понял, что десятник не просто завернул, как он говорит по своей привычке лукавить и лебезить, что раз уж зашел, значит, его послали с каким-то строгим наказом. Злость кипела в сердце старика, но он тихо спросил:
– А что ж оно там за шарварок?
– Канавку копать, канавку, – поспешно ответил Сюсько. – Ясновельможный пан хочет сделать речушку из своего озера в Припять. Ага, из озера пряменько в Припять, чтоб лес сплавлять.
– Это ж на сколько дней?
– На месячик. Не больше. Только на месячик.
– Умом помутился твой ясный пан. Месячный шарварок перед самой жатвой! – все еще не отрываясь от работы и не глядя на десятника, сказал дед Конон. – Мне с долгами надо рассчитаться. Да и себе хоть пуд жита заработать на хуторах. Когда ж тут еще на шарварок?
– Хы! На хуторах! И хочется вам блукать по чужим токам? – Сюсько недоуменно приподнял вверх острые плечи, туго обтянутые белой рубашкой с панского плеча. – Лучше ж взять у пана еще немножко земли да посеять свое. Ей-бо!
– На земле, какую твой пан сдает в аренду, даже бурьян не растет.
– Ой, ой! Неправда ваша. Ей-бо, неправда! – Сюсько развел руками, а потом, сгорбившись, сложил ладони, как на молитве: – Земля у нашего ясного пана хорошая. Ей-боженьки, хорошая. Да и как можно обижаться на землю! Она ж сотворена самим…
– Хватит мне проповедь читать! – оборвал дед. – Не пойду.
– Ой, ой. Мне жалко пана. Ей-бо, жалко! Ежели пан Багно не выйдет на шарварок, то пан управляющий пришлет пана секвестратора.
Большие темно-серые глаза деда сурово и холодно сверкнули на десятника:
– Пришлет секвестратора? А что ж возьмет у меня твой секвестратор? Дырки иа коленях или заплатки на заду?
– Так, может быть, у вас есть полотно? – пятясь к калитке, сказал Сюсько. – Да я что, я ничего. Мое дело сказать. Я…
Дед надел свой старый соломенный брыль. Не спеша поднялся с корзинкой в руках и, не сводя тяжелого, пронизывающего взгляда с перепуганного десятника, процедил сквозь зубы:
– Опять секвестратора? Опять? – и бросил корзину на землю. – Грыць! Неси лопаты!
Сюсько съежился и юркнул со двора. Вот точно таким он бывает на вечеринках, когда парни и девчата поднимают его на смех и со свистом и улюлюканьем гонят из компании.
Однако сейчас Грише было не до смеха. Встретив полный решимости и гнева взгляд деда, он метнулся в сарай.
– Баста! Больше не буду просить земли у ясного пана, – сказал дед Конон, взял возле порога топор и засунул его за пояс.
Захватив лопаты, дед с внуком вышли со двора. Миновали соседский огород, где вместо овощей росла рожь, явный признак того, что здесь живет вдовец или бездетные старики. И только начали подниматься на лысый песчаный холм, как в селе раздался отчаянный вопль.
– Что оно там?
– Дедушка! – уцепившись за руку деда, прошептал Гриша. – У Санька увели корову. Я побегу!
Дед молча придержал внука, мол, теперь там ничем не поможешь.
По середине узкой, глубоко выбитой и, как овчарник, унавоженной улицы медленно шел секвестратор, пан Суета. Под мышкой он держал огромную книгу актов, прозванную морочанами «черной магией». Смотрел он прямо перед собой. Старательно обходил большие лепехи свежего коровьего помета, которыми, как лесная поляна грибами, всегда украшена улица Морочны. Несмотря на жаркий день, пан Суета был в своем обычном одеянии – в длинном, как старая риза, пепельно-желтом плаще, свободно накинутом на плечи, в приплюснутой, как сковородка, серой шляпе с широкими полями, обвислыми, словно вывихнутые крылья птицы. Да и весь он показался Грише похожим на старого облинявшего коршуна. На короткой, узловатой веревке секвестратор тащил рябую костлявую коровенку.
Марфа Козолупиха, ухватившись за маленькие опущенные рога и повиснув на шее своей кормилицы, рыдала, как по покойнику. За матерью на кривых тонких ножках ковылял голый, облепленный мухами пузатый малыш. Он орал благим матом и все пытался уцепиться за подол серой домотканой юбки матери. Три девочки, одна другой меньше, бегали вокруг коровы, хватались за ее впалые ребристые бока и громко плакали, спотыкаясь и падая через рытвины и кучи помета.
Лишь Санько шел молча, сторонкой, заложив руки в карманы и низко опустив порыжевшую от солнца косматую голову. Следом за ним вздымались клубочки коричневой пыли. Санько вечно взметал штанами пыль. Не потому, что быстро ходил, а просто штаны на нем были непомерно длинными: он всегда донашивал то, что давали его матери добрые люди. Правда, иногда Санько находил время засучить свои обтрепанные штаны и не поднимал дорожной пыли. Но таких отрадных минут на долю этого хлопца досталось немного… Сейчас Санько руками, глубоко засунутыми в карманы, старался как можно выше подтянуть штаны, чтобы они не пылили. Но Гриша знал, что друг его страдает не меньше, чем мать и сестры. Только он крепче характером и слез не любит.
Со всех дворов выходили люди и присоединялись к этому шествию, похожему на похоронную процессию. И теперь уже плакали не только Козолупиха с детьми, а все, кто шел за ними. Над Морочной, как завывание ветра в осеннюю непогоду, нарастал тяжелый надрывный стон.
– Смотри, внучок, – непривычно ласково сказал дед. – Смотри да запоминай…
* * *
Шел Гриша очень быстро. И все же отставал от деда. Широко размахивая перед собой левой рукой и наклонив голову вправо, тот привычно и легко отмеривал ровные широкие шаги. Грише то и дело приходилось догонять его бегом. И не удивительно: мало кто даже из взрослых мог не отстать от этого скорохода. Дед Конон ходил только быстро и терпеть не мог, когда человек тащился вразвалку: считал, что медленная ходьба развивает лень и сонливость.
Миновали голое ржавое болото, на котором ничего не растет и даже лягушки не квакают. По гати, сплетенной из лозы, прошли качающуюся зеленую трясину, еще на памяти Гриши бывшую заливом реки. А дед не проронил ни слова. Наконец перед ними открылась справа на высоком клину уже созревающая панская пшеница, а слева – бескрайняя Чертова дрягва.
Стоход – самая ленивая река Полесья.
Тихие, никогда не спешащие воды ее рождаются в дебрях сырых, угрюмых лесов, в глухомани лозняков да ольшаников и сходятся чуть приметными извилистыми ручейками. И малые, и большие притоки Стоход принимает молча, безучастно, как должное, как что-то обыденное и давным-давно знакомое. Ни говорка, ни всплеска, ни даже тихого плавного шелеста, обычного при слиянии двух потоков.
Обросшая высокими непролазными камышами да седыми косматыми лозами, речка будто вечно дремлет. Но кажется, что и сквозь дрему она к чему-то прислушивается, чего-то ждет, на что-то надеется…
В лесу она еще кое-как держится русла. А среди болот распадается на множество мелких рукавов, которые часто обрываются и образуют старицы и мелкие озера. Вода в них затягивается тиной, зарастает ряской. Со временем на поверхности, как налет плесени, появляется сочно-зеленый травяной покров, под которым из гниющих корней нарастает торф. Через год слой торфа становится таким плотным, что птицы ходят по нему свободно, как по обычному лугу.
Так образовалась и Чертова дрягва – болото, к которому подходили сейчас дед и внук.
Чертова дрягва лишь издали казалась огромным заплесневевшим озером, на самой середине которого мрел вечно окутанный дымкой маленький островок, тот самый грудок [6]6
Грудок – островок на болоте.
[Закрыть], на котором ясный пан сторговался с чертом. Но чем ближе подходили, тем больше Чертова дрягва напоминала обыкновенный заливной луг. Кажись, если б трава росла здесь повыше, можно было бы накосить не меньше сотни стогов хорошего, сочного сена.
Приманчиво это зеленое раздолье! Да коварна его красота: только аист может спокойно стоять на зыбком зеленом ковре, которым сверху прикрыта гнилая, хлюпкая трясина.
Заметив аиста на Чертовой дрягве, дед Конон сердито проворчал:
– Столько земли для прогулок у этой вонючей птицы, а человеку лопаты некуда воткнуть!..
Тощий, облинявший аист одиноко, как старый отшельник, брел по самой середине трясины. Вышагивал он важно, надменно. Время от времени останавливался. Всматривался во что-то под ногами. И нехотя, будто делал кому-то великое одолжение, запускал в болото свой полуметровый клюв. Поймав лягушонка, поднимал голову вверх и, щелкая клювом, отправлял добычу в свою ненасытную утробу. Долго стоял с высоко поднятой головой. На людей, проходящих по берегу болота, он смотрел с таким высокомерием, как ясновельможный пан на грязных лапотников, посмевших переступить порог его чистых светлых покоев.
Гриша встревожился не на шутку. Куда это ведет его дед? Но спрашивать нельзя. Не любит старый, чтоб спрашивали, куда и зачем он идет. Часто бывает, забежит в хату, буркнет: «Оляна, собери еды в торбу». Или: «Собирайся, Оляна. Да и ты…» – и, не называя имени, кивнет Грише. А куда, зачем? И не пытайся спрашивать. Разве только сам догадаешься…
Но вот сейчас попробуй догадаться, что он задумал. Зачем ему топор и лопаты?
Возле небольшой заболоченной низинки дед неожиданно остановился. Воткнул лопату в землю и громко, будто с кем-то споря, сказал:
– Вот этот ковалок, от лозы до ольшинки, за сто злотых купил я у пана… – И, понизив голос до шепота, он обратился уже к Грише: – Твоя мать была еще такой, как ты сейчас. Думалось, будет ей приданое. Тогда эта земля хорошо рожала. В четырнадцатом году тут было жито, как камыш. А колос…
– Так почему ж вы бросили ее? – спросил Гриша.
– Э-э… думаешь, по доброй воле? Не сами бросили. В гражданскую войну меня ж не было дома. Тут и получилось болото. Ну да теперь мы эту землю отнимем. Не хочется мне, чтоб и ты весь век маялся без земли!
– А как мы ее отнимем? – спросил Гриша, все еще не понимая и побаиваясь замысла деда.
– У болота отнять – не то что у пана… Спустим воду вон в ту речушку, и все.
– Правда! – обрадовался Гриша. – Речка намного ниже, вода туда так и зажурчит. А почему не сделали этого раньше?
– Раньше? – дед печально покачал головой. Глаза его стали еще суровее и угрюмее. – Раньше! Будто не понимаешь, что пан не дозволит проводить канаву через его болото…
– А чем ему помешает такая канавка? Это болото ни на что ж не годится.
– Э-э, зеленый ты, а еще книжки читаешь… Видно, не те книжки тебе попадаются, – присматриваясь, откуда бы начать канаву, говорил дед. – Дело ж не в том, годится эта земля пану или нет. Не может он дозволить, невыгодно ясновельможному, чтобы у нас была своя земля… Разреши он осушать болота, каждый ухватится за это дело. И через десять лет вокруг Морочны такие хлеба поднимутся!.. А пану это ни к чему. Сенокосы на болотах дают ему прибыли в десять раз больше, чем самая лучшая пахотная земля.
Закусив полную бледную губу и нахмурив широкие черные брови, Гриша смотрел на дальний сосновый лес, куда, как в синюю речку, спускалось усталое хмурое солнце. Не впервые за свои четырнадцать лет он задумывался над словами, услышанными от взрослых. Лицо его сейчас было бледнее обычного, а всегда приподнятый круглый подбородок вздернут еще выше. Худую и тонкую шею он вытянул так, будто старался заглянуть в лес, чтобы увидеть, где же там прячется солнце.
– Ну что ж, стражник уже в кабаке сидит, а больше нам некого бояться, – сказал дед, озираясь. – Начнем вон от той канавки. Отец твой правильно начинал.
– Разве и он начинал?
– Так за это ж и угодил в картузскую тюрьму!
– А все говорят, за политику, – разочарованно протянул Гриша. – Ребята мне даже завидуют…
– Так это ж и есть политика. А как же! Э-э, хлопче, вся на свете политика крутится вокруг этого несчастного ковалка земли. – Дед воткнул топор в кочку, на которой рос куст лозы, взял лопату и побрел по рыжей пузырящейся воде. – Сперва спустим воду. А потом выкорчуем лозу. Да где-то тут еще должен быть пенек старой вербы, – тихо, будто сам с собой, разговаривал дед. – Э-э-э, вот он. Уже только верхушка торчит. Засосало болото. А большой же был пенек, очень даже большой!.. Тут вот тебе и вся политика: успеем сделать свое дело, пока не заметил кто из панских блюдолизов, – наша возьмет, не успеем – засосет нас ясновельможный, как болото этот пень.
Начали копать от речушки навстречу старой, уже заросшей осокой, мало заметной канавке.
Работа сразу так увлекла Гришу, что он забыл про всякую опасность, размечтался. Там, где сейчас было еще болото и под ногами звучно чмокала грязь, он видел густую, сочную рожь. Она цвела, и Гриша даже чувствовал ее запах, очень схожий с запахом только что вынутого из печи ржаного хлеба. Потом рожь заменил пшеницей, потому что лишь один раз в жизни пробовал пшеничный хлеб…
Послышался топот копыт скачущего коня. Встав на кочку и приложив ладонь козырьком к глазам, Гриша посмотрел туда, откуда приближался топот.
Нахлестывая нагайкой огромного серого коня, между болотом и хлебами скакал всадник в черной фуражке с кокардой. Вдруг он повернул прямо к ним, через пшеницу. Все ближе, ближе развевается над желтеющей нивой всем знакомая пепельно-серая грива.
– Барабак! – вскрикнул Гриша и побледнел.
– Брось лопату в грязь. Придави ногой, – пряча свою лопату, коротко распорядился дед. – Может, не заметит.
Дед заранее снял свой полуистлевший соломенный брыль с полотняной заплаткой на макушке и подошел поближе к сухому месту, где должен остановиться стражник. А Гриша так и стоял на черенке своей лопаты, вдавленной в замутившуюся болотную жижу.
– Эй, Сибиряк! Не видал Козолуповой коровы? – закричал стражник, остановив своего взбудораженного коня.
Лицо Барабака горело, брови изогнулись широкими тяжелыми подковами, в глазах пылала злоба – весь он был важный и властный. А дед и внук казались перед ним маленькими и жалкими.
И все же Конон Захарович спокойно ответил, что он давно из дому и не видел никакой коровы.
Барабак хлестнул себя плеткой по хромовому голенищу. Привстал на стременах и поднял к глазам руку, в которой извивалась черная, туго сплетенная плеть.
– Пся крэв! – процедил он сквозь зубы. – Куда ж она девалась? Секвестратор привел ее на панский двор. Пока гадали, куда поставить, корову как языком слизнуло.
«Это Санько!» – с радостью подумал Гриша.
– Так не видел, – в раздумье сказал стражник и уже повернул было коня, как вдруг заметил свежую канавку: – Эй, дед! А это что такое? Зачем ковыряешь панскую землю?
Дед Конон печально посмотрел на свою работу. Шершавой рукой погладил сморщенную черную шею, как будто бы по ней уже походил канчук стражника, и ответил, что хочет осушить свой давно заброшенный ковалок.
– Опять за старое? Забыл, что за это получил твой зять? – с угрозой спросил Барабак и, картинно подбоченясь, уставился на старика.
А тот, опустив голову, молчал.
Никогда Гриша не видел своего сильного и гордого деда таким униженным. И никогда раньше не замечал, что он так плохо одет. Теперь как-то сразу стали видны мокрые до самых колен грязные штаны из мешковины. В этих штанах с множеством заплаток, нашитых одна на другую, дед ходил еще тогда, когда Гриша бегал совсем без штанов. Рубашка казалась новее. Но на спине заплаты лежали таким же толстым, почерневшим от пота спрессованным слоем. Целым был только коричневый шерстяной пояс, которым дед туго обвязывал больную поясницу. Небольшие седые усы уныло свисали над уголками рта, а кудлатая серая бородка с застрявшей в ней соломинкой мелко дрожала. Казалось, деду холодно и он с трудом удерживает цоканье зубов.
– Что же молчишь? – резко спросил Барабак и, брезгливо скривив полные ярко-красные губы, добавил: – Сиб-би-рряк!
Дед молчал.
– Осушкой занялся? По примеру большевиков? Может, тебе лучше туда податься? – Барабак кивнул головой на восток. – Там это дело в моде…
Дед молчал.
– Давай лопату! – направляя коня в болото, Барабак беспощадно хлестал его плетью.
– Пан стражник… – тихо заговорил дед. – Вы ж свой человек, украинец.
– Это не твое дело!
– Так вот же я хочу, чтобы вы поняли меня, – все еще спокойно говорил дед. – Ну, сами подумайте, какая будет беда ясному пану от того, что я прокопаю канавку на этом негодящем болоте? Я воду спущу со своего ковалка земли, и тут же канавку ту заровняю. Даже следа не останется. Ясный пан ничего и знать не будет.
– Быдло! Пся крэв! – заорал Барабак. Соскочив с коня, он пошел прямо по болоту.
Выхватив из грязи свою лопату, Гриша устремился к деду на помощь.
– Ты, старый пес, хочешь, чтоб я обманывал графа?
– Не-е, Барабак! Не я, а ты. Это ты продажная панская собака! – сказал Конон Захарович и пошел навстречу.
– Ты… с топором? – вдруг шепотом спросил стражник. – С топором?.. Э-э, да что ты, дед. Что ты…













