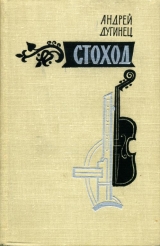
Текст книги "Стоход"
Автор книги: Андрей Дугинец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
Умеет же устраиваться человек: при любой власти ему живется легко и сытно.
Олеся и Гриша потеряли дорожку и шли по мягкой волглой траве.
– Тут страшно, – прошептала Олеся.
Гриша остановился, прижал ее к груди и поцеловал. От этого поцелуя Олеся почувствовала слабость в ногах. Дышала часто, порывисто…
– Сядем, Олеся. Сядем, – уговаривал Гриша, сам не зная зачем.
– Не здесь. Не здесь. Нас увидят, – опускаясь на траву и стараясь не отрываться от его губ, ответила Олеся. – На поляну. На нашу поляну.
Но идти куда-то они были уже не в силах. Опустились на густую траву… Гриша вдруг насторожился, ладонью прикрыл горячие, что-то бессвязно шепчущие губы Олеси.
Где-то совсем рядом ему почудился торопливый говор. Он прислушался. Говор не повторялся. Только угрюмо и вроде бы даже насмешливо шептались лохматые березы, да где-то очень далеко на весь лес хохотала сова… Но вдруг насторожилась и Олеся. Оба стали всматриваться в темноту.
Метрах в пяти, среди прибрежных лоз, возле лодки стояли двое. Один высокий, другой ему по плечо, щуплый и сутуловатый.
– Что вы, ей-бо! И чего мне бояться. Я поплыву прямо на островок! Вот так прямехонько и поплыву, – говорил тот, что пониже ростом. – Чего ж тут бояться. Теперь нам бояться совсем нечего.
Второй, наверное, что-то возразил, потому что сутулый махнул рукой и уже громко сказал:
– А иначе ж я не успею. Ей-бо, не успею!
Услышав этот голос, Гриша до боли сдавил плечо Олеси. Но если б он сдавил еще сильнее, она не вскрикнула бы, потому что онемела с перепугу, тоже узнав голос Сюсько. Обоим хотелось верить, что ошиблись. Но вот, скрытый тенью дерева, Савка опять заговорил, и теперь уже не оставалось сомнения, что это именно он. По молчаливому согласию Олеся и Гриша немного отползли назад. Спрятались за двумя сросшимися березами, притаились.
Лодка отчалила. Гриша поднялся на пенек. В лодке плыл только Сюсько. Второй, немного постояв, пошел в березнячок. Грише на миг показалось, что это сам Крысолов. Но страшно было поверить, что это – Иван Петрович. Не может он дружить с этим выродком! Хотелось проследить, узнать, кто это, но важнее было не упустить из виду Савку. Гриша схватил Олесю за руку, и они побежали по берегу, то и дело посматривая на озеро. Когда пробежали метров сто, Олеся спросила, зачем и куда они бегут.
– Только не отставай, – бросил Гриша. – Мы должны быть на острове раньше Савки. Теперь-то я его с озера не выпущу!
– Почему ж убегаем от причала? – спрашивала Олеся, едва поспевая за другом. – Или хочешь по берегу, а потом – вплавь?
– Конечно!
В просветах между деревьями тускло поблескивало затуманенное озеро. Все гуще становились заросли лозняка. Дальше пойдет сплошная чащоба. Но и через нее надо прорваться бегом. Иначе не успеешь.
– Гриша, Гриша, – задыхаясь, шептала Олеся. – А что мы с ним голыми руками?
– Только бы прибежать вперед… Останешься на берегу. А я…
Но Сюсько все-таки их обогнал.
Лодка причалила, и Савка вышел на островок, заваленный хворостом.
Гриша и Олеся остановились на берегу метрах в двадцати. Сами они ничего не могли предпринять, и на помощь звать некогда.
Луна скрылась. А туман так сгустился, что остров превратился в какое-то расплывчатое, мутное пятно.
Гриша разделся и решительно направился в воду. Олеся остановилась на мокром песке и стала прислушиваться. Ловила каждый звук у себя за спиной в густом лесу и каждый всплеск волн впереди.
Где-то в вышине над лесом послышался нарастающий гул самолета. Вот он уже над головой Олеси. Пролетел и опять возвратился. Кружит почему-то над самым озером.
Ни один всплеск не выдал Гришу, пока он добирался до лодки Сюська.
Вдруг Олесе показалось, что остров вспыхнул ярким высоким пламенем. Девушка закусила губу, чтобы не закричать. Но тут же поняла, что на острове загорелся костер.
Гриша тоже растерялся, но, к счастью, он был уже возле лодки и, взяв из нее весло, успел спрятаться за бортом. Когда хворост разгорелся, Сюсько с силой оттолкнул лодку от берега и прыгнул в нее. Гриша повис под носом лодки. Одной рукой держался сам, а другой прижимал к борту весло.
– О! Куда ж я дел другое весло? – прошептал Сюсько и пошарил по дну лодки. – Неужели на острове! Тьфу! Так и есть, забыл.
Но, видно, он очень торопился и не стал возвращаться на остров, который теперь пылал вовсю. Озеро осветилось ярче, чем при луне. Обогнув островок, Сюсько направился в сторону, противоположную дому Крысолова.
А Гриша, отпустив нос лодки, встал на дно мелкого в этом месте озера, поднял весло обеими руками и со всего размаха ударил Савку по плечу. Сюсько выронил весло и сунул было руку в карман. Но Гриша успел ударить его по руке.
Савка закричал от боли. Накренив лодку, Гриша стянул его в воду. Тот бултыхнулся, но тут же поднялся и, отфыркиваясь, торопливо побрел к берегу. Гриша пошел следом. Отмель круто оборвалась, и Сюсько поплыл.
Гриша плыл в трех-четырех метрах позади. А возле берега обогнал своего врага и, остановившись на мелком месте, поднял весло. Савка что-то лопоча про деньги и благодарность, поплыл прямо к Грише. И вдруг поднял пистолет.
– Так ты еще вон как! – со злостью крикнул Гриша и веслом ударил по пистолету.
Оружие полетело в воду.
Подбежала Олеся с одеждой. Гриша вытащил из кармана крепкий сыромятный ремешок, заложил руки Савки за спину и связал.
– Зачем ты еще и связываешь? – простонал тот сквозь слезы. – И так перебил все косточки. Ей-бо…
– А ты, когда топором ахнул дедушку по голове, думал, что можешь что-нибудь перебить? – туго затягивая узлы, ответил Гриша. Быстро одевшись, он обыскал пленника. В карманах было пусто. Только из-за пазухи вытащил еще один, огромный пистолет с широким, как бычий рог, дулом.
– Что это за пушка? – удивился Гриша, никогда не державший в руках такого оружия.
– Пугач, – соврал Сюсько. – Вот «вальтер» утопил, жалко. Он и тебе пригодился бы. «Вальтер» – штука, а это чепуха, выбрось. Ей-бо…
Гриша удивился, что пленник так разговорился. Однако ткнул его странным пистолетом в спину:
– Пошли! Да не туда! Вокруг озера. Тут еще чего доброго встретится твой дружок. Ну-ну, быстрее! А то этой самой пушкой по башке барабанить буду.
Олеся с веслом на плече шла позади.
– Куда ты меня ведешь? – вдруг остановился Сюсько. – Послушай, Гриша, забудем старое. У меня в лесу закопано золото. Ей-бо, много золота!
Гриша понимал, что Савка врет, но ответил:
– Вот и хорошо. Отдашь свое золото кому следует.
– Послушай, там столько, что хватит на всю твою жизнь! Возьми и отпусти меня. Олеся! Вступись хоть ты! Столько золота пропадет! Ей-бо!
– Я и без золота скоро буду богаче любого пана, – сказал Гриша, невольно глянув на самолет, который пролетел совсем низко и скрылся за лесом, тяжело рокоча. Это был какой-то незнакомый рокот, глухой и надсадный.
Директор МТС, к которому Гриша привел Сюська, тут же приказал заводить машину, чтобы везти задержанного в Морочну. Выслушав Гришу, он спросил: не узнал ли он человека, провожавшего Сюська. Гриша ожидал и боялся этого вопроса. Ему почудилось, что вторым был Крысолов. Но Иван Петрович спас его отца. Можно сказать, на руках принес из плена. А вдруг это и не он?
– Я не рассмотрел второго, – не сразу ответил Гриша. – Он ушел в лес.
Директор взял ракетницу, которую Гриша принял за большой пистолет. Поднес ее к носу Сюська и спросил:
– Чей самолет должен был сесть на озере?
Савка удивленно поднял глаза.
– Не удивляйтесь, я немного разбираюсь в назначении ракетниц. Да и огонь на острове не приму за обычный костер. Этот костер был сигналом вражескому гидросамолету. Ракетой вы должны были указать направление посадки. Это не удалось. Самолет покружился над озером и улетел. Видите, как все складывается по порядку? Ну а потом вы скажете, кто с вами был.
Тут вошел Крысолов со своей неразлучной трубкой в зубах и двустволкой за плечом. Он равнодушно спросил, что случилось. Выслушав объяснение директора, он посоветовал не везти ночью Сюська и даже не звонить об этом по телефону, а послать кого-нибудь на машине в НКВД.
– У него, – Крысолов кивнул трубкой в сторону Сюська, – могут быть сообщники. С ним они вас не пропустят в Морочну.
– Иван Петрович, тогда вы оставайтесь здесь, вы все-таки вооружены, – ответил директор. – А я поеду в Морочну.
На машине директора уехали и Гриша с Олесей. Грише надо было к утру вернуться в Морочну, чтобы ехать в училище.
* * *
Солнце только что взошло. Обычно по воскресеньям морочане в это время еще спали. А сегодня на улице было людно, как в ярмарку. По двое, по трое, с лопатами в руках люди шли в сторону Чертовой дрягвы. Даже в кузне, никогда не работавшей по воскресеньям, слышался веселый звон.
Как много изменилось в Морочне за последний месяц! За селом достроена новая больница. На бывшем доме коменданта полиции появилась вывеска: «Ясли». Железом покрыта новая школа. А какие огромные окна! И ступеньки цементные.
Как ни спешил Гриша, а не вытерпел, на прощание заглянул в окно школы. Пробежал по цементным ступенькам, подержался за блестящую медную ручку двери. И пожалел, что не придется учиться в этой чудесной школе.
Дома все уже было приготовлено к отъезду. Мать пекла млынци. Она была печальна и озабочена. Как-то по-особому нежно обняла прибежавшего сына, прижала к груди, погладила по плечам и, уронив ему на лоб слезу, прошептала:
– Слава богу, пришло твое счастье, сынок…
Подъехала грузовая машина. Шофер вбежал в комнату и предупредил, что через несколько минут выезжают.
– Федь, так ты захвати мою торбочку, а я побегу на болото, прощусь с дедушкой, – попросил Гриша.
– Он уже на воскреснике? – удивился шофер. – Ну и дед! Иди, мне еще за председателем РИКа надо заехать.
– Александр Федорович тоже едет? – обрадовался Гриша.
– Он в Гомель. Тебе попутчик. – И, взяв холщовый мешочек с Гришиными пожитками, уехал.
Мать с сыном сели на лаву проститься. Оляна смотрела себе под ноги и ничего не могла говорить. А сказать сыну собиралась очень много. Но как заговорить о том, что ее мучает дни и ночи?
На ее счастье, Гриша давно чувствовал, какой мечтой живет его мать. И, превозмогая застенчивость, нарочито весело и беззаботно сказал:
– Мама, теперь ты останешься совсем одна.
– Как же одна? – удивилась мать. – А дедушка?
– Я не про то… Мама, выходи замуж.
Сердце ее остановилось. А потом бурными, отчаянными толчками заколотилось в груди. Оляна молча обняла сына, заплакала.
– Выходи за Антона Ефимовича. Он ведь хороший.
– Спасибо, сыночек, – глотая слезы, радостно прошептала мать.
* * *
Сразу же за селом Гриша увидел вереницы людей, идущих по берегу Стохода.
Солнце поднималось веселое, улыбающееся. Казалось, что и оно вместе с морочанами радуется началу великого дела. Над болотом то там, то тут еще висели дымчато-голубые клочья тумана. Но туман рассеивался, таял на глазах.
Гриша издалека увидел экскаватор, который из Стохода проделал себе канал с километр длиной и вошел в Чертову дрягву.
Железная пасть ковша с яростью бросалась в болото, огромными сверкающими клыками вгрызалась в густую торфянистую грязь и бросала ее в сторону.
С такой же злостью на болото – виновника вечных бед и несчастий – работали люди впереди экскаватора. Их было сотни две. Впереди всех, рядом с бригадой трактористов, трудился и дед Конон.
Санько обрадовался появлению друга. На прощание он хотел показать Грише все самое интересное на экскаваторе. Но интересного здесь было так много, что рассказать обо всем невозможно не только за десять минут, но и за целый день.
– Идем сперва в кабину экскаватора. Или хочешь в домик? – предлагал он то одно, то другое. – А трофеев наших еще не видел?
– Тро-феев? – неуверенно, будто бы плохо расслышав, повторил Гриша. – Что за трофеи? Вы ж не на войне.
– Александр Федорович каждый день тут бывает и говорит, что мы идем по следам десятка больших и малых войн.
Поднялись на второй понтон, на котором перед желтым сосновым домиком тесным кружком сидели мальчишки и девчонки от семи до десяти лет. Они о чем-то громко спорили, что-то рассматривали. И даже не заметили Санька и Гришу.
Лишь подойдя вплотную, Гриша увидел, что малыши рассматривают оружие, покрытое толстым слоем грязи и ржавчины. Вожаком среди них был Игорек, сын Александра Федоровича. Увидев Гришу, он сразу же заговорил с ним, радуясь, что может поделиться своими знаниями.
– Смотри, музыкант. Это все экскаватор достал со дна болота. Как думаешь, что это за сабля? – Босой ногой Игорек ткнул кривой тонкий кусок ржавчины длиной с метр и тут же добавил: – Мы задумали организовать при школе музей. Так и назовем его: музей Чертовой дрягвы. Ну, как ты думаешь, это очень старинная? По-моему, эта штука лежала здесь лет сто! А?
– Это турецкий ятаган, – неожиданно для самого себя сказал Гриша и посмотрел по сторонам, не смеются ли.
Но никто не смеялся, потому что едва ли кто видел настоящий турецкий ятаган.
– Надо кислотой очистить, и все станет ясным, – посоветовал Санько.
– Кис-ло-той? – широко открыв карие, по-девичьи большие глаза переспросил Игорек. – Почему кислотой? Какой кислотой? Кто тебя учил?
– В Пинске школьники нашли на чердаке польский пулемет. Так уксусной кислотой снимали ржавчину. По радио говорили об этом.
– Гриш, а это французская шпага? Да? А это меч, папа говорит, наверно, самого Карла, того шведского короля, которому Петр Первый давал перцу под Полтавой.
Гриша не дослушал даже и половины того, что хотел рассказать ему Игорек, надо было ехать.
Возвратившись на первый понтон, к экскаватору, он спросил Санька, говорил ли он с Зосей.
– Сегодня все скажу, – шепнул тот, украдкой посмотрев в ту сторону, где работали девушки. – Вон она, видишь? Обещала вечером прийти посмотреть трофеи. Я пойду провожать… и… скажу…
– Конечно! Нечего стесняться: тебе все хлопцы завидуют. Скоро машинистом будешь!
Прощаясь с дедушкой, Гриша захотел хоть немного поработать рядом с ним. Взял лопату.
– Да мы тут сами, – сказал дед. – Ты вот учись музыке. Да так учись, чтоб не краснеть за тебя… Учись. Такая у тебя дорога. Э-э, Грыць… – дед смотрел на внука сквозь необычные для него слезы. – Если и вправду ты станешь музыкантом, то умирать буду спокойно: значит, и я прожил на свете недаром. Совсем недаром…
Больше говорить дед Конон, видимо, не мог. Опустился на кочку, кивнул внуку на другую. Оба сели, чтобы помолчать перед дальней и такой долгожданной дорогой.
Над болотом, которое совсем недавно слышало только проклятия да стоны, теперь разливались дружные, веселые песни. Люди пели о родных лесах, о голубых туманных вечерах, о любви, обо всем таком далеком от той вонючей черной грязи, которая чавкала и хлюпала под ногами.
По небу пролетели самолеты. Девушки, на минуту расправив спину, помахали им вслед. Уходя с болота, Гриша тоже махал большим тяжелым самолетам.
…Стоя в кузове автомашины и глядя на быстро убегающие назад родные места, Гриша чувствовал, что оставить свой край навсегда он не сможет: будет скучать по этим топям, по тихим заводям рек и озер, по шелесту ольшаника и скрипу аиста, по всему, что окружало его с детства. И в сердце его рождалась какая-то новая, светлая музыка.
Проводив внука, дед Сибиряк почувствовал пустоту в душе. Без всякого интереса посмотрел в ясное небо, где опять появились самолеты. Надсадно гудя, они гусиным строем летели на восток.
– Смотрите, смотрите, кто-то упал с самолета! – вдруг закричала Зося.
Воткнув лопаты, люди распрямили спины. Даже черная железная рука экскаватора застыла в воздухе.
На другую сторону экскаватора, там, где канал для спуска воды с Чертовой дрягвы был уже готов, упала огромная бомба, раздался взрыв, в небо взметнулась черная туча болотной грязи.
Дед Конон долго смотрел на то место, где минуту назад был готовый канал, а теперь кружилась грязная, ржавая пена, прыгали и лопались мутные пузырьки. По всему болоту пошел густой, гнетущий смрад.
Старик покачал головой. Вышел из канавы. И нахмурился, стоя возле развороченного болота.
– Тато! Тато-оо! – послышался надрывный крик Оляны.
Конон Захарович оглянулся. По болоту бежала перепуганная, раскосмаченная Оляна.
– Гриша! Гриша! Где Гриша? – задыхаясь, кричала она.
Конон Захарович развел руками:
– Так уехал же.
– Что ж я наделала? Что я наделала! – Оляна ухватилась за голову и заголосила.
– Да что случилось? – направился к ней Конон Захарович.
– Война! Война! Немец уже идет на Лунинец и Барановичи. И Гриша ж поехал через Лунинец! Сынок! Сыночек! – кричала Оляна, глядя через болото.
На северо-востоке слышались частые глухие взрывы и гул самолетов.
Дед Конон с яростью, будто под ногами лежал давний лютый враг, воткнул в болото старую, удобную, но теперь уже никому не нужную лопату.
Люди побежали домой.
На опустевшем болоте, как обожженная громом верба, стояла одинокая, несчастная мать.
– Гриша!
– Сынок!
– Сыночек!
В ответ ей все нарастал и усиливался гул и тяжелый рев фашистских бомбардировщиков.
– Гриша!
– Гриша!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Лопочет старая груша около хаты деда Сибиряка. Лопочет заунывно, приглушенно, точно все время к чему-то прислушивается, чего-то ждет. И о чем она лопочет?
Может, рассказывает о первом поселенце этого края, заблудившемся солдате, который лет сто назад посадил ее зернышком, принесенным издалека-далека.
Или с грустью, день за днем, припоминает недолгие месяцы жизни, когда ничто не нарушало мерного шелеста ее ветвей – ни злобный посвист панского канчука, ни громогласный крик графского десятника, ни плач матери, провожающей сына в Березу Картузскую. Мало было этих дней. Очень мало…
А теперь вот развесистые, отяжелевшие ветви старого дерева опять нашептывают что-то такое, чего еще не бывало в этом горемычном краю.
– Что оно будет? Что будет? – Дед Конон сидит на своем излюбленном пне под грушей, слушает жалобный шелест ее ветвей и плетет никому теперь не нужную корзинку. Плетет, чтобы не сидеть без дела да хоть немножко отогнать горькие, беспросветные думы. Только ж разве их отгонишь! Как надоедливые мухи, не дают они покоя ни днем ни ночью.
Вот уж который день подряд дед Сибиряк видит перед собою два хомута. Куда ни пойдет, за что ни возьмется, а хомуты перед ним, как наяву. Один – панский, засупоненный снизу. Другой большой, крепко слаженный, – немецкий, засупоненный сверху. И все кажется, что вот-вот оба эти хомута наденут на его старую шею и так зажмут дых, что ни тпру ни ну! Точь-в-точь, как говорил Егор Погорелец, когда в тридцать девятом Гитлер начал войну против Польши.
Какой недотепа этот Егор, а сказал, будто в воду смотрел: то ж правда, что вслед за немецкой армией и паны возвращаются. Вот же Барабак – заявился. А там, глядишь, и сам ясновельможный пожалует, холера его не возьмет!
Мысли деда прервал невесть откуда появившийся какой-то светлый, заоблачно высокий музыкальный звон. Сперва дед подумал, что послышалось. А когда над землей, словно мелкий дождь при ясном солнце, просеялась давно не слышанная музыка, дед насторожился, отложил свою работу.
– Брынькнуло… – удивился он и, приставив шершавую ладонь к уху, прислушался. – Вроде бы в той стороне, где школа… Так и есть. Вон и люди туда бегут… Грыць! А пойди посмотри, чего они там собираются. Может, кто с фронта вернулся… А может, того растреклятого Гитлера назад уже гонят, а мы с тобой дома сидим. Тоже называется – патриёты!
– Бог с вами, батько! С кем вы там говорите! Где ж он, тот Грыць! – подходя к отцу, заговорила Оляна. – Нету нашего Гриши. Может, и совсем уже нету на белом свете…
– Перестань! – сурово насупившись, сказал отец. – Не накликай беду! Не верю я, чтоб так сразу и… Сердце говорит, что живой. В большой беде, а все-таки живой…
– Дай-то бог! Дай бог! – ответила дочь, глядя на толпу, собиравшуюся возле школы и вытирая слезы передником из грубого, конопляного полотна.
С первых дней войны Оляна стала ко всему прислушиваться и присматриваться. Все ей кажется: вот-вот что-то услышит про своего сыночка или неожиданно увидит его, живого и невредимого.
Протарахтит по дороге бричка – мать выбегает посмотреть: кто и откуда едет, не знает ли чего о ее Грише.
Соберутся на улице пять-шесть человек – бежит и она: может, кто с фронта вернулся и что-то расскажет.
Ночью скрипнет от ветра калитка или пройдет кто мимо двора – Оляна скорее к окну. Разгоряченным лицом прилипнет к холодному стеклу и смотрит в пустую тьму, пока не одолеет дремота…
Вот и сейчас все ее внимание уже там, на середине села, где собирается народ и, кажется, играет какая-то музыка.
– А тебе не видно, чего там собираются? – спросил Конон Захарович задумавшуюся дочь.
– Пришел какой-то дедусь в серой свитке, – ответила та, подперев пальцем щеку. – Сам такой маленький, а папаха на голове большая, лохматая. И в руках вроде бандура. Кажется, бандурист. – Последние слова Оляна сказала, уже выйдя за калитку.
– Э-э, тебе только кажется. А я твердо знаю: это он и есть. А как же? Раз война почалась, должны идти бандуристы, будить казацкую кровь! Так оно повелось с давних пор…
Оляна была уже возле школы, в самой середине толпы, где переливчато звучали печальные струны бандуры и глухим, словно отсыревшим голосом чуть слышно пел старый бандурист. А дед Конон, не замечая, что его никто уже не слушает, продолжал свое:
– Так, дочко, всегда было на Украине: где горе, там и бандура. Они как те неразлучные сестры, вечно вместе. Вот же после тридцать девятого, когда прогнали панов, нигде и не брынькнуло. Все только гармошки, да балабайки, да песни с плясом на всю улицу. Дедова кобза висела себе где-нибудь на чердаке, и разве только паук пробегал когда по ее чутким струнам… А теперь вот опять засумовала небога, затужила, бо настала пора ее… Э-хе-хе! Беда, народ у нас темный. Верит, глупота, что эти каты минуют наши глухие места, пройдут по большим городам, по широким шляхам. Э-э, знаю я их. Не минуют они! Оляна! Оляна!.. Хэ, да она уже давно там, а я гомоню… Пойду ж и я.
* * *
Бандурист сидел возле школьного крыльца на своей папахе, брошенной на траву, у березки, которая согнулась под тяжестью малышей, повисших на каждой ветке, как галчата. Дедок и на самом деле был маленький, засушенный, словно груша-гнилушка. А уж сколько ему лет, и не скажешь: кожа на лысой голове сморщилась, почернела, от бороды остался какой-то зеленовато-серый клок, и только седые брови торчали навостренно, словно щупали окружающих. На боку у деда висела плетенка из березовой коры, а на коленях лежала старая, потрескавшаяся и почерневшая, как лицо и руки ее хозяина, видавшая виды кобза. И он, казалось, не играл, а так только ощупывал пальцами ее струны: все ли на месте?
Опустив усталую голову и нахмурив колючие брови, бандурист протяжно пел о черных, кровавых тучах, опять нависших над Украиной, о заждавшихся белогривых конях, которые, заслышав бранный клич, рвутся на волю и тревожным ржанием зовут смелых казаков с острыми пиками да меткими ружьями…
Крючкастые черные пальцы бандуриста все проворнее бегали по струнам, голос звучал все сильней, все призывней.
И забывалось, что поет ветхий, невзрачный старик. Да и все забывалось на свете. Думы уносили слушателей далеко от всего, что окружало. И были это лихие, задорные думы, казацкие думы!..
– Пальцы черные, покрученные, вроде корни гнилой ольшины, – как всегда ни с того ни с сего, сказал Егор Погорелец, стоявший в середине толпы.
На него недоуменно посмотрели: к чему сплел? И он тут же пояснил:
– От же и говорю: пальцы черные, корявые, а кажись, не за струны, за самую душу хватают.
– Алэ, – кивнул Антон Миссюра, тоже неотрывно смотревший на бандуриста. – Крэпко дед забирает…
Нахмурив свинцом налитые брови, низко потупившись, Конон Захарович озадаченно смотрел на бандуру, смотрел прямо в широкую зияющую трещину вдоль всей деки и не мог понять, откуда в этом полуистлевшем инструменте берется такая сила, такая неотразимая власть. И пальцы ж у деда, правду говорит Егор, как и у всех, – трудовые, намозоленные, мужицкие пальцы. А чуть дотронутся до струн… И даже не дотронутся, а так только пробегут над ними нетерпеливо, – как тут же рождаются чудесные звуки, поднимаются и вырастают в невидимого, но могучего богатыря, который шагает среди толпы и властно клонит головы слушающих.
Бандура почти совсем затихла, звуки ее стали чуть слышны, как шелест осеннего ветра в сухой осоке. И дед пел уже не под аккомпанемент своего инструмента, а под горестные вздохи стариков да тихие, хватающие за душу всхлипывания баб.
Вечернее солнце спряталось за лохматую черную тучу и вместе с нею уходило куда-то в старый Морочанский бор… Спать оно уходило или рассказывать песню бандуриста тем, кому густой лес стал теперь домом родным, кто его знает…
Еще не смерклось, когда на улице показалась фигура в зеленом мундире польского жандарма. Это был Барабак. Он появился в Морочне на пятый день войны, поселился у Ганночки и жил пока тихо, ни во что не вмешиваясь. Но почему он сегодня вырядился в жандармскую форму? И где он ее раздобыл?
Бывший панский стражник шел неторопливо и важно, как тяжелый, разжиревший гусь.
Многие из тех, кто слушал бандуриста, делали вид, что ничего особенного не замечают.
Не обращая внимания на равнодушие толпы, Барабак еще издали заговорил добродушным, почти ласковым голосом, растягивая слова:
– Добжи вечер, панство. Добжи вечер. Мыслю, цо не зря ховал дед свою брындыкалку. Можно, цо еще самому ясновельможному пану Гитлеру полюбится его брыньканье.
Никто ни слова в ответ.
Барабак сделал вид, что такое невнимание ничуть его не тревожит, остановился между школой и людьми, еще теснее окружившими бандуриста, и молча стал слушать. Поминутно он вытаскивал из кармана тесного кителя тоненький белый платочек и вытирал обильно потевшую бритую голову и белое, как пшеничное тесто, жирное лицо.
Бандурист, закончив песню, обернулся, взметнул холодные, колкие брови на белолицего пана:
– Хочешь, чтоб я еще и Гитлеру заиграл? Поцелуй своего Гитлера в… – глянув на детей, облепивших все деревья и подоконники школы, старик не закончил фразы. – Я сам знаю, кому играть. Конечно ж не таким вылупкам, как ты.
«Вылупок» не спеша закурил сигарету. Отставил правую ногу так, будто всем хотел показать свои до блеска начищенные сапоги с высокими твердыми голенищами. Картинно подбоченясь, Барабак ответил неторопливо и решительно:
– Советска власть кончилась. Там, где прошла великая немецкая армия, устанавливается новый порядок и законное панство вступает в свои права. Это всем понятно. А ты, дедка, напрасно надеешься, что вернется Червона армия.
– А как же, по-твоему! – крикнула из толпы Марфа Козолупиха. – У нас из одного только двора Савчука пошли добровольцами в Красну Армию таких четыре орла, что только держись! И что ж, по-твоему, они станут где-то сидеть сложа руки, когда тут опять хозяйничают паны?!
– Послушайте радио, – посасывая сигарету, невозмутимо советовал Барабак. – Москва пала, а там осталось на одну неделю.
– Э-э, паночку! Мало ты каши ел! – не стерпел все время молчавший дед Сибиряк. – За Москвою земли еще столько, что полсотни твоих неметчин поместится. Кто-кто, а я те земли знаю. Там есть где разгуляться русской силе. Немцы по такому раздолью и ходить не умеют. А война тебе не игра в шашки, чтоб раз-раз и – в дамках!
– Так и бэнде: немцы раз-раз и – в Москву!
– Ха! Так еще только бэнде? – передразнила Козолупиха. – А ты ж говорил, что они уже там, в Москве!
– Попался! – радостно закричали мальчишки.
А взрослые дружно засмеялись.
И это была, пожалуй, первая веселая минутка на улице Морочны за полмесяца войны.
А Барабак, усмехнувшись, гнул свое:
– Цо за вояки из таких, как те четыре быдла, цо вы орлами величаете? Бегут они от первого выстрела, как овцы от волчьего воя.
– Брешешь! Не бегут! – подался вперед бандурист. – Не боятся даже танков! Зубами держатся за свою землю. Может, не поверил бы другому, так сам видел. Восьмеро наших хлопцев целый день держали мост на Случе. А немцев было что мошкары перед дождем!
– Цо ты плетешь, дедко!
– А знаешь ты, панский блюдолиз, что немцы еще Бреста не взяли?! – вскипел бандурист. – А за Ковелем еще целый полк пограничников стоит как стоял! По горло в земле, а стоят солдаты! Ни танками, ни самолетами – ничем не могут их взять твои гитлеряки!
Барабак почувствовал, что атмосфера накаляется, и бочком, бочком выбрался из толпы. А дед спокойно продолжал:
– От еще в тот вечер, как наши вакуировались, подумал я себе: «Чего мне оставаться в этих болотах? За век свой я чуть не всю Россию обошел. Видел тыщи всяких городов, а чтоб умирать в каком-то там Тынном от руки вшивого прусака? Та пропади он пропадом! У меня ж внук в Хабаровском крае пограничником. Зять добровольцем на фронте. Внучка в Красной Армии хилургом. А я тут?.. Нет, и я пойду». Так от же, собрался я, положил в вереньку постолы про запас. Ковалок хлеба. Взял свою бандуру… Ее я не могу оставить, потому как играл на ней самому батькови Миколе Щорсу.
– Эх ты-ы! – раздался восторженный мальчишечий возглас. – Щорса видел!
– А как же! Очень даже много раз видел. Сам я был тогда уже таким старым, как и теперь: не брали воякой. Ну, то я учил партизанов метко стрелять. Когда-то ж я Георгия носил за меткую стрельбу. Был первым стрелком в гвардейском полку его императорского величества. Вот уже старая голова и не помнит, какой тогда царь был императором всей Руси. Много их прошло на моем веку. Так вот слушайте ж. Пошел я прямо на восход и догнал наших вакуированных около моста через Случь. Выхожу из ольшаника, вижу: на мосту подводы с детьми, видно, из детдома – все одинаково одетые. А уже ж совсем развиднелось. Солнце вот-вот покажется. Пташки в лесу поют себе. Им что…
Заметили меня дети, зовут: «Садись, дедусь, подъедешь». А я ж-таки пристал: всю ночь шел лесом. И рад, что случай подъехать попадается. Спешу. Да только вышел на дорогу, а оно как ахнет! Антилерия, значит. Я – назад, в ольшаник. Откуда и сила взялась! Залез в самую гущу и лежу. Передо мною и мост, и дорога, и яма от снаряда, и окопы около дороги – все как на ладони… Потом опять ахнуло, совсем рядом. Снаряды полетели один за другим. Но все больше в воду да на тот берег. Видно, немец хотел только разогнать красноармейцев да добровольцев, охранявших мост, а самого моста не трогать.
Потом утихло. Я уже высунулся, хотел перебежать через мост, да чую, что-то ревет, приближается, скрежещет. Я так и прилип до земли, как червяк. По спине будто холодными граблями кто-то проскреб. Ну, думаю, налетят теперь и – крышка! А оно и не самолеты, а танки.
Так я и увидел на старости немецкую танку. Чтоб ее никогда больше не увидел тот, кто ее смастерил!










