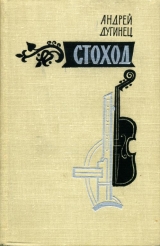
Текст книги "Стоход"
Автор книги: Андрей Дугинец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц)
Девочка вздрогнула и подняла глаза, большие и черные, как ягоды, над которыми она плакала.
– Стражник? – повторил Гриша, кивнув на ягоды.
– У-у-у-гу, – нехотя выговорила девочка.
– Барабак?
– У-у-гу.
– Самый гад из всех панских холуев! Он моего дедушку чуть не до смерти запорол. – Гриша нахмурился, посмотрел в чащу леса, будто где-то тут, за кустом, стоял его заклятый враг. – Я ему этого не забуду…
– А кто твой дедушка? – немного успокоившись, спросила девочка.
– Да тот, что зовут Сибиряком.
– А-а… Я его знаю. Он моей мамке ботинки шил, когда она служанкой у пана работала… Ох, то вам хорошо, вы сами хозяева.
– Какие там хозяева! Ни коня, ни коровы. Только хата, да и та…
– Ну, хоть хата да земля.
– Ковалочек. Теперь есть ковалочек! – с гордостью ответил Гриша. – А ты…
Он не посмел сказать «батрачка». Это слово даже последний бедняк произносил с презрением и страхом. Но девочка, потупив голову, сама сказала просто и привычно:
– Мы батраки. Живем в бараке.
И начала рассказывать, почему пошла за ягодами без «квитка».
– Бронь боже! Я б ни за что не пошла, когда б мама не болела, – говорила она и жестом взрослой горемычной женщины поправляла выбившиеся из-под платка иссиня-черные, вьющиеся на висках волосы. – Мама болеет. Денег нет, а надо лекарство купить.
– А отец тоже в батра… у пана работает? Девочка отрицательно покачала головой.
– Его совсем нету. Давно уже нету.
– А мама когда заболела?
– Тоже давно, а с осени стало хуже: Барабак ударил ее палкой по спине.
– Палкой по спине?! Да что он, сдурел? Я даже коров не бью палкой! Хворостиной и то жалко, хоть они и панские. За что же он?
– Копали панскую картошку. И он нашел после матери две картошинки в земле. Вот такусенькие, – девочка показала кончик своего пальца.
– Его самого бы этой палкой! – сцепив зубы, процедил Гриша. – А ты чья?
– Антосина.
– Ты дочка Антоси? Той самой, что…
– Да одна ж в Морочне Антося, моя мама. Когда-то мы жили тут вот, недалеко, тут и могилка моего дедушки. Он был лесником ясного пана.
– Ах, вот ты кто… – многозначительно кивнул Гриша.
Поняв, что перед ним та самая девочка, на которую, как коршун на цыпленка, целится долговязый Сюсько, Гриша почувствовал к ней еще большую жалость. Ему захотелось сделать для нее что-нибудь очень хорошее. Он присел и, положив между собою и девочкой брыль, начал собирать ягоды.
Но собрать ягоды они не успели. Снова послышался топот копыт и ржание коня.
– Барабак! – вскрикнула девочка. – Он сказал, если еще увидит меня в лесу, убьет.
– Бежим!
Только вбежали в кусты, как через просеку во весь намет проскакала пегая лошадь. На ней припав к гриве, сидел мальчик лет десяти. Одной рукой он держался за повод, а другой размахивал, погоняя коня.
Следом несся Барабак на своем длинноногом сером жеребце. Гриша, неожиданно для самого себя, изо всей силы бросил вслед ему палку. Удар был таким неожиданным, что Барабак покачнулся, треснулся головой о сосну и свалился наземь. Конь отбежал немного и остановился.
– Убил! Убил! – судорожно суча кулачками, зашептала девочка.
– Нет, он сам ушибся об сосну, – возразил Гриша. – Видишь, поднимается…
Гриша схватил девочку за руку, и они побежали прочь. Остановились только на поляне, где паслись коровы. Кругом было тихо. Лишь где-то далеко слышался удаляющийся топот пегой лошаденки, спасшейся от погони.
– Что теперь будет? – спросила девочка.
– Если ты никому не скажешь, ничего не будет, – ответил Гриша, с мольбой глядя ей в заплаканные глаза. – А если скажешь, меня в Картуз-Березу…
– Бронь боже! Бронь боже! – замотала девочка головой. – Так ему и надо!
Умолкли. Прислушались. Теперь каждый шорох казался подозрительным и страшным.
– Как тебя зовут? – спросил наконец Гриша.
– Олеся.
– А меня – Гриша. Знаешь что, Олеся, ты не ходи больше за ягодами в лес…
– Бронь боже! Бронь боже!
– Да ты подожди, ты ж не знаешь, что я хочу сказать… У меня есть целый злот…
Черные тонкие брови девочки высоко поднялись. Глаза раскрылись широко, удивленно и стали еще чернее, а в уголках их сверкнули слезы.
– Сколько тебе надо на лекарство?
– Ты что? Ты что? – девочка заплакала. – Думаешь, я такая, что если не дать мне денег, то все скажу? Это все так думают. Если батрак, так уж… Если живет в бараке, так уже и не человек!
– Олеся! Да нет, ты не знаешь, чего я хочу. Ты понимаешь… Эта курносая шинкарка надула меня и все время будет надувать.
– При чем тут шинкарка?..
– Да ты ж послушай. Ну не плачь. Я продал ей два кошика черники. Она покупает по злоту, а продает в Пинске по пять… Так лучше ты продашь мой кошик ягод, когда поедешь в аптеку. И со мной рассчитаешься, и тебе останется.
Девочка повеселела, вытерла слезы.
– Ну так я могу продавать хоть всегда. Ты собирай и приноси мне, а я буду возить на лодке.
– Ты умеешь грести?
– Не хуже любого хлопца! Ой, как ты разорвал рубашку!.. Дай зашью.
– Не надо. Мама зашьет, – отказался Гриша.
– Пока домой дойдешь, все плечо вылезет. Полотно старое, так и плывет, – по-хозяйски сказала Олеся, уже держа в руке иголку с ниткой, вынутую из ворота платья.
Шила она так быстро, что Гриша не успевал следить за мелькающей иголкой. Перекусила тонкую суровую нитку. Гриша глянул на плечо и удивился. На месте дырочки теперь появилось круглое серое пятнышко, словно каким-то чудом был воткан в рубашку кусочек нового полотна.
– Олеся, беги домой. Через болото. Вечером я занесу тебе ягоды.
– Нет, лучше я сама выйду на дорогу, когда ты будешь гнать коров. А то соседки такие глазастые…
Олеся ушла, а Гриша, задумавшись о ее горькой участи, незаметно для самого себя выгнал стадо на другую полянку, посредине которой было заросшее бурьяном и березками пепелище сгоревшего когда-то домика лесника, деда Олеси.
Гриша устроился на бугорке и начал плести кошик. На середине пепелища уныло чернела высокая печная труба: сама печка, сделанная из сырца, давно раскисла от дождей. Гриша встал, крадучись подошел к развалинам печи и заглянул снизу в черное горло дымохода. Высоко, будто в небе, увидел серую былинку. Теплый воздух струями рвался в трубу снизу и, выходя вверху, шевелил сухую одинокую травинку. Внимательно прислушиваясь к звону былинки, подросток старался угадать, чем лучше всего удалось бы передать этот тихий, но выразительный звук.
За развалинами Гриша срезал ветку бузины. На ходу сделал сопилку. И начал подбирать звуки, похожие на звон сухой былинки. А когда подобрал, заиграл что-то печальное, никогда раньше не слышанное.
Сопилочка то жалобно вздыхала, то переливалась на самых высоких нотах, а то вдруг совсем затихала.
Ветер, воющий в трубе, казалось, нашептывал ему что-то давно позабытое людьми. Гриша играл обо всем этом на дудочке. А бегающий по лесу прохладный ветерок подхватывал песню и разносил по всему свету. Лес шумел теперь еще жалобней и тревожней…
Гриша так увлекся, что, когда недалеко от него зашуршали кусты, вскочил от испуга. Из лесу на поляну вышел человек в сером полотняном костюме и соломенной шляпе, сделанной по-городскому – макушка маленькая, а поля большие. В руке у него был кошик, полный грибов.
«Какой-то пан! Зачем он сюда идет?» – встревожился Гриша.
Незнакомец заметил его испуг и весело заговорил:
– Не бойся, хлопчик. Я новый учитель. Меня зовут Александр Федорович. Я знаю, ты живешь на середине села, возле груши.
Гриша кивнул, но не сказал ни слова.
– А как тебя зовут? – спросил учитель.
– Бардзо проше, пане учитель. Дзень добжи, пане учитель, – стянув с головы брыль, поспешно заговорил Гриша по-польски, как положено говорить с панами. – Бардзо проше…
– Кто это тебя так надрессировал? – улыбнулся учитель. – Со мной говори по-своему, по-украински. Ты же украинец?
– Украинец, бардзо про… – Гриша запнулся на полуслове… – украинец, а зовут меня Гриша Крук.
– Хорошо играешь, Гриша!
– А вы слышали… как я играл? – застенчиво спросил подросток.
– Слышал. Я здесь давно. Кто тебя научил играть?
– Никто… Сам… – еще не оправившись от страха, чуть слышно ответил Гриша.
– А где ты слышал то, что играл на развалинах?
– Нигде.
– Нигде… – задумчиво повторил учитель и заботливо посмотрел в глаза подростка. – Вот что, Гриша, гони-ка своих коров куда-нибудь в другое место, пока этот… не очухался.
– Так вы все видели? – подался вперед Гриша, не замечая, что сам себя выдает.
– Я видел, как он поднялся. Проклинает дерево, на которое налетел. Он думает, что все вышло случайно. Но, кто знает, вдруг мозги у него прояснятся… Кстати, палку твою я сломал и забросил. На ней ведь вырезано твое имя…
Гриша от растерянности ничего не смог сказать и молча пошел к коровам.
«Вот это учитель! – думал он, перегоняя стадо через ручей. – Прежний сразу бы в полицию!..»
* * *
Дед Конон начал понемножку двигаться. И сразу стал поговаривать, как бы сходить на осушенное поле. Но один не отваживался еще отправляться в такой далекий путь, а Гриша не мог уйти от стада.
Наконец выдался дождливый день, когда стадо на пастбище не выгнали. Приказчик заставил накосить свежей травы и весь день кормить коров в хлеву. Наложив полные кормушки мокрой от дождя травы и рискуя получить от приказчика порку, Гриша убежал домой и повел деда на болото. От дождя он накрылся мешком, один угол которого был всунут в другой так, что получился башлык. А дедушка натянул старый брезентовый дождевик, который, чуть намокнув, гремел точно фанерный.
Людей на селе не было видно. Все попрятались от дождя. Кто молотил в клуне, кто веял, а бабы трепали лен или толкли просо. В доме учителя тоскливо пиликала гармошка. Грише хотелось хоть одним глазом глянуть на этот голосистый инструмент. Но до дома, где жил учитель, не дошли: возле старого, подгнившего креста, обвешанного почерневшим тряпьем, повернули на болото. За селом дед с голодной завистью рассматривал недавно поднятые, влажно чернеющие пары. Жадно глядел на большую сочную отаву. Восхищался даже камышами, по его мнению, необычайно «роскошными» в этом году.
– Все этим летом растет, как из воды идет! – говорил он с радостью и в то же время печально.
На панском поле тоже подняли пары. Поле было черное, тучное. Казалось, оно, как живое, радуется теплому дождю. Приближаясь к своему участку, дед шел все быстрее и быстрее. А поднявшись на последний пригорок, вдруг стукнул палкой о землю и застыл на месте, точно у него сердце остановилось.
– Дедушка, что? Вам больно?
Дед так печально покачал головой, словно сразу потерял все, что имел в жизни.
И впервые Гриша увидел слезы на глазах своего гордого, непокорного деда. А глянув туда, куда смотрел старик, он понял горе, постигшее и деда, и мать, и его самого: участок, который они вдвоем осушили, на который возлагали столько надежд, был распахан и сливался с большим панским полем, так что и не заметишь, где была межа, а где тропинка, по которой ходили когда-то на покос.
– Распахали?! – вскрикнул Гриша. – Так это ж наша земля! Дедушка, это ж наша земля! Мы подадим в суд!..
– Э-э, в суд… – Дед долго молчал, все так же устало покачивая головой и вытирая слезы одеревенелой полой дождевика. – Живем мы с тобой, внучок, на бессудной земле…
Пасти коров совсем нетрудно. Да вся беда, что Гриша ничего за это не получал и даже кормился на свой счет. Он понимал, что зимой семью ждет голод, и изо всех сил помогал матери запасаться едой. Коров старался пасти возле ручьев и проток, где можно ловить вьюнов. Каждый день приносил он по корзинке вьюнов, мать сушила их в печке и толкла на муку.
– Молодец, – хвалил его дед. – Не поддавайся нужде. За бедным нужда и горе ходят по пятам, как волк за раненым конем. Чуть опустишь голову – сразу вцепятся в горло. Нужда – правая рука пана. Видит он, что ты в нужде, ну и гнет в три погибели. Но ты не поддавайся…
Сам дед Конон тоже крепился, не хотел поддаваться нужде, которая теперь совсем согнула его спину и, как осенний иней, выбелила бороду и лысеющую голову.
Однажды поздним вечером, возвращаясь домой с тяжелой корзиной вьюнов, Гриша через окно увидел, что дедушка сидит на треногом стульчике возле лавы и при слабом свете лучины сапожничает.
– Дедушка! Совсем уже выздоровели?
– Э-э, меня убить не так-то просто! – ухмыльнулся дед Конон. – Шкура толстая. Одних шрамов да рубцов три слоя. Японец катовал пять суток, да так и бросил в канаву, думал кончусь… В гражданскую один петлюровец на кусочки побил об меня приклад моей винтовки. Добрая была винтовка, совсем новая… А сколько походило по спине панских канчуков, и не сосчитать!
– Дедушка, чьи сапоги?
– Нового учителя.
– Учителя? – насторожился Гриша. – Сам приходил?
– Проходит мимо окна. Вижу, сапог у него совсем распался, ну и постучал, зазвал его.
Когда Гриша вошел в хату, в нос ему ударил запах распаренных вьюнов, которые мать вынимала из печи.
В коминке [9]9
Комин, коминок – печурка, шесток, приспособление для освещения комнаты лучиной.
[Закрыть], потрескивая и помигивая, горела лучина. Склонившись над лавой, дед не спеша вбивал деревянный гвоздь в подошву старого сапога.
Тяжелая, замусоленная лава из дубовой плахи, толщиной в четверть и шириной в аршин, тянулась через всю комнату от двери до икон. Обычно на ней размещалась вся семья. А когда случались гости, то и спали друг за другом – один в святой угол головой, другой – к порогу. На лаве, возле двери, стояло ведро с водой. На большом деревянном гвозде, – пакиле, – вбитом в давно не беленную стену, висела медная кружка, сделанная дедушкой из орудийной гильзы. Рядом с ведром, почти у самого порога, чтобы не сорить по всей хате, и расположился со своим инструментом дед Конон. А возле стола, в полутьме, куда не достает свет коминка, сидел могучего сложения человек в яловичных сапогах с длинными, выше колен, голенищами, в черной кожаной куртке. В зубах за тонкий, изогнутый вопросительным знаком хвост он держал деревянного чертика с маленькими навостренными вперед рожками и чутко поднятыми вверх собачьими ушами. Из оскаленной зубастой пасти и даже из куцых ушей этой замысловатой трубки валил густой табачный дым. Это был главный графский егерь по прозвищу Крысолов. Человек он с виду суровый. Голубые глаза холодные, строгие. А с простыми людьми он добряк. Вся семья Багно в неоплатном долгу у Ивана Петровича. В 1923 году он помог покойному отцу Гриши вырваться из немецкого плена. Много лишений перенесли беглецы на пути из Германии в Морочну. Да не одинаково сложилась их дальнейшая жизнь. Харитон Крук так и не сумел выбиться из нужды, в которую влезла его семья за время войны. А Ивану Петровичу повезло с первых дней. Он был страстным и отчаянным охотником. И за это понравился графу Жестовскому. Сначала граф взял его егерем. А потом доверил все охотничье хозяйство. И не ошибся: Иван Петрович умел не только выслеживать зверей, но и приручать их.
Однажды зимой, наведавшись из Варшавы, граф из окна своей виллы увидел на просеке всего в ста метрах лосей, окруживших стожок сена. Лоси беспечно объедали стожок и не обращали внимания на громкий разговор во дворе. Это понравилось графу, а особенно графине и ее гостям. Они чаще стали приезжать зимой в этот лес. Гости фотографировали лосей из окна и завидовали графу, нашедшему такого зверовода.
В озере Иван Петрович развел ондатр. Местные жители называли этих зверьков крысами. А самого зверовода прозвали Крысоловом. Фамилию Ивана Петровича – Волгин – постепенно забыли, и все обращались к нему только по прозвищу: пан Крысолов.
Осмотревшись в плохо освещенной комнате и заметив Крысолова, Гриша поздоровался. Поставил возле печки корзину с вьюнами. Сел на пороге и начал снимать мокрые постолы.
– Грыць, переобуйся в белые онучи, после ужина отнесешь сапоги…
– Учителю? – обрадовался Гриша и сразу же мысленно увидел гармошку: «Висит где-нибудь в углу и никто на ней не играет по целым дням».
– Ну что ж, Иван Петрович, снимай свой чоботок, – закончив сапог учителя, сказал дед Конон гостю.
Иван Петрович не спеша вынул из зубов чертика и, постучав блестящей, отполированной трубкой по подошве сапога, выбил пепел и остатки табака, потом старательно продул. Так же не спеша спрятал в карман куртки. И лишь после этого разулся и подал сапог.
– Вот тут где-то протекает, – показал он в том месте, где голенище сходится с задником. – На болоте проколол и домой пришел с мокрой пяткой. Хорошо, хоть пальцы остались сухими.
– Э-э, Иван Петрович, ты только раз подмочил себе пятку… А наши ноги до самых коленей не просыхают ни весной, ни летом, ни осенью.
Крысолов после графа был единственным человеком в округе, который ходил по болотам не в лаптях, а в добротных, специально для этого пошитых сапогах. С ружьем и некрасивой на вид пятнистой собакой он исходил все окрестные леса и болота. Оттого-то и здоровый как медведь. Да куда там медведю! У того только сила. А этот и сильный, и ловкий, и умный. А что хитрый, так сам секвестратор позавидует… Охотится он не только днем, но и ночью. И все это не от жадности к дичи. Нет. Из того, что настреляет, большую долю отдает вечно голодающим графским батракам. А диких кабанов, которые попадаются ему чаще, чем другим охотникам, целиком отдает на деревню. Да он вообще очень смелый. Часто даже в присутствии приказчика высмеивает графа и порядки в его владениях. За это больше всего и любят Крысолова мужики всей округи.
За починку сапога Иван Петрович отвалил целый злот. И на выздоровление добавил деду еще горсть мелочи.
– Э-э-эх, Иван Петрович, – вздохнул Багно. – Если б каждую неделю так зарабатывать, я и горюшка не знал бы. А то у кого ж тут сапоги? Нечего сапожнику делать в нашем краю. Вот в Сибири…
Крысолов уже знал, что сейчас дед начнет рассказывать о Сибири, распрощался и ушел. Как только он вышел, Гриша тут же выскочил, будто бы затем, чтоб выбросить старые постолы. Во дворе он пристал к Крысолову:
– Иван Петрович, скажите мне правду, папка погиб за политику?
Крысолов остановился и начал набивать свою трубку, стараясь угадать, какой ответ хотел бы слышать этот юноша. Закурив, он спросил:
– Ну, а сам-то ты как считаешь?
– Конечно за политику. Он всегда ненавидел панов. – И, понизив голос, Гриша добавил: – Как и вы…
– Да, он пострадал за правое дело, – кивнул дымящейся трубкой Крысолов. – Но ты больше ни с кем об этом не говори. Жди. Набирай силу! – И, хлопнув по плечу, бодро добавил: – Смотри вперед!
Когда Гриша вбежал в хату, на столе уже стояла ночевка – длинное, почерневшее и потрескавшееся во многих местах корытце, выдолбленное из березы.
Таких ночовок в хозяйстве каждой морочанки наберется десяток. Они все похожи на обыкновенные корыта, только одни меньше, другие больше. В одних едят, в других тесто месят. Большие ночевки служат для стирки белья. А в тех, что выдолблены из целой колоды, поят и кормят скот. Форма этой неуклюжей посуды нисколько не смущает полешуков, и они ставят ее на стол рядом с фарфоровой тарелкой.
Вывалив из глиняного горшка в ночевку картошку в мундире, Оляна принесла черную деревянную солонку с рыжей, пахнущей рыбой солью и положила пучок зеленых перьев лука.
– Соскучился я по кислому молоку… С беленькой чищеной картошкой бы, – снимая кожуру с картошки, вздохнул Гриша.
– Про молоко забывай, – ответила мать, – а чистить картошку нам теперь тоже нельзя: очистки будут пропадать. Нету нашего поросючка.
Конон Захарович не терпел разговоров за едой. Но сегодня не сделал ни одного замечания: сосредоточенно о чем-то думал. А когда ужин подошел к концу, дед тихо, будто продолжая давно начатую беседу, сказал Грише:
– Нету нам счастья на земле. Совсем нету… Мне с самого начала не везло. Отцу твоему не было удачи. А тебе и вовсе не видать никакого пути…
– Что ж теперь делать! – вздохнула мать. – Такая наша доля.
– Все на долю! За ремесло надо браться. В город ему дорога. Там его доля!
– Кто ж его теперь отпустит?
– И спрашивать никого не стану. Коров за него буду пасти я. А он пускай идет, ищет свое счастье. Иван Петрович советует на лесоразработки… Вот понесешь учителю сапоги, посоветуйся еще и с ним.
– Уже можно идти? – с готовностью вылезая из-за стола, спросил Гриша.
– Утром, – ответила мать.
– Нет! – возразил дед. – Неси сейчас. Завтра ж воскресенье, учителю не в чем в церкву идти.
– И такое говорите! В церкву ему не в чем! А видели вы его в церкви? – спросила Оляна.
– Да я и сам забыл уже, где она.
– Старый учитель был набожный, даже в костел, а кто говорит, что и в синагогу, ходил, не только в церковь. А этот… Второй месяц живет, а в церковь и не заглядывал. Как ни прохожу мимо двора, все слышу: «Як умру, то поховайте…» А голос у него… Только б на клиросе петь…
– Ну, все одно, в крепких да начищенных сапогах, может, и поется лучше. Неси да смотри будь учтивым. Войдешь в покои пана учителя, сразу шапку сними: «Дзень добжи, пане. Бардзо проше…»
– Как раз! Как раз! – обрадовался Гриша ошибке деда. – Он этого бардзанья терпеть не может! Когда поляк говорит по-польски, он и сам будет с ним разговаривать, как чистый поляк. А украинец начинает ломать язык, сразу остановит: говори так, как тебя учили мать и отец.
– Откуда ты это знаешь? – удивилась мать.
– Я уже три раза с ним разговаривал в лесу. Он часто ходит по грибы.
– А-а, так ты с ним уже знаком?! Ну, то еще лучше, – сказал дед. – Я тут просил его, а ты сам еще попроси: может, он уговорит пана отпустить тебя на зиму в школу. Только как же он будет учить? Книги напечатаны по-польски, а он заставляет вас говорить по-своему?
– Книги-то он будет читать как есть, а уроки объяснять по-нашему. Он сказал, что каждый человек имеет право говорить, как ему хочется, и никогда украинца не сделаешь поляком, а поляка турком.
– Говорит-то он правду, – одобрительно кивнул дед, отдавая внуку старательно начищенные сапоги, – ничего не скажешь. Да как бы с той правдой не попал в Картуз-Березу.
* * *
Ну и «покои» у пана учителя! Не такой уж Гриша высокий ростом, а, входя в дом, так треснулся о косяк, что огоньки запрыгали в глазах.
Семья учителя ужинала при свете лучины, горевшей в светильном коминке, который огромным выбеленным известью колоколом висел посредине хаты. Гриша никогда не бывал в этом доме и удивился, что квартира учителя освещается таким старомодным коминком. В Морочне, пожалуй, только в двух-трех домах сохранились они.
Светильный комин, это то, что осталось от курных жилищ. К дырке, пробитой в потолке, подвязывается натянутый на два обруча мешок, внутри обмазанный глиной. К нижнему обручу этой трубы цепляется жестянка, на которой жгут лучину. У осторожных хозяев подвешивается вторая жестянка, для падающих на пол угольков или стоит посудина с водой. Но скряга Иван Гиря пожалел лишнего куска жести, и квартиранту пришлось подставить детский тазик.
– Добрый вечер! – еще за порогом сняв брыль, поздоровался Гриша.
– О, морочанский Шопен! – обрадовался ему учитель и вышел из-за стола навстречу. – А я спрашивал о тебе. Да все, говорят, дома нет. Видно, круто приходится тебе у пана. Садись чай пить. Садись, не стесняйся…
– Мне приказали, чтоб и пас, и навоз убирал из-под коров, и на ночь корм заготовлял. Так я редко рано прихожу домой, – ответил Гриша и, слегка подталкиваемый учителем, сел за стол.
Гриша стеснялся жены учителя. Она казалась ему очень строгой, когда лечила дедушку. Но сегодня он убедился, что эта белолицая женщина очень добра и ласкова. Она налила ему чаю, придвинула миску с домашним печеньем. Ее сын Игорек пил чай только с сахаром, а Грише Анна Вацлавовна положила еще и конфетку. Забыв все наставления дедушки, Гриша так набросился на еду, будто сегодня ничего в рот не брал. Время от времени он оглядывался по сторонам, ища гармошку. Но ее нигде не было. Выпив чай, он перевернул стакан кверху дном и сунул конфетку в карман, для дедушки. Поблагодарив хозяев, перекрестился, глядя в передний угол, где под обычными маленькими иконами висел большой образ в простой черной раме. Гриша решил, что это дочь божьей матери, потому что для самой богоматери она слишком молода и уж очень бедно одета. Наверное, осталась сиротой и вдоволь хлебнула горюшка, хоть и дочка богородицы! О наказе дедушки Гриша все не смел заговорить. Его выручил сам учитель.
– Говорил я сегодня с твоим дедом насчет школы. Хочу придумать что-нибудь, чтобы ты с осени мог учиться.
– Не-е! – Гриша замотал головой. – Пан управляющий не отпустит. Ни за что не отпустит, пока не отработаю долга. Я хочу на лесоразработки, Санько уже там.
– Я все же поговорю с графом, – стоял на своем учитель. – Он шефствует над нашей школой, и думаю, что пойдет навстречу, отложит срок выплаты долга. По-моему, хозяйство его от этого не разорится.
Гриша стал рассказывать о порядках в имении. Он утверждал, что если граф и разрешит, то управляющий сумеет сделать все по-своему, потому что пан живет здесь только два-три месяца, а потом уезжает в какие-то заморские города.
Беседуя с учителем, Гриша все время смотрел на образ горемычной дочери пресвятой богородицы и думал, что небогато живет учитель, если такая важная икона висит в простой, а не в золоченой раме. Ни в церкви, ни в домах он не видел такой иконы, чтоб святая сидела прямо в лесу. Точь-в-точь, как Олеся на просеке. Только Олеся смотрела в траву, на рассыпанные ягоды, а эта глядит в воду. Так же, как тогда Олеся, она прикорнула обиженной сироткой, положила голову на колени и плачет. За нею на ветках птички сидят и, наверное, спрашивают, о чем она плачет.
– Пане учитель, а чего эта пресвятая плачет? – спросил наконец Гриша.
Александр Федорович невесело усмехнулся.
– Да что ты, Гриша! Какая же это пресвятая! Это Аленушка. Сиротка.
– Так это не икона? А я крестился…
– Не беда. Вырастешь, оставишь эту привычку, – успокоил учитель и рассказал про сказочную сиротку Аленушку и художника, который написал эту картину.
Уходя домой и со всеми попрощавшись, Гриша незаметно кивнул и Аленушке, которая теперь стала для него почти живой и чем-то дорогой.
Долго не мог он уснуть в этот вечер, все думал о святых, изображаемых на иконах. И твердо решил, что теперь будет молиться только на те иконы, на которых нарисованы бедные да страдающие святые. И уж ни за что не перекрестится на Георгия победоносца, потому что тот как две капли воды похож на стражника Барабака.
Утром Гриша достал с чердака старую, давно выброшенную икону, на которой был изображен худой, изможденный и окровавленный Христос, несущий на плечах огромный деревянный крест. Жирные, свирепые и роскошно одетые люди били изнуренного Христа кнутами, подталкивали пиками.
«Вот так же было и с дедушкой», – подумал мальчик и прибил икону над своей постелью между печкой и дедушкиной кроватью.
– Мама, значит, всегда так было, что богатые били бедных?
– Откуда ты это взял?
Гриша кивнул на икону:
– Вот же Христа… посмотри, кто бил… Разве это бедняк? Точь-в-точь Барабак. И глаза такие же вытаращенные. А там вон и приказчик с кнутом. Такая же рыжая, как у лисы, хитрая морда. А вон там в углу стоит сам ясный пан… Командует…
– Перестань!
– Мам, а всегда так будет?
– Как?
– Что одни богатые, а другие бедные?
– А как же еще… Богатые всегда были и будут. Так до скончания века…
– Ну-у, сказала… Тебя о таком лучше не спрашивай!
Имение графа Жестовского стояло на берегу озера, среди глухого соснового бора, вдали от сел и хуторов. Несмотря на то, что от Морочны до имения было добрых пятнадцать километров сплошным лесом, учитель отправился пешком. Подводу староста обещал давать только раз в год для поездки в Пинск за учебниками. Впрочем, Александр Федорович такое расстояние считал только хорошей прогулкой, особенно если дорога идет лесом. Но сегодня он решил идти прямо через болото, которое клином вдавалось в старый графский бор и называлось Зеленый клин.
Учитель поверил соседям, которые говорили, что нынешним летом Зеленый клин совсем высох, что на нем косят и ходят вдоль и поперек. Подойдя к болоту, окаймленному дымчатой лентой леса, Александр Федорович переобулся в постолы, а сапоги связал голенище к голенищу и повесил через плечо. Сломил ольховую ветку и, отмахиваясь от комаров и слепней, пошел дальше, ориентируясь на высокий грудок. Но только ступил на густую зеленую траву, провалился до колена. Хотел тут же выдернуть ногу, но, почувствовав вязкое дно, сделал шаг и второй ногой. Так, все время погружаясь до колена в холодное черное месиво, и добрался до сухого клочка земли. Выбравшись на грудок, посмотрел вокруг: земля здесь в прошлом году была вспахана, и теперь на ней росла сурепка, а кое-где виднелась рожь-падалица. «Наверное, лопатами копали. Плуг сюда не доставишь», – подумал он, садясь на прошлогоднюю стерню, и вдруг услышал отчаянную брань. Почти следом за ним по болоту шел мужик с плугом на плече и тащил за собой рябую однорогую корову.
Учитель сразу узнал Егора Погорельца, что отказался посылать детей своих в школу. Даже одному, налегке, пробираться по этому болоту Александр Федорович считал наказанием. А Егор нес на себе плуг да еще и коровенку тащил, как набухшую от воды колоду. Трудно было сказать, кому из них больше доставалось. Человек хоть мог переступать с ноги на ногу, чувствуя твердое дно болота. А корова не доставала до дна и, по сути дела, ползла по черной хлюпающей грязи. Егор тащил ее за налыгач…
«Как же он перетащил свою худобу через трясину?» – удивился Александр Федорович и, главами проследив путь крестьянина, заметил узкую, заросшую камышом плотину из лозы.
Выбравшись из болота, Егор отпустил корову. Она сразу же начала жадно щипать траву. Но налетело столько слепней, что пастись стало некогда. Поняв, что корова не выдержит и, подняв хвост, убежит в болото, мужик начал бить слепней, гулко хлопая по брюху коровы огромными ладонями. Корова успокоилась и стала пастись, лишь изредка помахивая хвостом. Разогнав слепней, Погорелец повернул к учителю угрюмое, утомленное лицо и, как бы извиняясь, что отвлекся, сказал:
– А вжэ ж е тых слипакив, от е!
Больше Александр Федорович ничего от него не услышал, как ни старался втянуть в беседу. Слушал Егор охотно, а на вопросы отвечал только кивком головы.
– Егор, что же вы не записали в школу хотя бы старшего сынка, ведь ему девятый год? – уже собравшись идти дальше, спросил учитель.
На утомленном лице Егора появилось подобие улыбки. Он удивленно посмотрел на учителя большими, по-телячьи покорными глазами.
– Вы знаете, сколько ему годов? – спросил он и уже по-настоящему, во все лицо, благодарно улыбнулся. – Сколько живу, ще нихто нэ пытав про моих детей. А вы…
И совсем неожиданно этот угрюмый молчун начал рассказывать о своей жизни, о том, какой ценой достался ему этот ковалок земли. Говорил он медленно и с такой натугой, будто ворочал тяжелые болотные камни, под которыми дремали нужные ему слова.








