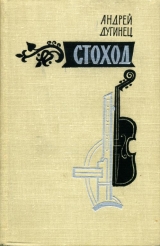
Текст книги "Стоход"
Автор книги: Андрей Дугинец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)
– Давно бы так, – тепло и радостно сказала она.
* * *
Игра на скрипке с каждым днем приносила Грише все новые радости. Он все свободное время отдавал музыке. Даже на баяне приспособился играть. Правда, обходился только здоровыми пальцами, но хлопцы и девчата охотно танцевали под его музыку, потому что он даже тремя пальцами ухитрялся играть лучше, чем кто другой всеми.
По вечерам, когда не было уроков музыки, Гриша заходил за Олесей, и вместе шли в клуб. А сегодня он особенно спешил: хотелось поскорее рассказать Олесе об успехах последнего урока.
Возле дома Ганночки, которая жила теперь тише воды, ниже травы, послышалось девичье пение. Грудным, тоскующим голосом Олеся запевала свою любимую песню:
У поли дубочок,
Зеленый лысточок.
Подкравшись к кусту черемухи, за которым сидела Олеся с подружкой Зосей, Гриша рявкнул баяном. Девушки испуганно вскрикнули, отпрянули от черемухи, а потом подбежали к баянисту и начали теребить его за уши.
Девушки, оказывается, еще только возвращались с работы, сели отдохнуть, посекретничать… Обе они были в свежих накрахмаленных халатах, веселые, беленькие.
Олеся теперь ничуть не была похожа на ту забитую «Аленушку», какой Гриша встретил ее в лесу. Ходила она без головного убора, тугие черные косы тяжело свисали на грудь. В туфлях на каблучке совсем иными казались те же самые ножки, которые год назад были закручены онучами и втиснуты в постолы.
Олесю Гриша считает самой красивой девушкой из всех, каких он видел на свете.
Он знает, что ребята больше всего шепчутся с Зосей. У Зоей косы вьются, как золотые сосновые стружки, глаза у нее голубые, глянешь – и не можешь оторваться. Она смеется не часто, зато уж если улыбнется, так всем с нею хочется радоваться. И все же об Олесе Гриша думает больше, чем о Зосе или других девушках.
– Гриша, идем с нами ужинать, а потом вместе в клуб! – предложила Зося.
От ужина Гриша отказался, но обещал подождать, пока подруги соберутся. В комнату ввалились с таким смехом и шумом, что в стенку сразу же постучали.
– Ой, девочки! – заговорила Олеся, не учитывая, что перед нею девушка только одна. – Честно слово! До чего же смешная наша бабуся, сторожиха! Когда разговариваешь с нею, приставляет обе ладони к ушам да еще и кричит, чтоб громче говорили. А за стенкой слышит каждое слово. Просто смех.
Вышли из дому в сумерках. В переулке увидели бегущего с болота Санька.
– Эй, доктор! Ты куда? Чего так запыхался? – спросил Гриша, остановив друга. – О втором экскаваторе еще не слышно?
– Пришла телеграмма, везут! – ответил Санько.
– Да чего ты так спешишь? Идем в клуб, доктор.
– Не могу. Ни минуты свободной, – ответил Санько. – Бегу за гвоздями.
– Чего ты его все доктором? – локтем толкнула Олеся Гришу. – Обидится!
– Все его так величают. Он же смазчик. А смазчик на экскаваторе то же, что и доктор, он отвечает за здоровье машины.
Санько пошел рядом.
– А дедушка мой опять не придет домой вечерять? – спросил Гриша.
– Что ты, он от машины ни на шаг. А на ночь даже мне не доверяет. Ну, до свидания, – украдкой глянув на Зосю, Санько хотел было бежать.
Но Гриша остановил:
– Да погоди. Зачем тебе гвозди?
– Мы с дедушкой делаем еще один домик на понтоне. Сегодня ночью надо навести крышу.
– Вот здорово! – обрадовалась Зося. – Я бы тоже с вами жила, – и, помолчав, добавила: – Если бы у вас были и девчата…
С разговорами незаметно подошли к клубу и остановились возле кассы. Оконце кассы открылось. Оттуда высунулся Сюсько, поздоровался, жадно глядя на Олесю. Но видя, что на него не обращают внимания, спрятался, сердито хлопнув окошком.
– Санько, на обратном пути загляни в клуб. Я тоже пойду с тобой, – сказал Гриша. – Очень важная новость есть для дедушки. Да и соскучился. Три дня его дома не было. Он будто отделился от нас.
Олеся засмеялась:
– На селе говорят, что дед Сибиряк нашел себе нового внука, Санька Козолупа. Заходи, Санько, мы тоже пойдем крышу крыть.
– Выдумала! – возразил Гриша.
– Пойдем! – настойчиво повторила Олеся.
– Да я знаю, что тебя не переспоришь. Если уж так хочешь, то давай утром.
– Га! Завтра ж воскресенье. Мы можем целый день помогать, – подхватила Зося. – А сегодня идемте на танцы.
Санько растерялся: дедушка будет ждать гвоздей, а он – на танцах.
– А ты гвозди скоренько отнеси и возвращайся, – посоветовала Олеся.
– Одному ему на болоте страшно, – насупился Санько.
– Выдумал! Он ничего не боится! – вступился Гриша за дедушку. – Беги!
– Ладно! Посмотрю, – ответил Санько.
Высунув голову в окошечко, Сюсько проводил взглядом ребят. А когда оба скрылись в ночной тьме, захлопнул окошко, запер кассу и побежал к речке, где стояла его легкая новенькая лодка.
* * *
Санько медленно шел домой и раздумывал, идти ему на танцы или нет. И мысленно представил постоянную картину: он стоит в одиночестве возле танцплощадки, обняв березку и, до боли напрягая шею, следит за Зосей. Ее белое платье раздувается зонтом, мелькают оголенные выше локтей руки, сверкают бусы на тонкой шее. Вальс с Иваном Параныцей, танго с Митькой Дубовиком, фокстрот с Федькой. Саньку обещана полька. И он терпеливо ждет.
Наконец его очередь. Санько сгорает, когда прикасается к Зосе. Голова кружится. Он не смеет глянуть Зосе в глаза даже мельком. Уши, он это явно чувствует, пылают, и ноги тяжелеют, как разбухшие в воде осиновые колоды. И весь он становится неуклюжим, мешковатым, самому себе ненавистным. Надо танцевать легко, свободно, смотреть ей в лицо, улыбаться, болтать, как другие. Но все идет не так, как хочется. Кружится он тяжело, неловко. И не он ее ведет, а она его тащит по кругу. Танец длится, как кошмар. Но вот полька кончилась. Зося поворачивается на одной ноге и, улыбнувшись, говорит:
– Сань, ты танцуй еще с кем-нибудь, а я обещала Феде вальс. Хорошо?
И уходит, затерявшись в шумной, веселой толпе, освещенной чуть помигивающими электролампами, развешанными между деревьями.
Санько долго стоит в тени под березой и удивляется, что другие ребята даже с Зосей танцуют запросто, легко и свободно, как со всеми прочими. Неужели она им кажется такой же, как и все другие девчата?
Сердце гложет обида: ты так хорошо о ней думаешь, а сам ты для нее ничто. Видишь, ей все равно, с кем танцевать. Но с другими лучше. Особенно с агрономом. Третий раз уже идет с ним в этот вечер. Как же, образование!
Какие-то девушки заговаривают с Саньком, но он отходит от них, не сказав ни слова.
Что ему они, когда Зося танцует с другими, говорит с другими, улыбается, светит глазами другим.
Разбитый, угнетенный, Санько один бредет домой. Только луна сочувствует ему. Большая, тяжелая, она устало и понимающе смотрит на парня, одиноко бредущего по спящему селу.
…Санько очнулся от раздумий почти возле дома и решил не ходить на танцы. Не заходя домой, где все уже спали, он побежал к речке, взял в сарайчике торбочку с гвоздями и с разбега вскочил в лодку, ожидавшую его в камышах.
Упираясь веслом в дно Мутвицы, неглубокого притока Стохода, Санько быстро погнал лодку, ловко заворачивая на крутых изгибах речушки. Вода за кормой ворчала, как раздразненные щенята.
Санько улетел мыслями далеко вперед, в те времена, когда все болота Полесья превратятся в луга и нивы, а мелких речушек вовсе не станет. Все они будут углублены и выпрямлены. Появится много новых рек и каналов. По всем направлениям пойдут пароходы, катера и баржи. И тогда Санько переучится на капитана, а лучше всего на машиниста парохода. Конечно же, на машиниста, потому что машинист – это душа корабля. Вот хотя бы и на экскаваторе. Чем плохо машинисту? Вся жизнь корабля зависит от него. Он хозяин каждого винтика, каждой гаечки…
На болото ночь спустилась всеми своими туманами. В двух метрах от берега ничего не видно. Лодка идет сквозь сплошную серую мглу.
– Эй, кто там? – Санько приподнял весло, прислушался.
Кто-то плыл по другому, параллельному рукаву речки. Но лодки не видно было за кустами ольхи, окутанными туманом. Только по всплеску воды можно было догадаться, что та лодка плывет в сторону села.
– Дедушка, вы?
В ответ чаще заплескалась вода.
«Кто ж это? Может, сам механик наведывался к экскаватору? – подумал Санько. – Но почему он молчит?»
Последний поворот. Со стороны экскаватора тянет дымком. Видно, дед Конон еще только ужин готовит. Выскочив на берег, Санько окликнул дедушку. Но ответа не было. Подбежав к потухающему костру, увидел уткнувшегося в землю старика. В руке его торчала деревянная ложка, которой он обычно помешивал в котле. Шапка на голове была залита кровью. Санько приподнял старика, и тот глухо застонал.
Сорвав с себя рубашку, Санько туго завязал ею голову деда. Перевернул его навзничь, чтоб легче было дышать.
– Кто вас? Чем вас ударили? – спрашивал Санько. – Сейчас, дедушка, я побегу за доктором.
…А в полночь жители Морочны стояли на площади, по четырем сторонам которой ярко горели костры-сигналы для санитарного самолета.
Конон Захарович был ранен серьезно. Главврач Морочанской больницы хирург опытный, но он не решился делать такую сложную операцию и вызвал консультанта из областной клиники.
Прибытие профессора на самолете ради спасения жизни какого-то сторожа был настолько знаменательным событием, что никто в селе так и не ушел спать до самого утра.
И утром, когда хирург улетел, мужики расходились, цокая языками:
– Прохвэсора вызвалы! Ты подумай! За ради якогось шкарбуна – прохвэсора вызвалы…
* * *
Гриша сидел в маленькой, разгороженной прилавком конторке сапожной мастерской. Он принес в починку старый кожаный портфель Никодима Сергеевича, уезжавшего в отпуск. Мастер пообещал сейчас же прострочить разлезавшийся по швам портфель.
– Как там Конон Захарович, выздоравливает? – спросил Егор Погорелец, которого дед Конон оставил вместо себя старшим мастером.
– Самое страшное теперь позади, – ответил Гриша и снова задумался о своем.
Юношу беспокоил вопрос: кем быть? Никодим Сергеевич уезжал в Ровно, чтобы добиться приема Гриши в училище. Но Гриша не верит, что его примут, и боится, что на экзамены вызовут как раз в тот момент, когда в Морочну придет второй экскаватор, на который он надеется попасть «доктором». Вдруг провалишься на экзамене по музыке и экскаватор прозеваешь? Да и за деда он теперь боялся.
Никодим Сергеевич и не подозревал, какая борьба идет в душе ученика. А между тем Гриша все больше настраивался на то, чтобы отказаться от поездки в город. На скрипке он уже свободно играл по нотам. Теперь только побольше играть, набивать руку. Он уже известен всему району как лучший музыкант. Чего еще?
«Вот отнесу портфель, все скажу и убегу. Сразу же убегу, а то уговорит. Он такой…» – думал Гриша о Никодиме Сергеевиче.
В конторку вошла веселая, разговорчивая Ганночка. За нею влетел Сюсько. Громко поздоровавшись, Савка подсел к Грише и начал рассказывать о только что привезенном новом фильме. Гриша почти не слушал его.
– А как скоро люди привыкли к кожаной обувке! – кивнул Сюсько на Ганночку, – Раньше даже по праздникам ходили в постолах, а теперь и в будень – ботинки.
– Ни разу не обувала постолы, как вернулась в Морочну из Варшавы, – высокомерно заявила Ганночка.
– А тебе что, досадно? – покосился Гриша на Сюсько. – Сам-то ты и при панах…
– У меня были батьковы. Я их только по большим праздникам обувал. – Да я что ж… Я ничего… Я так только… что все это хорошо. И просто вспомнил, что раньше дед твой был один сапожник на весь район, а теперь целую мастерскую построили.
Грише надоела болтовня Савки, и он отошел и стал смотреть за прилавок, где кучей лежали сапоги и ботинки, на подошвах которых мелом были написаны номера.
Вдруг в этой свалке обуви Гриша заметил что-то зловеще знакомое. Крадучись, будто шел на хищного зверя, направился в угол.
– И что ты там увидел? – спросил удивленный Сюсько.
– Может, гадюка заползла, – испуганно сказала Ганночка и, осматриваясь вокруг, поспешно попятилась к порогу.
– Тот! Тот самый! – вскрикнул Гриша, ухватил небольшой старый сапог с порванным носком и бросился к сапожникам:
– Чей? Чей это сапог?
– Чего ты кричишь? – поднял на лоб очки Егор Погорелец.
– Дядя Ягор! – дрожащим голосом говорил Гриша. – Это сапог того человека, который убивал дедушку. Возле костра остались его следы. Я сразу узнал по скрюченному гвоздику! Вот смотрите, смотрите. Гвоздик загнулся червячком. Я его давно знаю. Он еще при панах творил всякое… Этот подлюга искал Александра Федоровича по лесу, я видел след этих сапог возле ручья. Он подслушивал, когда я рассказывал про Спартака…
– Постой, постой. – Погорелец отложил работу и, с трудом разгибая спину, встал. Внимательно осмотрел сапог, учинивший людям столько бед, и направился в конторку. – Сейчас узнаем… Сейчас… Значит, какой там нумер?.. Так… – И он начал искать в регистрационной книге фамилию человека, сдавшего в починку злополучные сапоги.
Гриша, держа в руках по сапогу, стоял за спиной Погорельца.
– А этот, наверное, знает что-то, – сказала Ганночка.
– Кто? – спросил Гриша.
– Да Сюсько ж. Как услышал про сапоги, сразу смылся.
– Гриша, ну-ка сам посмотри. А то у меня что-то глаза плохо… – сказал сапожник, держа палец на листе бумаги.
Гриша прочитал:
– Сюсько. – Тут же сам себя громко переспросил: – Сюсько? – и бросился прочь.
Размахивая рваными сапогами, Гриша бежал по улице и, натыкаясь на встречных, спрашивал, куда делся Сюсько. Люди смотрели ему вслед и недоуменно пожимали плечами. Когда он влетел в дом Сюсько, мать Савки стояла посреди комнаты, широко расставив руки, будто сейчас выронила и разбила какую-то долго хранившуюся посудину. И лицо, и глаза ее были бледно-серыми, безжизненными.
– Его… его… нету, – пролепетала несчастная старуха.
Гриша выбежал во двор, заглянул в окно недостроенного дома, которым в последнее время Савка хвастался перед всеми, в особенности перед Олесей. Побежал к сараю. И тут мимо него верхом на коне проскакал растрепанный, раскрасневшийся Сюсько. Он лупил копя палкой по ребрам. Прямо по зеленым, еще невысоким коноплям он ускакал в лес.
Бежать за ним пешком не было смысла. И Гриша, постояв немного среди двора, тихо поплелся в комнату. Старуха стояла на прежнем месте и дико вытаращенными глазами смотрела куда-то в пустоту. Только теперь Гриша заметил, что Савкина мать держит в руках толстую пачку денег.
А деньги эти, оказывается, целую неделю Савка прятал по закоулкам и бросил их матери только сейчас, когда пришлось удирать. Получил он эту тысячу рублей совершенно неожиданно…
Поздно вечером возвращался Савка с покоса, навстречу ему из лесу вышел Барабак. Сунул в руку деньги и сказал: «Убей Конона Багна. Если не сделаешь, через неделю в НКВД будут знать все, что ты делал при панах… Они не расстреляют – я удушу, как собаку». Сказав это, Барабак скрылся.
Савка долго стоял в лесу, не решаясь сойти с места. Ему казалось: сделай он только шаг – и все узнают, что он получил деньги за убийство человека. До сих пор Савка занимался лишь мелкими подлостями, подслушиваниями, доносами. Все это он не считал особенным грехом. «Но убить человека – это смертный грех. И не убить нельзя, потому что тогда самого уничтожат», – рассуждал Сюсько, стоя на лесной тропинке. И наконец решился: «А, черт с ним, с грехом! Зато, если укокошу, дострою хату и Олеся обязательно будет моей».
Когда вернулся с болота, возле кассы никого не было. Савка пересчитал кассу и ушел домой. Мать не заметила, каким он вернулся возбужденным. «Тогда все сошло мне с рук. А теперь… Куда теперь деваться? – нахлестывая коня, думал Сюсько. – Главное – ускакать из района, поближе к польской границе…»
* * *
Антон проснулся очень рано, хотя в воскресенье можно было бы поспать подольше. В эту ночь ему вообще не спалось. Вчера все работники МТС переселились в графский палас, потому что бывший скотный двор и общежитие были отданы только что родившемуся в Морочне колхозу. Антон получил для постоянного жительства дом Рындина, где больше десяти лет прожил батраком. Чувствовал он себя в этом доме неуютно и долго не мог уснуть. Вздремнул только под утро. А с восходом солнца уже был на ногах. По привычке читать все, что попадалось под руки, перечитал половину старой газеты, случайно кем-то оставленной в доме. Потом, растопив печку, поставил горшочек с картошкой в мундире. А пока завтрак варился, решил забить двери в комнаты, чтобы жить только на кухне. Зачем ему три здоровенных комнаты? Ему и в каморке когда-то было не тесно. А на кухне тем более: просторно, светло и все под руками. Другое дело, если Оляна перейдет к нему с сыном и отцом…
Набрав гвоздей, Антон расположился возле бывшего кабинета управляющего, как вдруг услышал, что хлопнула калитка, и тотчас на пороге появилась раскрасневшаяся, возбужденная быстрой ходьбой Оляна.
– Так рано?! – и растерянно, и радостно воскликнул Антон, откладывая молоток и виновато поясняя, что он собирался делать.
– Заколачивать комнаты? – удивилась Оляна.
– Алэ.
– А где ж мы будем жить? – задорно спросила Оляна, с удовольствием замечая, какая радость загорелась в глазах Антона. – Раскрывай все окна и двери настежь, выноси мебель во двор. Будем белить, мыть. А как Гриша устроится учиться, переберемся с батьком, пока не придавило нас в той развалюхе. – Оляна вдруг всплеснула руками и удивленно спросила: – Антон, ты что это икону повесил? Неужели молиться собираешься?
– На такую чего ж не помолиться, – как-то хитро улыбаясь, ответил Антон.
Оляна подошла поближе.
– Тю-у! Я думала, это богоматерь, а это ж Серафима Ивановна, наша докторша.
– Алэ.
– Где ты взял ее карточку? – как-то встревоженно спросила Оляна.
– Украл.
– Ук-рал? – Оляна смотрела на Антона, словно не узнавала его.
– Не думай плохого, Оляна. Больше ж я ничего и не украл за всю жизнь, – виновато моргая, говорил Антон. – Богу ж тому молился сорок лет, а так и оставался слепым. На докторшу не молился ни разу, а за два дня сделала зрячим. Вот и украл…
– Так это она тебя лечила?
– Алэ.
– Ну, тогда ее место в переднем углу. – И, сняв позолоченную рамку с портретом врача, Оляна бережно понесла ее в горницу…
* * *
Крысолов возвращался из поездки в Ровно по делам охотсоюза. Возле речки, ведущей в графское озеро, слез с подводы и пошел лесом, чтобы отдышаться от городской пыли, которой вдоволь нахватался за два дня. Входя в лес, он всегда чувствовал себя дома: здесь все знал, все понимал. Знакомая ему одному, чуть приметная тропинка вела сначала по сухому и далеко просматривающемуся бору, потом она повернула в чащобу, где сразу же запахло болотной сыростью и ольхой. Но вдруг к этому запаху примешался вкус дымка.
«Гарь?» – подумал Иван Петрович, но пожаров в таком сыром месте не может быть, да и пахнет гарь солоней и горше. Нет, это свежий дымок. Вот потянуло сильнее.
Кому понадобилось в этой глуши разводить костер?
Тихо, словно выслеживая дичь, Иван Петрович стал пробираться сквозь чащобу на запах дымка. Наконец увидел в густой заросли ольхи маленький и, как ему показалось, осторожный костер. Возле него сидел взлохмаченный человек и жарил рыбу, нанизанную на прутик. Он был так увлечен своим делом, что не услышал, когда Иван Петрович наступил на незамеченную в траве хворостинку. Лица незнакомца не было видно – он сидел к Крысолову спиной. Но чувствовалось, что человек этот не старый. Иван Петрович немного постоял, потом решительно двинулся вперед, уже не остерегаясь. Незнакомец вдруг резко обернулся. Вскочил, выронив свой «шампур» с рыбой. И хотел было шарахнуться в кусты. Но Иван Петрович, узнав в нем Сюсько, приветливо поднял руку и остановил его…
Почувствовав, что у парня что-то случилось и он боится людей, Иван Петрович присел у костра, не спеша раскурил свою трубку и стал рассказывать о своей поездке в город. Сюсько мало-помалу освоился, осмелел и тоже присел. Голод брал свое. Он поднял «шампур» и начал есть еще почти сырую рыбу.
– У меня осталось немного хлеба, – Крысолов раскрыл кожаную сумку и отдал ему большую краюху хлеба.
Сюсько схватил ее и, ни слова не говоря, начал жадно грызть уже засохший хлеб. Когда он съел и хлеб, и рыбу и напился тут же из ручейка, Иван Петрович, глядя в костер, спросил осторожно:
– Что, и тебя большевики загнали в корчи?
Сюсько кивнул головой.
– Я думал, они только богатых… – продолжал Крысолов, стараясь помочь парню разговориться. – А тебя, наверное, за то, что был десятником?
– Ага! Припомнили и батьковы дела, – заговорил наконец Сюсько. – И хотели прямо в Сибирь.
– В Сибирь? – удивился Крысолов и, поразмыслив, сказал рассудительно: – Да зачем тебе в Сибирь? Уж лучше поезжай в Гродненское лесничество. Там у меня есть товарищ. Он пристроит.
– Найдут! – со страхом ответил Сюсько.
– А он сделает другие документы – и концы в воду.
Сюсько и радостно, и растерянно развел руками, не зная, как и благодарить этого столь доброго человека.
– А пока что поживи в моем охотничьем курене, – и, посмотрев на растерявшегося Сюсько, Иван Петрович хлопнул его по плечу. – Да ты меня не бойся. Мне самому, может, скоро придется удирать от них…
– Ни в какое училище я не поеду! Буду учиться на машиниста экскаватора, – с отчаянием говорил Гриша деду. – Если бы я тогда был с вами на болоте, ничего не случилось бы.
– Не валяй дурака, а то вот выдужаю и выпорю. Я ж ни разу тебя так и не порол, – усмехаясь, говорил дед Конон, впервые вышедший из больничной палаты в садик. – Садись! – показал он на скамейку под молодой березкой. – Ты тут ни при чем!
– Как же ни при чем? Бродил весь вечер с баяном, веселился да еще и Санька подбивал оставить вас на ночь одного! Сам, выходит, помогал тому гаду убивать вас.
– Да не убил же! – улыбался Конон Захарович внуку и яркому полуденному солнцу. – Нелегко убить меня одним махом. В полиции полдня лупили палками, топтали каблуками. В гражданскую два дня шомполами стегали беляки. Кто только не колотил мою голову! А она все держится. Крепкая голова! А теперь уже будет сто лет держаться. Оно, конечно ж, досадно, что сразу, как пришли Советы, мы не раздавили эту блоху. Но думалось, что десятник, сын холопа – не такая страшная птица.
– Дедушка! Я все-таки останусь на экскаваторе. Не поеду в школу. Все равно буду мучиться, что столько напортил вам.
Конон Захарович цыкнул теперь уже таким тоном, что Гриша сразу притих.
– Человек за тебя хлопочет, а ты… Любишь музыку, так по этой линии и прямуй. Хватит того, что я прожил жизнь, как по болоту проблукал. Из-за того несчастного ковалка земли весь век кружился по трясунам да кочкарям. А пришел туда, откуда вышел… И теперь хоть сначала всю жизнь начинай. Помнишь, все твердил тебе: борись с нуждой. Да и сам верил, что это и есть главное в жизни. А теперь вижу, не так понимал… Э-э, совсем не так… Главное в жизни – найти свою дорогу. Попадешь на свою дорогу – проживешь человеком. Не попадешь – проблукаешь, как теленок, отставший от стада…
У каждого человека бывает, как теперь у тебя: расходятся перед ним дороги и он не знает, какую ему выбрать. Так случилось когда-то и со мною в солдатах. Мне тогда шел двадцать первый год. Полюбился я своему командиру. Василь Чибис звали его. Из простых рабочих, а дошел до унтера. Ну, унтер как унтер: за царя, за отечество да все такое. А потом – бац, посадили нашего унтера: листовки в полку раздавал. Политические. Против царя…
А за каких-нибудь три дня до этого у нас с ним беседа была с глазу на глаз. Сели мы возле речки, и нарисовал он передо мной три дороги.
По одной идут люди с торбами, ищут кусок хлеба.
Другая – узкая, каменистая дорога борьбы за всех. Там про себя забывай. Там живет человек не ради ковалка хлеба для своего пуза, а ради всего народа.
А по третьему, широкому шляху бредут целым табуном, бредут «куда кривая вывезет».
Нарисовал он и спрашивает:
– По какой дороге пошел бы ты, Багно?
А что я ему мог ответить? Пойду себе, как батько мой когда-то шел, за ковалком хлеба. Такая наша мужицкая доля.
– Дедушка, а где тот человек? – спросил Гриша, глядя в затуманившиеся от грустного воспоминания глаза старика.
– Заморил его царь в тюрьме.
– Так и вас заморил бы, если б пошли по той дороге!
– Э-э-э! Ничего ты, вижу, не понял, – вздохнул Конон Захарович. – Василя замучили, зато про него песня поется. Хорошая песня! Так прямо и начинается:
Замучен тяжелой неволей,
Ты славною смертью почил.
Видишь? Почил славною смертью, – подчеркнул дед. – Слова я уже перезабыл. А только ж знаю, что песня та как есть про него сложена. Вот оно как… – Дед помолчал, улыбаясь какой-то, видно самой сокровенной, своей мечте, и продолжал уже тише и ласковее: – Я вот лежу в палате, слушаю радио и думаю: а скоро вот так же люди будут слушать музыку моего внука…
Долго сидели молча. Собравшись уходить в палату, дед Конон еще раз повторил:
– Обдумай все как следует. Со всех сторон обмозгуй да так и прямуй своей дорогой. Только своей!
Из больницы Гриша направился прямо к речке, чтобы по протокам плыть в графское озеро. Жил он теперь, как и все трактористы, в общежитии МТС, в бывшем графском паласе. Но последнюю неделю ночевал у Антона Миссюры. Узнав, что идет второй экскаватор, Гриша прилип к Миссюре и все свое будущее связывал с ним больше, чем с музыкой.
Он уже стоял в лодке, когда к речке подбежала Олеся.
– Тебе письмо! – размахивая голубым конвертом, сказала Олеся и прыгнула в лодку.
Гриша схватил конверт, нетерпеливо разорвал его и вскрикнул:
– Приняли! Олеся, приняли в музыкальное училище!
– Давай покатаемся, – словно не замечая радости друга, предложила Олеся. – И я поплыву с тобой на графское озеро. Я хочу увидеть дом, в котором жила…
Гриша охотно согласился и направил лодку по узкой протоке в противоположную сторону от села. Плыли почти молча. Олеся была грустна, смотрела то на воду, то на берег, словно прятала взгляд.
– Леся, ты чего такая невеселая? – спросил наконец Гриша.
Олеся еще ниже опустила голову. Под черными длинными ресницами сверкнули слезы.
– Олеся, что с тобой? – обняв ее, спросил Гриша. – Ты не рада, что я еду учиться?
– Я ра-ра-да… – заплакала девушка. – Только ты выучишься и забудешь меня.
Гриша поцеловал ее в мокрую от слез щеку. Олеся не противилась, а, прильнув головой к его плечу, заплакала еще горше.
– Так всегда бывает. Ученые… с неучеными не… не знаются.
– Но ведь ты тоже собираешься учиться…
Олеся махнула рукой:
– Уже не хочу на врача. Теперь хочу агрономом.
– Но ты ж уже подружилась с медициной.
– То так вышло. Случайно… Теперь вижу, долго не вытерплю. Тяжко смотреть на больных. Я в детстве насмотрелась на больную маму. Да еще и теперь… В поле бы…
– Ну что ж… Учись пока в вечерней школе. А потом поедешь в город. Там встретимся.
– Нужна я тебе буду в городе! Там не такие найдутся…
Плыли уже больше часа. Но Олеся никак не могла успокоиться. Гриша никогда не думал, что письмо, которого он ждал с таким нетерпением, может причинить ей столько горя.
Вдоволь наплакавшись, Олеся достала платочек из рукава платьица, вытерла глаза и сказала тоном, не допускающим возражений:
– Поедешь завтра на рассвете. Александр Федорович едет поступать в институт и тебя отвезет. А сегодня всю ночь будешь играть мне на скрипке. Когда выучишься, будешь играть всем людям. А эту ночь играй мне, только мне!
Гриша грустно усмехнулся.
– Чудачка ты, даже когда я буду далеко от тебя, играть буду только тебе. Одной тебе! Я читал в книжке, что у всех музыкантов была любимая и они всю жизнь играли только для нее.
– А я у тебя любимая?
Крепко зажмурив глаза, Гриша кивнул утвердительно.
Вечером курсанты и работники МТС собрались на берегу озера под старой косматой березой. Всем хотелось в последний раз послушать своего музыканта.
Из-за елей, дружной хмурой ратью окруживших озеро, взошла горячая, чуть ущербленная луна. Черный лес сразу же отступил от берегов. И по воде побежала золотая дорожка. В самом конце ее едва заметной точкой чернела лодка. Оттуда вместе с тихим плеском волн доносились чуть слышные всхлипывания скрипки.
Луна медленно и величаво плыла по светлому звездному небу. И по мере того как она поднималась над озером, жалоба тоскующей скрипки все нарастала и нарастала… На берегу перестали шептаться. Прижавшись друг к другу, девушки молча смотрели на озеро, с которого тянуло чуть заметным прохладным ветерком. Ветерок этот тихо шевелил тяжелые косы берез. А скрипка то умолкала, словно переводила дыхание, то снова рыдала, как подстреленный, отбившийся от стаи журавль.
Мелкие, зыбкие волны с шелестом выбегали на песчаный берег, бросали к ногам девушек жалобные звуки и возвращались назад, чтобы принести что-то новое, еще более грустное…
Луна уже стояла над самой серединой озера. Ветер не спеша гнал по золотой дорожке стайки серебряных рыбок.
Музыки почти не было слышно. Теперь по озеру плавно, задумчиво разливался тоскующий голос Олеси:
Плыви, мий виночку,
Шукай мою долю…
Девушки, сидевшие на берегу, догадывались, что лодка подплыла к ручью, вытекающему из озера, и Олеся пустила на воду венок. Пустила и смотрит, быстро ли поплывет ее венок, к какому берегу прибьет его вода или закружит на одном месте и навеки поглотит в загадочной черной пучине. Не дай бог никому такой доли! Век останешься одинокой.
В полночь девушки неохотно пошли спать. И даже в постели долго прислушивались к песне о поисках доли и счастья, о проводах милого в путь.
Счастлива молодость, полная не только веселья и смеха, но и тихой грусти, и тоски, и печали, и слез…
* * *
Гриша и Олеся вышли на берег, когда луна потускнела и начала неохотно спускаться с неба. Вздрогнув от прохладного ветерка, Олеся прижалась к другу, и он обнял ее обеими руками, стараясь согреть своим теплом. Так они молча шли по темной березовой аллее. Когда аллея круто повернула к дому, чуть белеющему в сосновом лесу, Гриша свернул влево по тропинке.
– Пройдем еще по берегу, – прошептал он.
– Идем, идем. Хоть до утра…
И опять замолчали…
Озеро дремало. Густой сизый туман исподволь закутывал его со всех сторон, как мать своего единственного младенца.
Миновали большой деревянный дом Крысолова, окруженный кудлатыми березами, похожими на ведьм, собравшихся купаться. Ведьмы разделись донага. Распустили зеленые косы. А в воду – боятся. И вот столпились вокруг дома, ожидают, когда затопится печь, чтобы погреться дымом из высокой черной трубы. В доме Крысолова темно и тихо. Собаки во дворе хозяин не держит. А охотничьих на ночь из дому не выпускает.
За домом, вдоль берега, деревья становились все гуще и гуще. Среди сосен все чаще попадались угрюмые старые ели. Где-то тут расставлены клетки ондатр, которых Крысолов разводит теперь уже не для забавы панам, а для государства.








