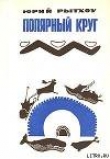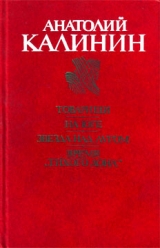
Текст книги "Товарищи (сборник)"
Автор книги: Анатолий Калинин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 39 страниц)
– Нет.
– А ошибки свои признаешь?
…………………………
– Признаю.
– Так в чем же дело?
– Статья неправильная».
Недоумение, обида и горечь сквозят в каждом слове Макара. А Давыдов, подстегиваемый непримиримостью Макара, тоже накаляется и уже начинает вслушиваться только в прямой смысл его слов, забывая о том, что стоит за его словами. Теперь уже не до личных трагедий, и логика идейной борьбы не знает друзей. Вскоре дойдет до того, что теряющий терпение Давыдов скажет Макару: «Партию ты по-своему не свернешь, она не таким, как ты, рога обламывала и заставляла подчиняться».
Давыдов прежде всего солдат партии, а перегибы в колхозном движении, по его твердому убеждению, уже причинили делу партии огромный вред. Ему и раньше чужды были крайности Макара. Но, по собственному опыту зная, что в этой чреватой всякими неожиданностями обстановке ожесточенной борьбы начинали кружиться и не такие головы («заодно и наши головы малость закружились»), Давыдов и против того, чтобы впадать теперь в другую крайность – учинять расправу над Макаром Нагульновым и подобными ему организаторами колхозов. И, даже оставаясь под впечатлением статьи Сталина «Головокружение от успехов», Давыдов по сути своих поступков против жестких методов по отношению к коммунистам – организаторам колхозов, против новых перегибов.
Первые страсти поостыли, и вот уже не поддавшийся им Давыдов отказывается от первоначального намерения наказать Макара: «Нет, не надо! Сам поймет. Пусть-ка он без нажима осознает. Путаник, но ведь страшно свой же…»
Давыдов явно против того, чтобы открывать огонь по своим. Сегодня начни расправляться с такими, как Макар, а завтра…
* * *
Подлинная дружба, как и любовь, бескомпромиссна, а споры Давыдова и Нагульнова на собрании гремяченской партячейки – это споры друзей, неразрывно связанных общностью интересов и целей.
На чьей же стороне автор? На стороне ли Давыдова, чья убежденность в недопустимости перегибов при организации колхозов не вызывает сомнений? Или на стороне Нагульнова, чья преданность партии тоже несомненна, хотя и допускал он перегибы?
Шолохов на стороне правды. И как бы ни были близки его сердцу оба героя – его главным героем остается правда. Она сводится к тому, что во имя непорочности и торжества идеи коллективизации надо немедленно устранить все перегибы и впредь только по методу убеждения, а не по методу принуждения вовлекать трудовое крестьянство в колхозы. И она же, правда, состоит в том, что партия, даже когда она вынуждена наказывать за ошибки таких своих преданных сынов, как Макар Нагульнов, не может расправляться с ними, бросать их на произвол судьбы и обращаться с ними как с врагами. И еще о многом заставляют думать эти страницы романа Шолохова о коллективизации на Дону – и не только на Дону! О том, какое это было трудное, сложное и неповторимое время. И о том, что, оценивая события этого времени, нельзя судить о них, как судить и о действиях участников этих событии, не учитывая исторической обстановки, социальных и иных условий. Нагульновы первыми прокладывали борозду, поднимая единоличную целину. У них были чистые сердца, но их предшествующий опыт сводился преимущественно к тому, чтобы покрепче держать шашку в руке, побыстрее скакать на боевом коне и пояростнее врубаться в стену врагов. И если при наличии только такого опыта они все же сумели взломать эту крестьянскую целину, то это могли сделать только герои. После того как они спешились, им подчас все еще продолжало казаться, что они на боевом коне, а раз это так, то, значит, нужно и скакать, гнать врага, чтобы поскорее успеть к «мировой революции». В том-то и величие их подвига, что, не задерживаясь, они переходили от революционных ратных дел к мирным, но ничуть не менее революционным делам. И кто же еще мог бы с таким правом сказать о себе словами поэта: «Мы диалектику учили не по Гегелю…» А пока мечтающий о революции «во всемирном масштабе» Макар Нагульнов спешит овладеть английским языком по ночам при свете керосиновой лампы. Единственным «соучастником» его является совсем уже малограмотный горемычный дед Щукарь, в глазах которого Макар Нагульнов не меньше чем профессор. Но и тусклый свет керосиновой лампы, озаряющий грозно-вдохновенное лицо Макара, хочет погасить пулей из своей кулацкой винтовки рыскающий вокруг его дома Тимофей Рваный. А на другом краю хутора, в доме у Островнова, белый есаул Половцев с белым поручиком Лятьевским любовно пестуют вороненые части пулемета, собирая его и нацеливая – тоже в сердце Макара. Может быть, оттого так и томится его сердце. И не о том ли, что смерть его уже близка, поют Макару на рассвете гремяченские петухи, которых он слушает в компании с дедом Щукарем?..
А до победы мировой революции еще так далеко, и, чтобы приблизить ее, нужно спешить, спешить. Как в чудесную музыку, вслушивается размечтавшийся о ней Макар Нагульнов в предрассветный хор гремяченских петухов.
В этот-то миг и прогремит, предшествуя рокоту половцевского пулемета, выстрел Тимофея Рваного. Лампа, озаряющая вдохновенное лицо Макара, погаснет. И снова мутная наволочь надвинется на глава Макара, рука его потянется к нагану.
* * *
Есть в «Поднятой целине» те хребты и вершины, с которых с особенной видимостью открываются взору прошлое, настоящее, а быть может, и будущее героев романа. На этих вершинах с наибольшей силой проявляется и отношение автора к своим героям, и его лирическое чувство.
Такова глава романа, рассказывающая о заседании бюро райкома, на котором Макара Нагульнова исключают из партии за перегибы. Его, Макара Нагульнова, который является самим олицетворением партии в Гремячем Логу, се хуторским генсеком. Его, который спит и во сне видит свою мировую революцию, ради чего по ночам, когда все объято безмолвием, и врубается он в гранитную толщу английского языка, так же как врубался до этого своей шашкой в толщу врагов на польском и на других фронтах гражданской войны. Его, Нагульнова, которого так ненавидят и боятся половцевы, островновы и другие кровавые враги Советской власти, знающие и безошибочно чувствующие, что над ними уже нависла его карающая рука и что, рано или поздно, им от нее не уйти.
Так как же это так, что и матерый, хотя еще и не распознанный враг Островнов, и секретарь райкома Корчжинский, оба хотят одного и того же – смерти Макара?! Да, смерти, потому что исключение из партии равнозначно для него смерти. «Такие вы партии не нужны. Клади сюда партбилет», – говорит Корчжинский. Тот самый Корчжинский, который не далее как в январе рекомендовал Давыдову, едущему на коллективизацию в Гремячий Лог, не обострять отношений с кулаком. И тот Корчжинский, который, конечно же, не только одному Давыдову давал директиву: «Так вот, гони вверх до ста процент коллективизации. По проценту и будем расценивать твою работу», создавая в районе обстановку, благоприятствующую перегибам, спешил «сверстать сводку», а теперь хочет отыграться на Макаре, чтобы и на этот раз щегольнуть перед крайкомом «сводкой» о борьбе с перегибами.
Корчжинскому все равно, что заверстать в сводку, и Макар Нагульнов для него всего лишь очередная единица в графе. Вычеркнул единицу – и пошли дальше. И язык-то какой: «Давайте голоснем. Кто за то, чтобы Нагульнова из партии исключить?» Не слова, а как будто костяшки сталкиваются на конторских счетах. Щелкнул – и нет человека. Автор романа и тут афористичен, вкладывая в уста Корчжинского именно те, по-своему единственные и неповторимые слова, по которым еще и теперь тоскует сердце бюрократа, карьериста: «Мы должны в назидание другим наказать его…», «Полумерами в отношении Нагульнова и таких, как он, ограничиться нельзя…», «Нечего об этом дискутировать…», «Я здесь секретарь райкома…»
Щелкнули костяшки – и нет больше Нагульнова в партии. А для Макара Нагульнова похоронной музыкой звучат эти костяшки. Как пронзенный молнией, стоит он, прижимая к груди левую руку. Его трагедия достигает своей вершины, и, освещаемый огнивом поразившей его молнии, Макар стоит на этой вершине, отчетливо видимый, как никогда, со всем его прошлым и настоящим. И только в будущем у него, кажется, уже ничего нет.
Видите, как дрожит стакан с водой, «вызванивая о зубы Макара». И видите, как тянется его рука к горлу, «закостеневшему в колючей суши».
«– Куда же я без партии? И зачем? Нет, партбилет я не отдам!»– говорит он Корчжинскому. «Мне жизни теперь без надобностев, исключите и из нее. Стало быть, брехал Серко – нужен был… старый стал – с базу долой…»
«Лицо Макара было неподвижно, как гипсовая маска, одни лишь губы вздрагивали и шевелились, но при последних словах из остановившихся глаз, впервые за всю взрослую жизнь, ручьями хлынули слезы. Они текли, обильно омывая щеки, задерживаясь в жесткой поросли давно не бритой бороды, черными крапинками узоря рубаху на груди».
И не в каком-нибудь переносном, а в самом подлинном смысле для Макара Нагульнова: жизни без партии нет, не может быть. Весь окружающий мир для него, исключенного в райкоме из партии, сразу же потускнел, как некогда потускнело само солнце для Григория Мелехова, похоронившего Аксинью. Возвращаясь с заседания бюро райкома и не доехав до Гремячего Лога, Макар пускает коня пастись, а сам лежит у подножия могильного кургана и «равнодушно, словно о ком-то постороннем», думает о себе, «рассматривая в упор спутанные ковыльные нити: „Приеду домой, попрощаюсь с Андреем и Давыдовым, надену шинель, в какой пришел с польского фронта, и застрелюсь. Больше мне нету в жизни привязы“».
И курган этот, у подошвы которого лежит Макар, называется Смертным. Нет, у Шолохова не бывает случайных деталей. Даже железному Макару Нагульнову, когда его хотят отлучить от партии, может прийти мысль о самоубийстве. Не случайно и авторское напоминание о древнем предании, что когда-то под курганом умер раненый казак:
Сам огонь крысал шашкой вострою,
Разводил-раздувал полынь-травушкой,
Он грел-согревал ключеву воду,
Обливал, обмывал раны смертные.
«Уж вы, раны мои, раны, кровью изошли,
Тяжелым-тяжело к ретиву сердцу пришли».
Смертные раны Макара – это не те раны, о которых он пытался было напомнить Корчжинскому на заседании бюро райкома: «Я был в армии израненный… Под Касторной получил контузию… Тяжелым снарядом с площадки…» Такие раны Макару не страшны.
Самая страшная и поистине смертельная рана для него – это приговор, которым его хотят поставить вне партии. И теперь Макару остается лишь привести приговор в исполнение, приехав домой и надев ту самую шинель, в которой он вернулся в хутор с польского фронта.
* * *
Не однажды Шолохов оставляет в романе героев наедине с природой. Как и в «Тихом Доне», все так же присутствует в «Поднятой целине», живет, дышит, звучит, вселяет в человека волю к жизни родная донская степь и опрокинутое над ней материнское небо.
Но одно дело, когда герой остается наедине с природой, со своими радостями, молодыми надеждами, с любовью, и совсем другое, когда он готовится к смерти. Тут уже она, эта степь, с каждым ее стебельком и каждой капелькой росы и это голубое небо с каждым облачком напоминают ему о могучей, неповторимой красоте той самой жизни, с которой ему предстоит проститься, и умиротворяют его восстающую против самой мысли о неизбежности смерти душу, и укрепляют его, наполняют мужеством, так необходимым человеку для достойной встречи своего последнего часа.
Величественным реквиемом звучат теперь для Макара Нагульнова, лежащего у подножия Смертного кургана, все эти голоса, краски, запахи родимой земли. Как будто он видит, слышит и чувствует их впервые. И это уже не «вода возле камышистого островка» потревожена стайкой свиязей, камнями попадавших в пруд, а сама «распахнутая ими» душа Макара. И не поймешь, то ли это в степи, то ли в его измученном сердце «необычайная для начала весны раскохалась теплынь». Тут автор как бы прямо берет слово, чтобы напомнить Макару, что все это еще только часть красоты, часть жизни и что нужно еще раз охватить ее взглядом, увидеть ее всю, во всей ее неповторимости, прежде чем решать от нее отказаться. Увидеть и осенью, когда этот «величаво приосанившийся курган караулит степь»; и летом, когда «вечерними зорями на вершину его слетает из подоблачья степной беркут»; и зимой, когда на ту же вершину выходит лисовин и «стоит долго, мертво, словно изваянный из желто-пламенного каррарского мрамора», и «агатовый влажный нос его живет в могущественном мире слитных запахов».
Тут автор прямо вплетает свой протестующий голос в реквием, объемлющий сердце Макара, противоборствуя его решению уйти из жизни, еще и еще напоминая ему: а ты слышишь этот «несказанно волнующий, еле ощутимый аромат куропатиного выводка, залегшего на дальней бурьянистой меже»; и ты видишь, как навстречу ему плывет на брюшке лисовин, «не вынимая из звездно искрящегося снега ног»; и, наконец, не забыл ли ты, Макар Нагульнов, как «точат заклеклую насыпную землю кургана суховеи, накаляет полуденное солнце, размывают ливни, рвут крещенские морозы, но курган все так же нерушимо властвует над степью, как и много сотен лет назад…»
Не где-нибудь, а здесь, как последняя капля ключевой воды, упадет в его сердце и мысль о том, что смерть его может обрадовать только врагов. «И с необыкновенной яркостью Макар представил себе, как довольный и улыбающийся Банник будет похаживать в толпе, оглаживать свои белесые усы, говорить: „Один натянулся, ну и слава богу! Собаке – собачья смерть!“»
И это будет тем тревожным аккордом, который окончательно исцелит Макара от личного, хоть и тягчайшего горя и опять позовет его в бой за большое общее дело, которому всегда было отдано его сердце. «Так нет же, гадючья кровь! Не застрелюсь! Доведу нас, подобных, до точки! – скрипнув зубами, вслух сказал Макар и вскочил на ноги, будто ужаленный».
И вот уже он разыскивает глазами своего коня. Посветлевшим взором окидывает «распростертый окрест его мир». «Торжествовать вам над моей смертью не придется!»
Теперь уже сама мысль о смерти кажется ему кощунственной, и она уходит от него прочь, подобно волчице, потревоженной в бурьянах его шагами. «Мгновение она стояла, угнув лобастую голову, осматривая человека, потом заложила уши, поджала хвост и потрусила в падину».
И, возвращаясь в хутор, Макар поспеет туда как раз в тот самый момент, когда он там особенно нужен – в разгар семенного бунта. Избитый в кровь, Давыдов уже изнемогал. И никто не знает, как повернулись бы события, не окажись под рукой у Нагульнова в этот момент наган. Только что он думал о той единственной пуле, которую своей рукой пошлет себе в сердце, а теперь уже, заслоняя собой семенное зерно, говорит:
«Семь гадов убью, а уж тогда в амбар войдете».
Он знал, что еще понадобится своей партии, будет нужен. В романе Шолохова он всегда на гребне.
* * *
Вот так же и в своей личной драме, вызванной разрывом с женой Лушкой, он остается до конца верным своему чувству долга, как бы дорого ни обходилась ему эта верность.
Личная драма Макара Нагульнова усугубляется еще и тем, что не на кого-нибудь другого променяла его Лушка, а на лютого вражину Тимофея Рваного, на кулацкого сынка. И как бы ни велико было глубоко запрятанное от посторонних глаз чувство Макара к Лушке, он не может себе позволить любить ее в то самое время, когда она любит врага. Иначе получается, что в одном и том же сердце – в Лушкином сердце – он встречается и уживается с Тимофеем Рваным. Значит, нужно вырвать из сердца эту любовь. На слова Давыдова, что опозорила Макара же на тем, что закричала, заголосила, когда подвода увозила из хутора раскулаченного Тимошку, Макар устало отвечает:
«Ну чего ты меня за бабий грех шпыняешь? У нее и для меня хватит, а вот что с кулаком связалась и кричала по нем, по классовой вражине, за это она – гада, и я ее что не видно – сгоню с базу. Бить же я ее не в силах. Я в новую жизнь вступаю и руки поганить не хочу. А вот ты небось побил бы, а? А тогда какая же будет разница между тобой, коммунистом, и, скажем, прошедшим человеком, каким-нибудь чиновником».
Вот на каких нравственных высотах стоит этот гремяченский романтик. Что бы там ни было, а Макар Нагульнов не станет смотреть на женщину как на свою собственность. Какой бы Лушка непутевой ни была, она в своих действиях свободна. Как человек в высшей степени честный и цельный, Макар не может на словах поспешать к мировой революции, призывать к освобождению от всяческих видов рабства и в то же время дома смотреть на жену как на свою бессловесную рабыню. Макар никогда не раздваивается. Но поэтому же, как человек цельный, он не согласен и раздваиваться между своей любовью «к мировой революции» и своей любовью к Лушке, любящей Тимофея Рваного. И раз надо, значит, надо во имя первой всеобъемлющей любви принести в жертву эту, вторую любовь. Вырвать ее из сердца. Макар нисколько не сомневается, что ему удастся осилить ее. Но неизведаны законы любви, и в каждом сердце она прокладывает свои тропы.
Тем и прекрасно творчество Шолохова, что ему чужды схемы. Чего бы, казалось, вернее – и на первый взгляд это было бы в характере Нагульнова: вырвал из сердца Лушку, перешагнул через свою любовь, и все критики восторгнулись бы: Макар себе верен. Но это лишь на первый взгляд, и если поверить ему, то может оказаться, что Макар и в самом деле безнадежно зачерствевший в делах человек, ему недоступны живые человеческие страсти. Еще и как доступны! Гремяченский коммунист Макар Нагульнов весь соткан из страстей. Даже Корчжинский говорил о нем Давыдову: «Из углов – и… все острые». И, как человек страстный, Макар никогда в своей жизни не придерживался правила золотой середины. Ни в своей любви, ни в ненависти, ни в радости, ни в горе. Ему еще предстоит выстрадать свой отказ от Лушки. И как бы он со всей присущей ему искренностью ни был убежден, что отныне раз и навсегда похоронил память о ней в своем сердце, мы на этот раз ему не поверим. Мы позволим себе вспомнить, что в то же самое время, как Лушка ходит на свидание к сбежавшему из ссылки Тимофею Рваному и носит ему в лес харчи, Макар Нагульнов, навсегда изгнавший за это Лушку из дома и, как он убежден, из своего сердца, носит с собой забытый ею платочек. Тот самый Макар, которого в чем угодно можно заподозрить, только не в сентиментальности. Ему еще предстоит до конца выстрадать свой разрыв с Лушкой, подстерегая с наганом Тимофея Рваного на тропе, ведущей к дому Лушки. Нет, не своего личного врага поджидает Макар с наганом у перелаза на этой тропе, но мы уже убедились, что у Шолохова нет лишних деталей.
Тропа, по которой Тимофей крадется к дому Лушки, пролегла через сердце Макара. И никто не знает, сколько должно было выстрадать это сердце в те часы глухих гремяченских ночей, когда Макар с наганом лежит у перелаза и внемлет крику одинокого коростеля у реки, гремучей и страстной дроби перепела в заречной луговине.
* * *
Но когда Тимофей наконец появится перед ним из темноты, верный себе Макар не станет убивать его исподтишка, не захочет, чтобы враг принимал смерть, не увидев ее в глаза.
Сам Макар привык всегда бесстрашно смотреть в глаза смерти, и теперь он хочет, чтобы и Тимофей встретил ее, Как это подобает человеку. Пусть он и враг, перед смертью он должен возвыситься над собой, над своим прошлым и настоящим. «Нет, он, Нагульнов, не какая-нибудь кулацкая сволочь, чтобы стрелять во врага исподтишка». Он не тот же Тимофей, который участвовал в ночном вероломном убийстве Хопрова и его жены, а недавно, и опять под прикрытием темноты, стрелял из винтовки в Макара. И кроме того, Тимофей непременно должен хорошо знать, от чьей руки он умирает. А Макару тоже необходимо наверняка убедиться, что Тимофей знает об этом, знает. Взятый на мушку нагана, «Тимофей стоял, удобно подставив левый бок», но Макар крикнул: «Повернись лицом к смерти, гад!»
И еще раз он захочет взглянуть на Тимофея, уже мертвого, с недоумением и пристальным вниманием всматриваясь в его черты.
Не простое любопытство владеет и эту минуту Макаром и не низменное желание насладиться чувством удовлетворенной мести. Как будто хочет Макар ответить себе на давно уже терзающий его вопрос: за что же Лушка могла любить Тимофея?
Неужели же только за его внешнюю красоту, совсем не обязательную для мужчины? «Он и мертвый был красив, этот бабий баловень и любимец. На не тронутый загаром, чистый и белый лоб упала темная прядь волос, полное лицо еще не успело утратить легкой розовинки, вздерну тая верхняя губа, опушенная мягкими черными усами, немного приподнялась, обнажив влажные; зубы, и легкий тень удивленной улыбки запряталась в цветущих губах, всего лишь несколько дней назад так жадно целовавших Лушку».
Но чего же еще она искала и находила в нем, так и не распознав за этой красивой наружностью его звериной души и, быть может, наделяя его в своем незрячем сердце совсем несвойственными ему качествами и чертами?..
* * *
Конечно же не в отмщение за свою поруганную любовь Макар убил Тимофея, но пока еще Тимофей был жив, обида и ревность как-то еще питали и любовь Макара.
Теперь же «все, что волновало его долгие дни и годы, все, что гнало когда-то к сердцу горячую кровь и заставляло его сжиматься от обиды, ревности и боли, – все это со смертью Тимофея ушло сейчас куда-то далеко и безвозвратно». И что бы там ни говорить, а какая-то перемена произошла с того часа в Макаре. Он как бы оттаял сердцем. Нет, он не поступился ни своей любовью к мировой революции, ни своей ненавистью к ее врагам, но и ненависть его и любовь как бы окрасились скорбью. Вот в какой узел связалась судьба Макара на тропе у перелаза с судьбой Лушки и судьбой Тимофея. Жизнь завязывает такие узлы, которые и развязать нельзя…… только разрубить можно.
После Макар придет в сельсовет к Разметнову и попросит у него ключи, чтобы выпустить Лушку. «Зря», – скажет ему Разметнов. И вот что ответит ему тот самый Макар, который некогда говорил, что женщина нужна мужчине лишь как «курюк» овце. «Молчи, – глухо сказал Макар. – Я ее все-таки люблю, подлюку».
И только теперь Лушка узнает от него, что он все время носил с собой ее кружевной платочек: «Возьми, теперь он мне не нужен».
Но и тут он не спустится со своих нравственных высот. Он признает за Лушкой право оплакать свою любовь: «Ежели хочешь проститься с ним – он лежит у вашего двора за перелазом». И дальше Шолохов пишет: «Молча они расстались, чтобы никогда уже больше не встретиться. Макар, сходя со ступенек крыльца, небрежно кивнул ей на прощанье, а Лушка, провожая его глазами, остановила на нем долгий взгляд, низко склонила в поклоне свою гордую голову. Выть может, иным представился ей за эту последнюю в их жизни встречу всегда суровый и немножко нелюдимый человек? Кто знает…»