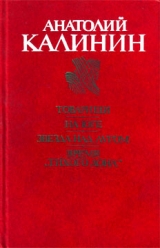
Текст книги "Товарищи (сборник)"
Автор книги: Анатолий Калинин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Другой утюг Анна увидела в руке у сутуловатого, сухого сложения, мужчины в жилете, надетом на белую сорочку. Его коротко остриженная бурая голова была увенчана поднятыми на лоб очками в золоченой оправе. Горячим утюгом он водил взад и вперед по рукаву темно-серого суконного френча.
– Штопаное не берем, – движением головы опустив на переносицу очки и в упор рассматривая Анну небольшими черными глазами, предупредил мужчина.
– Мне это известно, – сказала Анна.
– Садитесь, – он указал глазами на стул. Он взял из рук Анны ее платье и повернулся к свету, рассматривая. – Еще что?
Она молча протянула ему козий пуховый платок. Лицо его будто несколько смягчилось. Но голос, когда он, отодвинув в сторону платье и платок, повернулся к Анне, остался неприязненным.
– Вы совершили ошибку, – сказал он, почему-то глядя на руки Анны.
Руки у нее были шершавые, красные. Последнее время, чтобы прокормить больную мать, Анна брала в стирку белье, которое ей доставляла Марфа Андреевна из больницы, где работала ночной няней. Но ночам Анна простаивала над лоханью. Где уж было остаться рукам белыми, если их разъедал щелок, а суровое; больничное белье плохо поддавалось стирке.
Но портной продолжал смотреть на ее руки сквозь очки колючим взглядом.
– Грубейшую, – добавил он. – Нарушили элементарное правило: ждать, когда позовут.
– Я ждала долго, – сказала Анна.
– Даже если бы вам все время пришлось ждать.
– Я думала, обо мне забыли.
Постепенно Анна начинала привыкать к обстановке этой кухни-портняжной и к этому человеку с неумолимыми черными глазами.
– И не одну ошибку, – продолжал он еще суше, будто чувствуя, что она смелеет, и давая ей понять, что для этого у нее нет оснований. Избрали час, когда на улицах особенно людно. Здесь, на углу, казино. Вас могла бы оправдать только какая-нибудь особо важная причина. Частично, – подчеркнул он, снова давая понять, чтобы Анна не слишком ободрялась.
Но странно: чем больше слушала она его, тем быстрее осваивалась. Что-то в его голосе и в глазах позволяло ей думать, что если он и говорит так сурово, то вовсе не потому, что настроен против Анны.
– Мне казалось важным сообщить вам, что тринадцатая танковая дивизия перебрасывается на Терек, – сказала Анна.
Как ни считала она свое сообщение важным, она не предполагала, что оно может произвести на него такое впечатление.
– Повторите.
– Тринадцатая танковая дивизия… – начала Анна.
Он перебил ее:
– Куда именно?
– В район Моздока.
– Когда?
Он снял очки, положив их на стол. Оказалось, что глаза у него совсем не маленькие, даже наоборот – крупные и блестящие. Без очков он выглядел моложе.
– В начале будущего месяца.
– Точнее?
– Этого я пока не узнала.
– Жаль, – сказал он разочарованно и, взяв очки, снова водрузил их на переносицу. Его глаза стали опять маленькими, но теперь уже они не казались Анне неприятными.
В дверь заглянула желтолицая женщина.
– Что, Дарья? – спросил Портной.
Она молча указала ему глазами на Анну.
– Говори, – разрешил Портной.
– Итальянский солдат с усиками второй раз прошел мимо нашего дома.
– В какую сторону?
– Он зашел в казино. – И сквозь желтую кожу у женщины проступила легкая краска. Она скользнула взглядом по лицу Анны.
– Вы не привели за собой хвост? – Портной требовательно посмотрел на Анну.
– Я шла дворами, – пояснила Анна.
– И никого не заметили?
– Не только не заметила, но уверена, что никто за мной не шел, – сказала Анна.
– Иди, Дарья. Когда он выйдет из казино, скажи.
Женщина закрыла за собой дверь, и через секунду Анна услышала, как она поет во дворе, что-то делая по хозяйству. Голос у нее был глуховатый, заунывный.
– Очень жаль, – повторил Портной. – Вы не сомневаетесь в достоверности своих сведений?
– Не сомневаюсь.
– Как вам удалось их получить?
Анна рассказала ему о квартиранте.
– Он молод? – немедленно поинтересовался Портной.
– Лет двадцать семь… нет, тридцать, – краснея, поправилась Анна.
У нее была особенность, которую она не любила в себе, – краснеть без всякой причины. Теперь она почувствовала, что до ключиц заливается краской.
– Конечно, он пытался ухаживать за вами… – утвердительно спросил Портной.
Поднимая глаза, Анна собралась ответить ему, что напрасно он говорит об этом таким тоном, но Портной обезоружил ее – Я бы не спрашивал у вас об этом, если бы не считал, что это может оказаться важным. Как я понял, у вас не было возможности узнать больше того, что вы узнали.
– Только то, что я поняла из их слов.
– Но не кажется ли вам, что вы упустили еще одну возможность?
– Что вы имеете в виду?
– Ту дополнительную пользу, которую можно было бы извлечь из ваших взаимоотношений с обер-лейтенантом.
– Например?
– Например, мы могли бы теперь знать не только куда и когда примерно перебрасывается дивизия, а когда именно, как и некоторые другие факты. К сожалению, вы повели себя с обер-лейтенантом иначе, чем надо было ожидать.
– А что надо было ожидать?
– Вы держали себя с ним естественно для советской женщины, но неестественно для нее в том положении…
Анна перебила его:
– Вы хотите сказать, что мне нужно было принять его ухаживания?
– Я только хотел сказать, что борьба есть борьба, – ответил он, снимая очки и грустно глядя на нее своими крупными блестящими глазами.
В дверь кухни заглянула Дарья.
– Его выбросили из казино, и он валяется около наших ворот в лебеде.
– Пьяный? – спросил Портной.
В ответ она сделала движение плечом, которое можно было истолковать и так, и иначе.
– Надо взглянуть, – сказал он, вставая.
На несколько минут он оставил Анну с Дарьей. Все время Дарья стояла на пороге кухни молча, заложив руки за фартук. Когда Портной вернулся, она тут же ушла, на прощание скользнув по лицу Анны цепкими серыми глазами.
– Семейная сцена среди союзников, – пояснил Портной Анне. – Судя по всему, они сперва пили на его деньги, а когда он иссяк, захотели избавиться от него. Но все же вам лучше будет выйти на соседнюю улицу через заднюю калитку, – сказал он, давая Анне понять и то, что время их встречи закончилось.
– Да.
Она встала.
– Но прежде надо условиться, что сюда больше приходить нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Если что будет нужно передать, вы всегда сможете увидеться с Дарьей на рынке. Если же срочно потребуетесь, мы найдем способ известить вас. Возможно, это произойдет в ближайшие дни. Ваше знание немецкого языка достаточно?
– Я окончила инфак, – напомнила Анна.
– По некоторым сведениям, вскоре им потребуется переводчик в лагерь военнопленных. С Дарьей вы можете видеться в любое утро от шести до семи у лотков, где торгуют лекарственными травами. Дарья! – позвал он, приоткрывая дверь кухни.
– Я здесь. – Она тотчас вошла в кухню.
– Дарья, – сказал он, беря из рук Анны сумку, – положи сюда все, что причитается за платье и платок. К сожалению, – он впервые за все время их встречи виновато улыбнулся Анне, – нам придется их взять у вас, чтобы потом обменять на базаре на продукты. Наши собственные ресурсы крайне ограниченны.
Когда он пошел проводить Анну до задней калитки, выходившей на глухую улицу, солнце стояло в полуденном небе все так же высоко. Оказывается, Анна пробыла здесь не больше часа. Ей же казалось, что много больше.
– Кстати, я должна вам сказать… – Анна остановилась в калитке. – Утюг в ваших руках совсем не похож на утюг в руках у портного.
– Неужели? – спросил он испуганно.
– Это нетрудно заметить.
– Но, может быть, это нетрудно было увидеть лишь глазу женщины? – спросил он с надеждой.
– Нет, для этого совсем не обязательно быть женщиной, – жестко сказала Анна, чувствуя себя хотя бы частично отмщенной.
37
Наступил день, который рано или поздно должен был наступить, но к которому так и не смогла приготовиться Анна.
Последние дни мать уже ничего не ела. Отщипнет от лепешки пальцами щепотку и долго держит во рту, чтобы только чувствовать вкус хлеба. Но пила она много. Анна подносила ей ко рту кружку, и она судорожно отхлебывала из нее тепловатую воду.
– Нет, если бы мне напиться из нашей копанки, я бы скорее поздоровела. В Сальской степи вода почти везде горькая, но твой отец в балке за хутором сладкую жилу нашел. Вода в ней даже в самый жаркий день, как лед, – мать провела языком по губам. – Вот так же сушила болезнь и мою мать, сорвала себе живот чувалами с зерном. Думали, уже по встанет. А потом попила несколько дней из той копанки и на поправку пошла. Но, может, и той копанки уже нет, – вдруг заключила она, устало отворачивая голову на подушке.
Длинный разговор утомил ее. После этого за весь вечер не сказала ни слова, только глазами показывала Анне на кружку.
Ночью Анна, задремавшая на стуле у постели матери, внезапно проснулась. Всходившая за Доном луна проливалась сквозь ветви тополя на постель матери. Ее маленькое, лицо в венчике седых волос было спокойно и сурово. Анна дотронулась ладонью до ее лба – он был совсем холодным.
Вдвоем с Марфой Андреевной они обмыли и одели ее в чистое. Какой совсем маленькой и сухонькой оказалась она! На ручной тачке повезли ее через город на кладбище. Везли глухими переулками, мимо одноэтажных домиков. Никто не встретился им на пути, жизнь за высокими заборами остановилась.
Но немецкий солдат не подпустил их к городскому кладбищу, закричал «век»[4]4
Век – вон.
[Закрыть], залязгал автоматом. За кладбищенской оградой среди могил стояли, задрав в небо стволы, зенитные пушки.
Тогда Анна с Марфой Андреевной повезли покойницу в степь. Хоронили среди зарастающих травой старых окопов. Зачистили лопатами один окон, опустили туда ее без гроба. Марфа Андреевна, сняв с себя платок, прикрыла им лицо мертвой.
Бросив последнюю лопату земли, Анна разогнула спину и долгим, запоминающим взглядом оглядела это место, изрезанное гребешками брустверов. Домой шла, пугая Марфу Андреевну молчанием.
Ветер загибал углы немецких афиш и приказов, наклеенных на стены развалин. Приказы были разные, но в них чаще всего повторялось одно слово, напечатанное черными буквами: «Все лица иудейского происхождения обязаны зарегистрироваться. За уклонение – расстрел…»; «Воспрещается под страхом расстрела выходить на улицу после восьми часов вечера…»; «Укрыватели партизан расстреливаются на месте…»; «Объявляется регистрация молодых людей обоего пола от пятнадцати лет… За неподчинение – расстрел…»
Редкие прохожие, не останавливаясь, бежали мимо афиш и приказов.
Под крутобережьем пленные строили новый мост через Дон, наращивая для съезда к воде насыпь. Из вырытой лопатами глубокой котловины поднимались наверх с нагруженными землей носилками. По насыпи ходили конвойные в черных фуражках, а под насыпью стояли местные жители, молча глядя на пленных.
Теперь, ближе к вечеру, охранники уже начинали сгонять пленных в колонны. Военнопленные, бросив носилки и лопаты, строились на краю насыпи поквадратно. Перед каждым квадратом немецкий конвоир выкрикивал номера, присвоенные пленным. Зычные голоса разносились над тихой водой Дона.
Все квадраты были пересчитаны и потянулись уже под конвоем в город, лишь один не трогался с места. Солдат с овчаркой выкрикивал по-немецки все один и тот же номер:
– Тысяча сто девятый!
Но тот, которому принадлежал этот номер, не отзывался.
Тогда солдат с овчаркой вдруг повернулся и быстрыми шагами бросился с откоса насыпи к толпе. Люди волной отхлынули от насыпи. Лишь один из толпы, большой темноволосый мужчина, одетый в пиджак и заправленные в сапоги брюки, замешкался. Правда, и он повернулся бежать, но солдат уже догнал его и, схватив за плечо, поволок на гребень насыпи. Мужчина упирался.
Солдат втащил его на гребень насыпи и затолкнул в серый квадрат пленных.
Марфа Андреевна вдруг ахнула, хватая за руку Анну. В темноволосом мужчине, схваченном немецким солдатом, она угадала одного знакомого Анны, которого раньше не раз заставала у Луговых, когда по-соседски заглядывала к ним за спичками или за солью.
38
Павел Щербинин попал и колонну военнопленных не только по воле немецкого солдата.
По сведениям подпольного центра, гестаповцы привезли с собой в город штаб Донской добровольческой армии, не имевшей еще ни одной боевой единицы, и приступили к формированию казачьих частей из числа пленных и заключенных советской властью за уголовные преступления в тюрьмы местных жителей. Началом должно было послужить предстоящее посещение лагеря командиром 13-й танковой дивизии генералом Шевелери и белоказачьими полковниками Елкиным и Однараловым – доверенными генерала Краснова.
По тем же сведениям, замысел немецкого командования на юге сводился к тому, чтобы впоследствии использовать подобные формирования на охране дорог, мостов и для борьбы с партизанами. И очень важно было расстроить этот замысел. Не вызывало сомнений, что в самом лагере он должен был натолкнуться на сопротивление военнопленных. Но, как доказывал опыт, это могло лишь привести к бесцельным жертвам, если руководство сопротивлением не будет взято подпольным центром в свои руки.
Возглавить сопротивление в лагере военнопленных поручили Павлу. Для этого из всех способов проникнуть в лагерь решено было остановиться на способе столь же простом, сколь и надежном.
После каждого прогона военнопленных через город охрана обязательно недосчитывалась нескольких человек в колоннах, и тогда, чтобы восполнить убыль, она на обратном пути в лагерь без разбора хватала мужчин из местных жителей. Конвоиры отчитывались перед начальством не людьми, а номерами. Павлу достаточно было немного потолкаться на берегу, чтобы тоже очутиться в колонне военнопленных.
Теперь в серой колонне, понукаемой конвоирами, он поднимался в город. Дорога к лагерю вела на его западную окраину проспектом, тянувшимся от Дона до степи. Как обычно, в этот час прогона пленных через город по обеим сторонам проспекта стояли местные жители, больше женщины. Слышались рыдания. Солдаты разгоняли толпу прикладами, но люди собирались снова и стояли на тротуарах вдоль всего проспекта.
– Быстрее, быстрее! – подгоняли пленных конвоиры.
В этой серой массе один только Павел еще сохранял облик человека. Должно быть, немецких конвоиров это больше всего и выводило из себя. Они сразу же принялись избивать его.
Больше всех Павлу досаждал тот высокий костлявый солдат, который и затащил его в колонну пленных. С этой минуты он уже не спускал с Павла глаз. Сперва он не мог примириться с тем, что Павел молча сносит тычки прикладом и дулом автомата в бока и в спину, но затем перешел к более активным действиям. Один раз он подскочил к Павлу из-за спины и ткнул кулаком в переносицу. Кровь хлынула из ноздрей на пиджак и на рубашку Павла. Он инстинктивно откинул голову, и в это время другой тычок между лопатками бросил его вперед так, что он едва удержался на ногах.
Тогда пленные, раздавшись, спрятали Павла в центре колонны. Но костлявый нашел его и вытащил обратно. Теперь конвоир все свои усилия сосредоточил на том, чтобы свалить Павла ударами приклада под колени. Павел старался не упасть, зная, что это могло бы дать повод к убийству. К тому времени, когда колонну пригнали к лагерю, он уже почти не отличался от всех других военнопленных.
В сумерках отсвечивала колючая изгородь, прибитая к остроконечным кольям вокруг лагеря. Когда ветер колебал металлические нити, они, сталкиваясь, высекали вспышки синего света. В их озарении резче выступали по углам лагеря на фоне низкого неба вышки с силуэтами часовых в касках. У подножий вышек к маленьким дощатым домикам цепями были привязаны большие серые собаки. При виде подошедшей к воротам лагеря колонны они начали греметь цепями, бесноваться. Хриплый лай повис над лагерем.
Кто-то больно ткнул Павла в плечо. Костлявый, смеясь и указывая на вышки и на собак, спрашивал Павла, как ему все это нравится.
Встретившись со взглядом Павла, он перестал смеяться и, схватив его за плечо, втолкнул в раскрывшиеся ворота. Конвоиры стали загонять пленных в огороженный колючей проволокой огромный двор лагеря.
39
Четырехугольный двор был вымощен отполированным тысячами подошв булыжником. Нигде сквозь него не пробивалась трава, но росло ни деревца. Тремя рядами тянулись в глубь двора длинные серые бараки под толевыми крышами.
Пересчитывая пленных, конвоиры разгоняли их по баракам. Павла погнали к первому бараку с настежь раскрытой дверью.
Он невольно замедлил шаги. Из темной внутренности барака его обдало сырым смрадом. В бараке стояла желтая мгла, лишь чуть разбавленная светом вечернего неба сквозь решетки узких окон.
Привыкая к темноте, глаза Павла начинали кое-что различать в бараке. Из своей довоенной жизни в городе он помнил, что раньше здесь были городские конюшни. Еще и теперь во всю длину барака вдоль стен тянулись станки для лошадей с узкими проходами между ними. К запаху навоза и конской мочи, которые за многие годы въелись в настил пола, теперь примешался еще и другой, сладковатый запах. За перегородками станков на полу лежали какие-то белые предметы.
– Третий день не велят убирать, – пояснил в темноте чей-то голос.
Только тогда Павел сообразил, что длинные белые предметы за перегородками были трупы. Одежду с них сняли, они лежали на соломе; нагие. Павел услышал рядом с собой голос костлявого конвоира. Пытливо шныряя глазами по лицу Павла, он говорил ему, что, судя по всему, новая квартира произвела на него впечатление.
– Теперь мы будем встречаться часто, – пообещал он перед уходом, выставляя длинные желтые зубы.
Вслед за тем подошел к Павлу седоголовый пленный.
– Ты еще не нашел себе места? Я могу провести тебя туда, где не так сыро.
– Где бы тут, дедушка, напиться? – спросил Павел.
– Мне двадцать четыре года, – просто ответил пленный. – Воду здесь выдают раз в сутки по кружке, но у меня несколько глотков в бутылке осталось.
И, приглашая Павла следовать за собой, пошел в глубь барака. Вокруг в желтой мгле безмолвно двигались серые тени. Пленные заходили в станки и укладывались спать на солому.
Место, куда привел его седоголовый, оказалось в самом дальнем углу барака, напротив окна, из которого не только сочилось немного света, но и сквозил сквозь квадраты решетки ветер. Поэтому здесь было не так зловонно. Охапка соломы на полу еще хранила вмятину, оставленную тем, кто вчера, как сказал седоголовый, освободил здесь место. Теперь это была постель Павла.
– Попей, – порывшись в соломе, седоголовый протянул ему бутылку.
Отрываясь от бутылки, Павел уже с другим чувством взглянул на солому с вмятиной. Из окна падали на нее квадраты разрезанного решеткой лунного света. Все избитое тело Павла горело, болела голова, ныли кости. Но непреодолимее всего было желание спать.
Не рассуждая больше ни о чем и не спрашивая себя, что его ожидает, он рухнул на свою новую соломенную постель.
40
Проснувшись, он решил, что прошло всего мгновение, тогда как прошла уже ночь. Сосед тряс его за плечо. Зеленая заря пылала в решетках барака. За ночь предшествующие события настолько успели выветриться из сознания Павла, что, открыв глаза, он с изумлением всматривался в склонившееся над ним молодое седое лицо.
– Вставай, – говорил седоголовый. – Лучше к их приходу быть уже на ногах.
По бараку ходили солдаты, пинками поднимая не успевших подняться пленных. Было четыре часа утра. Пиная пленных сапогами, солдаты называли их бездельниками, которых только из своего милосердия кормит фюрер.
– Швайн! Швайн! – раздавалось в бараке.
По узкому проходу быстро пробирался костлявый, в руке у него была бирка с номером, надетая на проволочный хомутик.
– Тебя ищет, – сказал Павлу седоголовый. – Ну и нажил ты себе… Все хороши, а этот Шпуле – из всех.
С явным разочарованием, что застал Павла уже на ногах, костлявый швырнул ему бирку.
– До тебя ее носили пятеро, ты шестой. Она к своим хозяевам привыкать не любит. Тысяча сто девятый, выходи! – закричал он на Павла.
– Пойдем. – Седоголовый тронул Павла за локоть.
У выхода из барака солдат с засученными рукавами, зачерпывая в баке половником, раздавал пленным баланду по кружке на человека. В темно-красном вареве плавали какие-то бледные ломтики. С голых по локти рук солдата стекали капли.
– Ешь! – настойчиво сказал седоголовый Павлу, увидев, что он, получив свою порцию баланды, медлит. Десятки глаз сразу же со всех сторон впились в его кружку.
– Я в обед, – отводя от кружки глаза, сказал Павел.
– Ешь сейчас! – повторил седоголовый. – Иначе здесь не протянешь.
– Век! Швайн! – подстегивали солдаты столпившихся вокруг бака пленных, выгоняя их из барака.
41
Пронзительно свежее после затхлости барака утро покачнуло Павла в дверях. Заря над степью из тускло-зеленой становилась розовой. Четко рисовались сторожевые вышки вокруг лагеря.
Солдаты, ответственные за овчарок, подбрасывая к их будкам на шпурах мясо, оттягивали его обратно, не давая собакам наедаться досыта. Гремя цепями, овчарки вставали у будок на дыбы. С удвоенном яростью они начинали колыхать будки, завидев строившихся на булыжном плацу пленных.
Вдоль построенных колонн старшие; из конвоиров выкрикивали номера. Отзываясь, пленный должен был лишь повторить свой номер. В утренней тишине выкрики солдат разносились по гулкому пространству двора, тогда как ответы пленных почти беззвучно падали на камни.
– Четыреста тридцать седьмой!
– …ста…цать…мой…
– Пятьсот сорок девятый!
– …сот…рок…тый…
Вдоль колонны, где стоял Павел, взад и вперед ходил ответственный за нее Шпуле. Мундир с погоном на правом плече виснул на нем, как на жерди. Выкрикнув номер, Шпуле доходил до конца ряда и поворачивал обратно. К изжоге, обычно портившей ему настроение с утра, сегодня прибавилась новая причина. Только что он узнал, что комендант Видеман, получивший повышение за успешно проведенную операцию с ростовскими евреями, сдавал лагерь своему помощнику Ланге, а помощником теперь становился Крафт, имевший для этого явно меньше оснований, чем Шпуле. Крафту просто посчастливилось служить раньше с Ланге в одной зондеркоманде. Теперь с чином младшего вождя отделения Крафт приобретал и право носить белую звездочку на петлице мундира.
Вышагивая взад и вперед вдоль серого строя. Шпуле почти физически ощущал, как ему недостает этой звездочки на петлице.
Голос его с каждым новым поворотом звучал выше. Несколько раз Шпуле, проходя мимо Павла, скользил по его лицу взглядом, наконец, загнув угол, крикнул:
– Тысяча сто девятый!
Как ни готовился Павел в первый раз назвать свой номер, он ответил не сразу:
– Тысяча сто девятый.
– Еще! – останавливаясь перед ним, потребовал Шпуле.
– Спокойно, – шепнул седоголовый, острыми пальцами сжимая локоть Павла.
– Какая у тебя была фамилия? – спросил Шпуле.
– Сухарев, – назвался своей вымышленной фамилией Павел.
– Так вот, – взявшись рукой за бирку на груди Павла и поворачивая ее в пальцах, сказал Шпуле. – Сухарев больше никогда не будет, а будет… – он подергал бирку, – тысяча сто девятый. Не Сухарев, а тысяча сто девятый.
Не отрываясь, Павел смотрел на пальцы Шпуле, вертевшие бирку. Шпуле быстро взглянул на его лицо и выпустил бирку.
– Ма-арш!! – отступая и отворачиваясь от Павла, вдруг замахал он руками на пленных.
Перепутанные колючей проволокой, ворота лагеря, заскрипев, отворились, и сопровождаемый конвоирами с овчарками на поводках серый поток пополз в город.
42
Позднее Павел часто думал, как хорошо распорядилась судьба, когда в первый же день свела его в лагере с седоголовым. Теперь уже Павел знал не только его имя – Степан Никулин, но и то, что до плена летал он на истребителе. Его нашли немцы в нижнедонской степи под обломками сбитого немецкой зениткой самолета.
Когда однажды в те короткие пятнадцать минут, которые отпускались пленным на хозяйственные нужды, Никулин, сняв гимнастерку, накладывал на нее заплаты из мешковины, Павел увидел и его до последней степени исхудавшее тело, обтянутое дряблой кожей. Но не от этого содрогнулся Павел. Не оставалось ни одного живого места на груди, на спине и на плечах Никулина – все было изрыто, изъязвлено и широкими большими рубцами, и совсем маленькими, напоминающими чьи-то укусы.
– Чем это тебя? – вырвалось у Павла.
Движение иглы в руке у Никулина, пришивавшего к рукаву заплату, замедлилось, не ответив, он углубился в работу. Игла так и мелькала у него в пальцах. Вскоре один рукав был зашит, он перешел к другому.
– Ну и ну, – огорченно рассматривал он дыры на этом рукаве, лопнувшем в двух местах: на плече и на сгибе локтя. – Мороки здесь много, а времени в обрез.
Но все же, быстро вырезав из мешковины заплату, он снова взялся за иглу. Еще быстрее она замелькала у него в пальцах. О вопросе Павла он, судя но всему, забыл.
И Павел решил не возвращаться к нему. Молча смотрел, как орудует Никулин иглой. Уже были пришиты латки на спине и на рукавах, и теперь он прицеливался своими светло-голубыми глазами к дыре на плече рубахи, стараясь аккуратнее прикрыть ее вырезанной заплатой.
– Так хорошо будет? – спросил он у Павла и, не дожидаясь его ответа, уверенно, будто штыком, поддел иглой под край заплаты. Только после этого, мельком оглянув багровые рубцы, опоясавшие ему грудь и живот и уходившие назад, под лопатки, пояснил: – Это такие усики, – хоть и медленно, он продолжал двигать иглой. – В обыкновенные плетки вплетаются стальные жилки. Плетка стегнет будто и несильно, а пристает к телу, как горячее железо.
– А эти? – Павел показал на более крупные и рваные рубцы.
– Это травили собаками. – Тут же он добавил: – Но уже совсем давно. Теперь они устали меня бить.
– Устали? – переспросил Павел.
Никулин откусил нитку двумя боковыми, только и уцелевшими в его деснах, зубами.
– Да, – подтвердил он, заметив недоумение в глазах у Павла. И, надевая рубаху с нашитыми на нее новыми латками, пошевелил плечами. Темный холодный блеск вдруг вспыхнул в его серо-голубых глазах. – Они всегда храбрые до слабаков. Когда же не могут добиться своего, устают… А ведь и в самом деле, ремонт ничего, – вдруг неожиданно оборвал он, похлопывая себя ладонями по рукавам, по плечу и красуясь перед Павлом в только что заплатанной гимнастерке. – Главное, на каждую латку не больше пяти минут, – поворачиваясь перед Павлом, нахваливал он свою работу.
Против обыкновения, он на этот раз оказался словоохотливым. Павел сделал вид, что не заметил его маневра. Тем более что рубашка действительно получилась у Никулина хоть куда. Правда, пришитые им к старой, изношенной гимнастерке заплаты были из грубой мешковины, но вырезаны они были аккуратно и подогнаны накрепко.
И больше к этому разговору Павел предпочел не возвращаться. К его удивлению, Никулин вскоре сам к нему вернулся.
– Не эти увечья страшны, – после нескольких дней молчания вдруг заговорил он, когда они сидели на кожухе выступавшей из воды станины быка, на которую должно было лечь основание моста. Конвоиры привезли их сюда на большой лодке и уехали. Никулин с Павлом заливали в опалубку станины бетон. Палило солнце, но снизу, от воды, веяло прохладой. – И не голод, – продолжал Никулин.
Станина поднималась из воды на самой середине Дона. Справа и слева на лесах других бетонных быков, шагавших по реке от берега к берегу, сидели другие пленные.
Зеленый простор открывался их взорам и на восток, откуда выворачивался из-за горы Дон, и на запад, куда, раздаваясь в берегах, уходил он к Азовскому морю. Взяв лопатку, Никулин стал зачищать ею ноздреватую поверхность свежего бетона.
– Страшно не уцелеть до срока.
– Уцелеть? – переспросил его Павел.
Лопатка вильнула в руке у Никулина, оставив на сером тесте бетона зигзаг.
– Ты о чем? – поднимая голову, настороженно посмотрел он на Павла.
– Не слишком мало иго для человека? – встречаясь с его взглядом, спросил Напел.
Несколько секунд они смотрели друг на друга. Никулин медлил с ответом. Светло-голубые глаза его вдруг сузились, устремляясь к берегу. От берега отъезжала моторная лодка с помощником коменданта лагеря Корфом. Его длинная прямая фигура во весь рост стояла в лодке. Лодка сновала среди бетонных быков. Корф каждый день лично объезжал возводимый руками военнопленных мост через Дон.
– Хотят управиться к проезду фюрера в Баку, – сказал Никулин, и уже знакомый Павлу темный огонь вспыхнул в его глазах. – Но это еще бабушка надвое сказала.
– А если управятся?
Никулин усмехнулся.
– Вряд ли.
– Кто им может помешать?
Никулин открыл в усмешке все свои беззубые десны.
– Погода.
– На нее надежда плохая.
Никулин серьезно покачал головой.
– Скоро уже второй месяц пойдет, как на этих быках сидим.
И он опять стал водить железной лопаткой по серому тесту бетона, разглаживая и выравнивая его ноздреватую поверхность.
43
С возводимым пленными мостом через Дон новый комендант лагеря Ланге связывал свои надежды на дальнейшее продвижение по лестнице служебной карьеры.
Хмель успеха еще кружил ему голову. Продвижение из помощников начальника в начальники вообще-то считалось обычным явлением. Но для Ланге, который до этого стоял на самой низшей ступени в чине младшего вождя отделения, это было явление, означавшее поворот во всей его жизни, – выход в офицерство. Прелесть новизны заключалась для него и в том, что теперь не он, Ланге, должен был докладывать коменданту лагеря как помощник, а ему, коменданту лагеря, докладывал его помощник Корф, и в том, что, отдавая приказание, Ланге мог позволить себе тут же отменить его. И ни в ком из подчиненных это не должно было вызвать сомнений.
Вначале Ланге на посту коменданта только тем и занимался, что испытывал на них действие своих приказаний. Всякая новая метла спешит проявить власть не столько ради пользы дела, сколько ради впечатления, которое она производит на окружающих. Но и любая власть должна иметь предел, если не желает впасть в крайность, чреватую опасностями как для подчиненных, так и для начальства. Ланге это почувствовал тем скорее, чем чаще стал замечать оттенок холодного недоумения на продолговатом лице помощника Корфа. Как до этого прежний комендант Видеман, видя в Ланге соперника, всегда стремился жить с ним в мире, так теперь и Ланге не желал обострения отношений с Корфом. И поэтому весь пыл нового коменданта лагеря обратился на тех, на кого его власть могла распространяться без ограничений, – на пленных.
Теперь они должны были подниматься со своих соломенных подстилок не в четыре часа утра, а в три. Дневную норму по выемке земли на строительстве насыпи им увеличили вдвое. К тем же из них, кто не выполнял новой нормы, применялась и новая мера воздействия. На заднем дворе, за бараками, его всего на час оставляли с собаками. Часа, по мнению Ланге, было совершенно достаточно, чтобы внушить любовь к труду если не самому виновнику – чаще всего он не возвращался из загона, – то его товарищам, которых в это время сгоняли к загону.








