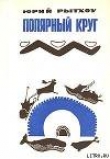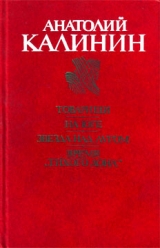
Текст книги "Товарищи (сборник)"
Автор книги: Анатолий Калинин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 39 страниц)
И вдруг снова круто шарахается в сторону его конь. Шарахается неотступно сопровождающей Григория тени.
Черная повязка обмана и заблуждений спала с его глаз, но багровая тень содеянного ошибавшейся рукой продолжает сопутствовать Григорию. С трагедией заблуждений, ошибок и преступлений покончено – начинается трагедия расплаты. И уже не от самого Григория будет зависеть, какой мерой наказания он должен будет искупить свою вину.
* * *
Суровы законы классовой борьбы. С какой бы горячей искренностью ни старался Григорий Мелехов, командуя эскадроном у Буденного, смыть своей и вражеской кровью прошлые грехи перед Советской властью, она не в состоянии начисто забыть об этих его грехах. И тут дело не только в том, что на шашке у Григория осталась кровь красных бойцов. Великодушная Советская власть не намерена была мстить тем заблуждавшимся и обманутым людям, что скрещивали клинки с ее бойцами в открытом бою. А Григорий Мелехов, как известно, никогда не стрелял в спину, не наносил ударов из-за угла. У него не отнять ни его личного мужества, ни уважения к мужеству своих противников в кровопролитной борьбе. Не в пример тому же полковнику Андреянову, ему, выходцу из трудовой казачьей семьи, понятны законы рыцарской чести. Григорий и сам умеет бестрепетно смотреть в глаза смерти. И хотя он, служа в белоказачьей армии, воюет за неправое дело, в бою лично он честен. Нельзя сомневаться, что, и перейдя на сторону красных, Григорий решил не только своей шашкой, но и сердцем до конца служить правому делу.
Но историческая обстановка в то время складывалась не в пользу таких, как Григорий Мелехов. Тем отъявленным врагам Советской власти, которые сумели опутать паутиной обмана казаков, вообще были чужды понятия о воинской чести. Чувство чести, присущее русскому офицеру суворовских, кутузовских времен, они заменили вероломством. Можно вспомнить, как Советская власть, обезоружив и захватив в плен в самом начале революции многих своих врагов из среды офицерства и полагаясь на их честное слово, освободила их и какой она потом ценой заплатила за это. Среди них были и такие, как Краснов и другие белоказачьи генералы и офицеры, пролившие потом реки народной крови.
Великодушие Советской власти подверглось испытанию, и в интересах защиты революции в будущем она вынуждена была ограждать себя от всяких случайностей. Тем более что, наряду с офицерами, которые, перейдя на сторону революции, честно служили ей на фронтах гражданской войны, затесались в Красную Армию и другие, которые при первом же удобном случае переходили на сторону врага, открывая фронт.
А Григорий Мелехов, судя по его послужному списку, до службы у Буденного был в белоказачьем стане не совсем незначительной фигурой. Как-никак командовал он повстанческой дивизией, а значит, был не простой казак. Тем в Красной Армии, кто вчитывался в послужные списки бывших офицеров, думая, как бы предупредить измену, известен был только этот Григорий. И, взвешивая его службу у белых и его недолгую службу и Будённого, они приходили к неутешительным для него выводам. К тому же явствовало из его послужного списка, что до своей службы у белых он уже служил у красных и даже был близок к Подтелкову. Кто же поручится, что он опять не переметнется во вражеский стан?
И обстановка на польском фронте к тому времени сложилась тяжелая. А того, другого, «главного» Григория люди, читающие его послужной список, не могли знать. Он был от них скрыт. И, пропуская бывших офицеров сквозь «фильтр», они решают, что самое лучшее будет отправить его с фронта домой, на Дон. Там его лучше знают.
И там, в хуторе Татарском, он сталкивается с Михаилом Кошевым, своим бывшим другом.
С каким волнением едет Григорий по степи домой на арбе, какими глазами смотрит вокруг! Он не хочет осквернить это свое настроение короткой утехой с «Зовуткой», беспутной и несчастной подводчицей, которая ночью откровенно зазывает его к себе под шубу. В другое время Григорий не отказался бы, он ко многому привык на войне, но теперь – нет, он чувствует в себе прежнего Григория и не хочет загрязнить его.
И секунды нельзя сомневаться, что возвращается он домой без всяких плохих дум и помыслов, истосковавшись по земле, по детям, по Аксинье.
Но законы борьбы суровы. Да, Михаил Кошевой должен бы знать Григория лучше, чем кто-либо другой. Но последнее время он помнил Гришку командиром повстанческой дивизии, воевавшей на Дону против Советской власти. А жизнь Григория в Красной Армии, его служба у Буденного от глаз Михаила скрыты, об это он знает понаслышке и легко может заключить, что тот там выслуживался, стараясь отмыть от своих офицерских рук кровь пролетарских бойцов.
А вокруг опять начинает поднимать голову враг, постреливают, пошаливают вернувшиеся в станицы и хутора из белой армии казаки. Зная необузданный нрав Григория, не может поверить Михаил, что не возьмется тот больше за оружие и не повернет его против Советской власти. И все те преступления, которые совершили и еще продолжают совершать отъявленные враги Советской власти на Дону, ложатся на плечи Григория тяжким грузом.
К тому же в сердце у Михаила Кошевого живет жажда возмездия за семью, загубленную карателем Митькой Коршуновым. Кошевой отказывается признать, что Григорий Мелехов и Митька Коршунов – люди разного замеса.
Если Митька Коршунов – убежденный и злобный враг Советской власти, то Григорий Мелехов – обманутый, заблудившийся человек. Если Коршунов так и остался врагом, то Мелехов при первой же возможности перешел к красным. Михаил Кошевой помнит только, что Митька Коршунов и Григорий Мелехов были в одном белоказачьем стане. Служба Григория у Буденного для Михаила Кошевого – почти что пустой звук. Да и не уволили бы его из Красной Армии, если бы ему там доверяли…
А тут и сам Григорий подливает масла в огонь. На вопрос Михаила, как он поступил бы, если бы Советская власть призвала его к ответу за прежние грехи, Григорий отвечает в том смысле, что хотя он и не враг Советской власти, не собирается ей вредить, а хочет лишь мирно пожить с семьей, пахать землю, но, если к нему отнесутся как к врагу, он будет защищаться. Для Михаила Кошевого невыносима сама мысль, что кто-то вправе не посчитаться с волей самой справедливой на земле власти. Самому Михаилу Кошевому прикажи Советская власть умереть – и он умрет. Как же иначе? И Михаил прикладывает к Григорию такую же мерку, какой меряет самого себя. Хорошо зная Григория и представляя себе, какого бесстрашного, храброго врага в его лице опять может приобрести Советская власть, Михаил Кошевой решает предупредить эту опасность, обезвредить Григория. Слишком много перед глазами Кошевого примеров, когда из-за непростительного милосердия к врагам, из-за промедлений первыми наносили удары они, и тогда борьба с ними приобретала особенно кровавые формы, стоила больших жертв. За свой гуманизм, за человечность революция платила кровью своих лучших сынов.
Тем непримиримее Михаил Кошевой, что женат он на сестре Григория – на Дуняшке. Таким образом, подвергается испытанию сама безупречность революционной совести Михаила. Но никакое родство не должно быть ему помехой, когда речь идет о защите революционного дела, и никогда впоследствии совесть не должна казнить Михаила за то, что сердце его растопили любящие черные глаза Дуняшки. Для Михаила это было бы равносильно предательству дела революции.
И, крепко зажмурив глаза на свою прежнюю дружбу с Григорием, он отворачивается от умоляющих, омытых слезами глаз Дуняшки, принимая решение передать Григория в руки карательных органов. Узнав об этом от Дуняшки, Григорий полностью отдаст себе отчет, что в той обстановке, когда еще пылает вокруг черное пламя бандитских пожаров, для него, имеющего за плечами такой послужной список, решение Михаила означает неминуемую смерть. Некому в этих условиях разбираться, да и некогда будет людям, занятым борьбой с белобандитами и ожесточившимся в этой борьбе, разбираться, что завершающая часть этого послужного Списка должна быть поставлена в заслугу Григорию Мелехову.
Люди в первую очередь будут видеть, что перед ними белоказачий офицер, видная на Верхнем Дону и авторитетная среди казаков фигура, о чем сообщает и его бывший ближайший друг.
Григорий не строит себе иллюзий, что с ним будет, если он добровольно отдастся в руки карательных органов. А умирать вот так просто, ни за что, он не хочет. И если в бою он никогда не трусил, то теперь его охватил страх.
Он убежденно считает свои грехи перед Советской властью закрытыми. В открытом бою с нею он зарабатывал их, в открытом бою с врагами Советской власти, не щадя себя, заработал себе и право на искупление.
Почему же он должен смиренно идти под расстрел? Нет, он не согласен. Еще недавно, опустошенный, он не прочь был бы и умереть на дорогах войны, но теперь, когда жажда жизни и труда вспыхнула в нем с новой силой, умирать он не хочет. Он хочет пахать землю, растить осиротевших детишек, любить свою ненаглядную Аксинью.
С новой силой вспыхнула в нем и любовь к Аксинье. Теперь для него, потерявшего мать, отца, брата, нелюбимую, но до гроба верную ему жену Наталью, эта любовь значит особенно много. И он и Аксинья имеют право на счастье, доставшееся им такой ценой.
Впрочем, уже не впервые он пытается вместе с нею убежать от трагедии, следующей за ним но пятам.
Первый раз он уезжает с Дона в обозах разгромленной белоказачьей армии, едет с Аксиньей и Прохором Зыковым на Кубань. Аксинья чувствует себя бесконечно счастливой. С ним, со своим любимым, она готова ехать куда угодно и вместе с ним готова на все. Ей кажется, что они еще успеют наверстать то, что не успели долюбить, потому что очень многое все время мешало их любви.
Но как же жестоко ошибаются они – и Аксинья и Григорий. Как бы до этого ни была горька их гонимая, осуждаемая всеми и преступная, по понятиям того времени, любовь, теперь, вырванная из той самой родимой земли, где расцветала она и как лазоревый цветок, и как дурнопьян, она становится совсем жалкой и как бы несет в себе предчувствие своего конца. Рано улыбается Аксинья, когда едет в санях вместе с Григорием но степи и мороз румянит ее щеки, а глаза се искрятся торжеством и надеждой. Что-то не видно, не чувствуется, чтобы и Григорий разделял ее торжество.
До радости ли ему, когда он хорошо видит, что вокруг происходит, и понимает что к чему? Вокруг – разгром, некогда грозное войско катится по всем степным дорогам навстречу своей гибели, и, увлекаемые всеобщим бегством, Григорий с Аксиньей – как песчинки в этом потоке. Как бы до этого ни были горька их любовь, она своими корнями уходила в родную землю и цвела под родным небом, а здесь вокруг них – все чужое и чуждое им, здесь никому нет дела до их любви. Никто даже не осудит их, потому что люди стали равнодушны ко всему и из всех человеческих Чувств им ведомо теперь лишь единственное – инстинкт самосохранения, страх.
Жалкой и никчемной начинает выглядеть посреди всего этого любовь Григория и Аксиньи, и на это недвусмысленно намекает едущий с ними Прохор Зыков. Два любящих сердца несутся неведомо куда в урагане всеобщего отчаяния. Какая тут любовь!
И вот второй раз он бежит с нею от угрожающей ему опасности, от смерти. Еще раз Григорий и Аксинья испытывают судьбу.
Снова Аксинья по первому зову любимого готова идти и ехать с ним куда угодно. Вместе с ним она на все согласна. Ее ничто не страшит.
Теперь только и начинаешь понимать, чем же еще нас привлекала к себе эта молодая казачка, кроме, конечно, яркой своей красоты, такой же, как вешняя донская степь, пылающая лазоревым цветом.
Тем, что она так бестрепетно идет на огонь своей любви, почти заведомо зная, какую цену должна будет заплатить за свое короткое счастье, не боясь ни презрительной людской молвы, ни тяжелых кулаков мужа, ни самой смерти. Ни тогда, когда она несет по хутору свою опозоренную, но всеобщему мнению, голову. Ни тогда, когда она по первому зову Григория, по его стуку, собрав свои пожитки в узел, уходит из дома в батрачки. Ни тогда, когда, сознавая и чувствуя свою вину перед Натальей, кликушески кривляется перед ней. Ни, наконец, тогда, когда снова по первому стуку Григория, по его зову радостно выходит к нему в непроглядную ночь и скачет рядом с ним на лошади навстречу смерти.
Можно себе представить, как расцвели бы эти задатки ее натуры, окажись она не в условиях патриархального казачьего хутора, а в других, зовущих к самопожертвованию во имя высокой цели. За свои убеждения она могла бы пойти и на смерть, как идет теперь на смерть во имя любви.
Снова копытный стук раздается в степи. Это не тот озорной, шаловливый стук – нежный стук копыт коня которым Григорий теснил у Дона Аксинью на заре своей любви. И это не грозный, настигающий врага бег боевого коня, мчавшего Григория и по полям сражений русско-германской войны, и по донской степи, и по польской земле. Это мягкий, вкрадчивый стук копыт в ночи, объемлющий сердце Григория надеждой, что ему все-таки удастся унести от погони и от смерти свое счастье и где-то на этой земле найти временное пристанище для своей любви. А там пройдет время, все замирится, улягутся, успокоятся страсти, схлынет час ожесточения, отойдут, смягчатся и самые суровые сердца. Опять войдет в свои берега бушующий Дон, и можно будет вернуться на свою землю, пахать, сеять, жить вместе с любимой Аксиньей.
Надеждой отзывается в сердце Григория этот мягкий стук копыт в ночной степи. Рядом с Григорием – бесконечно счастливая Аксинья. Хоть и с опозданием, а сбылась ее мечта, та, что светила ей всю жизнь. Тихо, темно. Земля окутывает их своим ласковым дыханием. Пленительна Аксиньиному сердцу эта музыка копыт, предвещающая ей новые радости любви, жизни с Григорием.
И вдруг эта музыка обрывается. Выстрелы, погоня! Копыта лошадей, уносящих Аксинью и Григория, стучат лихорадочно и тревожно. Только бы успеть, только бы уйти, а там…
Уже и не знаешь, то ли это копыта лошадей стучат, то ли – твое сердце. И зачем же скрывать, что ты, конечно, хочешь, чтобы их не настигла погоня? Ведь люди, которые гонятся за Григорием и Аксиньей, хотя эти люди и отстаивают справедливейшее дело на земле, ничего не знают ни об их любви, ни прошлой жизни, а ты уже все знаешь, знаешь. Кистью гения написана эта скачка в ночной степи. Все дышит, все живет и звучит. Нет никакой литературы, нет романа Шолохова – одна только жизнь. Ветер свистит в ушах, храпят лошади, бьется сердце Григория, а рядом с ним так же гулко, а потом все слабее и глуше бьется замирающее сердце Аксиньи. Медленно запрокидываясь в седле, сползает она с лошади. Напрасно Григорий задыхающимся шепотом спрашивает у нее, что с ней, просит сказать хоть слово. «…Ни слова, ни стона не услышал он от безмолвной Аксиньи».
И вот уже он шашкой копает ей могилу. Нет, не помогла им любовь. Даже само солнце над головой Григория является его взору в донском небе черным. Теперь уже для него все было кончено.
* * *
И обо всем этом рассказано на том же самом языке, на котором говорят эти простые, несчастные и прекрасные люди, но только пропущенном сквозь «магический кристалл» необыкновенного таланта художника. Ничего не потеряв из своего самобытного очарования, этот язык и как бы очистился, и сгустился, и стал прозрачным. Все это написано теми же красками, которыми донская степь встречает весну, лето, осень и зиму, утро и вечер, восход и закат солнца, играет и в часы безмятежного безмолвия, и в часы грозы.
И не раз напомнит нам автор «Тихого Дона», как это нелепо и горько, когда среди этого буйства живой, вечно обновляющейся природы, под этим ослепительным солнцем, на милой родной земле, источающей пленительные ароматы, под звуки щебечущих птиц, поющих весенних ручьев и донской волны с недопетой казачьей песней на устах «безобразно просто» умирают молодые, красивые, полные жизни и надежд на лучшую жизнь люди.
Бороздой «Поднятой целины»
Вот и окончена «Поднятая целина». «…Вот и отпели донские соловьи дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульнову, отшептала им поспевающая пшеница, отзвенела по камням безымянная речка, текущая откуда то с верховьев Гремячего буерака… Вот и все!»
Это впервые после того, как в «Тихом Доне» автор, не в силах справиться с охватившим его волнением, обращается прямо к родимой степи, политой нержавеющей казачьей кровью; впервые его голос эпического повествователя снова прерывается для бурного лирического излияния о том, что так дорого его сердцу.
Теперь уже отойдут в прошлое, станут достоянием одних лишь исследователей литературы все наши ожидания и сетования на писателя за то, что он не спешит утолить нашу жажду, не укладывается в предположенный срок. А нашим детям и внукам вообще не будет дела до того, сколько лет писалась «Поднятая целина». Им легче будет понять, что даже такому большому сердцу не так-то просто было пропустить через свои берега одну за другой столько встреч и разлук, радостей и потерь… Оставить Григория Мелехова, перед тем как ему надо было принимать наиважнейшее из всех решений его жизни, и переброситься сразу на десять лет вперед – к Давыдову и Нагульнову… Оставить Давыдова и Нагульнова в тот самый час, когда кровавый есаул Половцев сызнова появляется в Гремячем Логу, и вернуться к Григорию, чтобы похоронить вместе с ним Аксинью и заглянуть в чистые глаза Мишатки, не сразу узнающего в чужом одичалом человеке отца… Надеть при первых раскатах войны шинель, похоронить в станице Вешенской убитую фашистской бомбой мать и, уйдя на фронт, побрататься там с теми, кто сражался за Родину, начав с ними невеселый путь отступления от Дона к Волге. И потом по зову сердца все-таки опять вернуться в Гремячий Лог на тридцать лет; назад, чтобы вместе с Варюхой-горюхой и Щукарем прийти на могилы Давыдова и Нагульнова.
«Вот и все», – повторит вслед за писателем читатель. Все о Давыдове и Нагульнове, их жизни и борьбе. Но жизнь и борьба во имя того, за что они отдали свои жизни, продолжаются.
Так завершается «Поднятая целина».
А еще так свежо чувство, навеянное самыми первыми страницами ее, когда еще только начиналось наше знакомство с теми, кого уже не разбудят донские соловьи… Незабываемо это первое впечатление от знакомства с «Поднятой целиной». И в наш город Новочеркасск, основанный Матвеем Платовым на холме посреди донской степи, пришла тогда из Москвы очередная книжка «Роман-газеты». Прочитана первая строчка: «В конце января, овеянные первой оттепелью, хорошо пахнут вишневые сады», – и сердце опять очутилось в плену. И теперь оно уже до самого конца, до последней строчки будет во власти того очарования, которое, может быть, сродни лишь твоей любви к этой распростертой вокруг степи.
Еще продолжается коллективизация на Дону. Ночами город на холме освещают отблески пожаров, бушующих в окрестных станицах и хуторах, а то донесется и эхо выстрела из кулацкого обреза. Коннонарочные сельсоветов, вырываясь из степи, процокав мимо бронзового Ермака, осаживают лошадей у здания бывшего атаманского дворца, где когда-то застрелился генерал Каледин, а теперь помещается райком партии. Скрытые силы и страсти, разбуженные коллективизацией, разлились вокруг по степи, как донская вода весной, когда она вплотную подступает к этому Платовскому кургану.
И как же это можно, когда все еще так живо, так горячо и еще продолжается борьба, вдруг взять и перенести все это со страниц степи на страницы книги и брызнуть на них светом, озарив самое существенное, самое главное?!
Не являясь продолжением «Тихого Дона» в прямом значении слова, «Поднятая целина» отвечает на вопрос читателей «Тихого Дона» о дальнейших исторических судьбах донского казачества – столь значительной и своеобразной части русского крестьянства. Своеобразной по своей родословной, ведущей, как известно, начало от вольнолюбивых беглых крестьян времен крепостного права, и по обычаям, слагавшимся в обстоятельствах военно-походной сословной жизни. Трудовой казак Донской области ничем, кроме обычаев и кастово-патриархальных наслоений, не отличался от крестьянина-труженика любой другой русской губернии или области. Истоки их нужды, причины всех бедствий и страданий были тождественны. Враги у них – самодержавие, помещики, кулачество были одни и те же. Коренные интересы трудового казачества и всего трудящегося русского крестьянства не перекрещивались, а совпадали. И лишь отравленным лезвием обмана их врагам удавалось время от времени разъединять их, сеять между ними раздоры. Природу этого обмана Шолохов обнажил в «Тихом Доне». И недаром время так поработало против тех истолкователей творчества Шолохова, которые прилагали старания, чтобы втиснуть его в границы донской «областной» темы.
Наедине с острым предчувствием новых перемен в жизни казачества оставлял читателя Шолохов, завершая эпопею «Тихого Дона». «Поднятая целина» пролила свет на то, какие именно перемены назревали в недрах казачества, всего русского крестьянства.
Завершая «Тихий Дон», Шолохов, так знающий жизнь крестьян, не мог остановиться на тех рубежах, куда пришел он со своими героями в поисках правды. На этом не заканчивались их поиски правды. И последующее время, прожитое в объятых классовой борьбой степях Дона между двадцатыми и тридцатыми годами, должно было еще больше укрепить писателя в этом.
Вешенские партийные работники, старые друзья Шолохова, и ныне вспоминают, как они, знавшие, что Михаил Александрович целиком поглощен «Тихим Доном», были удивлены, когда он однажды прочитал им первые главы своего нового романа о коллективизации. С тех пор прошло немногим менее сорока лет. Наши взаимоотношения с героями «Поднятой целины» прошли испытание временем. Мы прожили это время в миро ее образов, еще глубже прониклись духом ее поэзии. И это дает нам возможность лучше понять и оценить всю глубину ее связей с явлениями действительности. «Поднятая целина» – явление в нашей литературе столь же современное, сколь и историческое. Если «Тихий Дон»– это художественная история того, как сокрушались основы старых социальных порядков на Дону, то «Поднятая целина». – образное выражение истории нарождения новых, справедливых порядков в донской деревне.
Читая вторую книгу «Поднятий целины», снова убеждаешься в том, что, обращаясь к теме коллективизации, Шолохов избрал единственно верные идейно-художественные позиции. Именно поэтому он достигает такой силы художественного изображения событий и характеров людей. На борьбу противоборствующих начал он взглянул глазами народа. Людям труда он отдает свою любовь. И, подвластные неотразимому обаянию его творчества, мы тоже полюбили этих людей. За что? Конечно, в первую очередь за их неиссякаемое трудолюбие на земле, политой кровью предков. Но и за их страдания, за то, что в поте лица и в кровавой борьбе ищут они лучшую долю. За их любовь к родной, хотя часто и неласковой к ним, степи, к ее неповторимой природе, той самой, что дышит, играет красками, живет на страницах Шолохова.
Нашей любви, привитой художником слова к этим людям, неизменно сопутствует наша ненависть к тем, кто столетиями порабощал их душу и тело, держал их в состоянии полудикости и потом всеми неправдами препятствовал выходу их на дорогу свободной жизни на совершенно новых общественных началах. К тем, кто, подобно бывшему есаулу Половцеву, прямому наследнику Красновых, Калединых, был не прочь продолжить обман трудового казачества, начатый ими. Еще и поэтому побуждает «Поднятая целина» снова всмотреться в истоки трагедии Григория Мелехова. Всмотреться и яснее увидеть ту горку, на которую взошел с помощью путиловского слесаря Семена Давыдова другой выходец из трудовой казачьей семьи – Кондрат Майданников.
Фигура Кондрата Майданникова в «Поднятой целине» – несомненно главная из казаков-крестьян. Кондрат, как и Григорий Мелехов, из середняцкой казачьей семьи, но в отличие от него Майданников всю гражданскую войну провоевал за Советскую власть и возвратился домой в хутор Гремячий Лог в буденовке. И когда организуется в Гремячем Логу колхоз, он не только расчетливым крестьянским умом, но и сердцем понимает и чувствует, что не может быть для него иного решения, как прибиваться к этому берегу. Конечно, и Кондрата оторопь берет, ведь вот Тит Бородин тоже воевал за Советскую власть, а потом окулачился, решил богатеть. Кое-какое хозяйство сколотил за это время и Кондрат. Но чувствует он, что не под силу ему будет окрепнуть, нужна звериная хватка, а это не в его характере, он не Титок. И Кондрат пишет в своем заявлении: «Прошу допустить меня до новой жизни, так как я с ней вполне согласный». И все же держит его «пуповина» частной собственности, привязывает к имуществу, которое доставалось ему в нелегком труде. Грустит Кондрат, зная, что завтра вести ему быков на общий баз. Напоследок подкладывает он быкам в ясли «огромное беремя сена».
«Ну, вот и расставанье подошло… Подвинься, лысый! Четыре года мы – казак на быка, а бык на казака работали… И путного у нас ничего не вышло. И вам впроголодь, и мне скучновато. Через это и меняю вас на обчую жизнь. Ну, чего разлопушился, будто и на самом деле понимаешь?»
Придет час, когда дед Щукарь напомнит ему об этом и на этом основании даже даст «отлуп», то есть отвод, Кондрату, вступающему в партию.
«– Раз у нас открытое собрание, то должон ты, Кондратушка, то же самое открыто сказать: когда ты вступил в колхоз и вел сдавать в колхоз свою пару быков, кричал ты по ним слезьми или нет? – и, выждав тишины, уже тихо и вкрадчиво, он заговорил:
– Может, ты не помнишь, Кондратушка, а я помню, что гнал ты утром быков на обчественный баз, а у самого глаза были по кулаку и красные, как у крола или, скажем, как у старого кобеля спросонок. Вот ты и ответствуй, как попу на духу: было такое дело?»
Не такой человек Кондрат Майданников, чтобы утаить правду. Глядя на Щукаря затуманенными глазами, отвечает ему со сдержанной твердостью:
«Было такое дело. Не потаюсь, всплакнул. Жалко было расставаться. Мне эти быки не от родителя в наследство достались, а нажил их сам, своим горбом. Они мне не легко достались, эти быки! Это дело прошлое, отец. А что тут для партии вредного от моих прошедших слез?»
Со смущением называя Щукаря отцом, сознает Кондрат, что у того, хотя по стариковской придирчивости и перебарщивает он, есть свои основания для такого сурового разговора. За свою жизнь дед Щукарь не нажил и той пары быков, что была у Кондрата. И не понять Щукарю, над чем это можно проливать слезы, вступая в колхоз. Но все же ошибается Щукарь, давая на собрании Кондрату отвод. Нет у Щукаря крыльев возвыситься над прошедшим и взглянуть на Кондрата новыми глазами. Увидеть и того Кондрата, который в борозде на весеннем севе был назван Семеном Давыдовым первым в Гремячем Логу ударником. И того, что на вопрос Давыдова: «Подымает враг голову, а, Кондрат?»– спокойно отвечает: «Что ж, это хорошо, пущай подымает. Поднятую голову рубить легче будет…» Суметь разглядеть в Майданникове, который плакал над своими быками, и того человека, что впоследствии заменит на посту председателя гремячинского колхоза Давыдова, павшего от руки бывшего есаула Половцева.
* * *
После смерти Давыдова идет Кондрат Майданников «со склоненной головой, и страшно резко обозначились на висках его вздувшиеся вены, а две глубокие поперечные морщины повыше переносья краснели, как шрамы». С этими шрамами – рубцами на сердце – и заступит он на место Давыдова. И никогда не дадут они ему забыть, за что отдали свои жизни Давыдов и Нагульнов. Тоскующему после смерти Давыдова и Нагульнова деду Щукарю новый председатель колхоза Кондрат Майданников говорит со стыдливой лаской:
«Мы с Разметновым о тебе уже думали, дедушка… А что, ежели тебе заступить в ночные сторожа в сельпо? Построим тебе теплую будку к зиме, поставим в ней чугунку, топчан сделаем, а тебе в зиму справим полушубок, тулуп, валенки. Чем будет не житье? И жалованье будешь получать, и работа легкая, а главное – ты при деле будешь. Ну как, согласен?»
Говорит он эти слова тому самому Щукарю, что давал ему отвод при вступлении в партию.
* * *
В этом принципиальное значение образа советского крестьянина, встающего со страниц романа Шолохова. И так же, как Майданникова, каждого из тех, других казаков-крестьян, с которыми познакомился читатель в «Поднятой целине», – Любишкииа, Ушакова, Дубнова, кузнеца Шалого, – Шолохов наделяет живыми чертами, каждый по-своему запоминается, у каждого своя, не похожая на чью-нибудь другую судьба.
На редкость своеобычна она у Ивана Аржанова. Многим в хуторе кажется Аржанов «слегка придурковатым», а на самом деле это не так. В прошлом, еще в детстве, пережил Иван Аржанов тяжелую драму. Когда он был еще подростком – было ему тринадцать лет, – казак Аверьян Архипов и два его брата, Афанасий и Сергей Косой, зверски изуродовали, обрекая на мучительную смерть его отца. «За бабу убили, за полюбовницу его. Она была замужняя. Ну, муж ее прознал про это дело». Она и вообще нелегкая была у Аржанова, жизнь, а тут еще омрачила ее недетская жажда мести. «Какой бы отец непутевый ни был, но он умел погулять, умел и поработать. Для кое каких других он был поганым человеком, а нам, детишкам и матери, – свой, родной: он нас кормил, одевал и обувал, из-за нас он с весны до осени в поле хрип гнул… Узковаты были у меня тогда плечи и жидка хребтина, а пришлось нести на себе все хозяйство и работать, как взрослому казаку. При отце нас четверо бегало в школу, а после его смерти пришлось всем школу бросить».
Нужда еще больше искармливала, подстегивала его ненависть к убийцам отца. Поднакопил он деньжонок, купил одноствольное ружье и подстерег-таки Аверьяна. Сурово и просто рассказывает теперь Аржанов об этом Давыдову, не утаив и того, что взял он тогда у убитого Аверьяна кошелек. «В нем было бумажками двадцать восемь рублей, один золотой в пять рублей и мелочью рубля два или три». На резкий и злой вопрос Давыдова, зачем он взял деньги – «Они мне нужны были, – просто ответил Аржанов. – Нас в ту пору нужда ела дюжей, чем вошь». И дальше рассказывает, что так изуродовала его душу эта подкормленная жестокой бедностью жажда мести, что забеспокоило…… когда Сергей Косой, Аверьянов брат, умирает своей смертью. Иван спешит поскорее привести в исполнение смертный приговор еще одному брату Аверьяна Афанасию. «Афанасия я убил через окно, когда он вечерял. В ту ночь я отметился у притолоки в последний раз, потом стер все отметки тряпкой. А ружье и патроны утопил в речке; все это мне стало не нужным… Я отцову и свою волю выполнил».