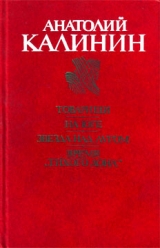
Текст книги "Товарищи (сборник)"
Автор книги: Анатолий Калинин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Кроме того, что прочитал Павел в записке Портного, он вычитал из нее и другое. И оно было неизмеримо больше того, о чем говорилось в записке. Зная сдержанность Портного, Павел не сомневался, что его фраза о мрачных перспективах для немцев в Сталинграде могла предполагать не что иное, как возможное изменение там обстановки. И не только там, а вообще всей военной обстановки на юге. Это вытекало и из слов Портного, что немцы эвакуируют военнопленных, и из других слов, которые, перед тем как уничтожить записку, запомнил Павел.
«До свидания», – беззвучно повторял он, лежа на соломе в бараке.
Гулявший по крыше барака ветер шуршал оторванным листом толя. Все в бараке спали. Спал и Никулин. Венчик его волос тускло серебрился на соломе.
Ветер, отворачивая лист толя над головой Павла, открывал квадрат темного неба с одной единственной звездой.
19
Слухи о предполагаемом проезде фюрера на Кавказ вскоре совсем заглохли, но работы на мосту не прекратились. Уже забетонировали быки, и теперь пленные наращивали настил. Над Доном сеяла изморось. Задувший с юго-востока холодный «астраханец» забирался под мокрую одежду, она примерзала к телу. Из обрезков балок и досок пленные разжигали костры. Дым пеленой стлался над водой.
Дощатая будка, в которой сидела за своим маленьким столиком Анна, прижалась боком к насыпи на самом въезде на мост. Через каждые четыре часа старшие десятков приносили Анне сведения о выработке, и она записывала их в графу, отчеркнутую красной линией в журнале. Через каждые четыре часа она должна была звонить по телефону в комендатуру, сообщая эти сведения Ланге или его помощнику Корфу.
В железной, на трех ножках, печке пылали угли. Сквозь мутное от измороси стекло она, бросая взгляды на мост, видела согбенные фигуры пленных. Где-то среди них работал и Павел.
Она никогда не оставалась в будке одна, при ней находился старший охранник. Только при нем она должна была принимать сведения от десятников. Когда они приходили в будку, она должна была записывать их сообщения в журнал. Если она и могла задать старшему десятка вопрос, то только касающийся выработки.
И с Павлом, который тоже через каждые четыре часа приносил ей сведения о выработке своего десятка, она до сих пор не смогла сказать ни слова. Видеть его в двух шагах от себя через столик – и не иметь права ничего сказать! Но, во всяком случае, через каждые четыре часа она могла слышать его голос.
И она не смела поднять на него глаз от журнала, чтобы не выдать себя. Глаза сидевшего у печки на маленьком табурете немца неотступно наблюдали за ней.
Лишь в дни дежурств светловолосого эльзасца Рудольфа она могла чувствовать себя сравнительно свободно. Он не притеснял Анну и не позволял себе по отношению к ней никаких вольностей. Конечно, и с ним надо было держаться настороже, но все-таки он вел себя по отношению к ней иначе, чем все другие.
Обычно он входил в будку и, поставив автомат в угол, спрашивал:
– Как, фрейлейн Анна, кофе сегодня будем пить или чай?
Затем он ставил на конфорку чайник, предварительно прошуровав в печке кочергой угли, и вскоре после этого наливал в две большие кружки – Анне и себе – чай или кофе. Он заваривал их брикетами из своего ранца.
Первый раз, когда он придвинул Анне кружку с кофе и она отказалась, он с удивлением посмотрел на нее из-под крутого лба своими маленькими глазками.
– А я, фрейлейн, заваривая его на двоих, израсходовал целый брикетик.
И после этого у нее не хватило решимости отодвинуть от себя кружку.
Впрочем, она вскоре убедилась, что ничего плохого в том, что она пьет с ним кофе, не было. Это ровным счетом ни к чему не обязывало ее. И у него, по-видимому, не было с этим связано никаких посторонних побуждений.
Убедилась она и в том, что в дни дежурств Рудольфа военнопленные тоже чувствовали себя на мосту заметно свободнее. Конечно, все так же стояли вокруг них охранники, сидели с поднятыми ушами серые собаки. Но солдаты не так понукали в эти дни пленных ударами прикладов ускорить работу и даже не препятствовали им греться у костров, как в дни дежурств того же Шпуле.
Выпив кофе, Рудольф обычно доставал из кармана маленькую – розовая деревяшка, обитая жестью, – губную гармонику, осведомляясь у Анны:
– Я не помешаю?
– Нет, – отвечала Анна.
Вытерев гармонику платком и продув, Рудольф прикладывал ее к губам. При этом маленькие глаза его делались еще меньше, на широкий лоб набегала складка.
Он всегда играл на губной гармонике одну и ту же мелодию, и Анна вскоре к ней привыкла. В дни, когда в будке дежурил не Рудольф, а другой, она иногда даже ловила себя на том, что начинает мысленно воспроизводить ее.
Эта немецкая мелодия была одновременно и грустной, и лукавой. Рудольф наигрывал ее чуть слышно. Прислушиваясь, Анна почему-то начинала думать, что, вероятно, мать у Рудольфа из крестьянок. Анна даже представляла ее – крупную, в чепчике, окруженную многочисленным семейством немку. Руки у нее почти такие же большие, как у ее сына. Может быть, это она и научила его еще в детстве этой полупечальной-полувеселой песенке.
Потом Анна сердито гнала от себя все эти догадки. Какое ей может быть дело до матери этого немца, который сидит здесь и наблюдает за ней своими маленькими глазками?! Он враг, и думать о нем как о человеке, у которого тоже есть мать, отец, она не имеет права.
Но вскоре она опять невольно начинала прислушиваться к его губной гармонике. Однажды, выждав, когда Рудольф умолк и стал протирать ее платком, спросила:
– Не правда ли, господин Рудольф, ваша мать из крестьянок?
Перестав протирать пазы гармоники, он посмотрел на нее с изумлением:
– Как вы могли об этом догадаться, фрейлейн?
– Чем-то ваша песенка напомнила мне колыбельные, которые у нас крестьянки тоже поют своим детям.
Губная гармоника вздрогнула в больших пальцах Рудольфа. Он положил ее на колени. Эта русская девушка со скуластым лицом и непримиримыми серыми глазами заговорила вдруг с ним о том, о чем еще никто не разговаривал с ним из русских. И она упомянула о его матери.
– Фрейлейн, вероятно, хорошо разбирается в музыке?
– Нет, но моя мать тоже была из крестьянок.
– И вам показалось…
– Нет, конечно, русские колыбельные совсем другие, но, слушая вас, я подумала, что в крестьянских песнях есть что-то общее.
Она сама не заметила, как разговорилась с ним. Его тоже заинтересовал этот разговор. От печки он подвинулся с табуретом ближе к ее столику.
– Что же именно?
– По-моему, все они несут отпечаток тяжелого труда и… как бы вам сказать… надежды на лучшее.
– Я с вами согласен. Ваш отец тоже крестьянин?
– Нет, рабочий, – ответила она значительно суше. Ее начинало беспокоить его любопытство.
– О, – Рудольф заулыбался во весь рот и еще ближе придвинулся к ее столику. – У нас с вами совпадение. Не хватает еще, чтобы он, фрейлейн, был рудокопом.
Анна покачала головой:
– Он машинист.
Она уже жалела, что затеяла этот разговор. Но, внимательнее посмотрев на лицо Рудольфа, почти успокоилась. Не похоже было, чтобы он преследовал какие-то особые цели. Его в самом деле затронул этот разговор. Даже толстые губы у него слегка приоткрылись.
– Он сейчас дома?
– Нет.
– А-а, – Рудольф догадливо усмехнулся. – Должно быть, повел своей эшелон на восток, да?
– Да, – настороженно подтвердила Анна.
– Что ж, – пожал плечами Рудольф, – каждый выполняет свой долг. Вы теперь живете вдвоем с матерью?
– Одна, – глухо сказала Анна.
– Разве она не с вами?
– Она умерла.
– Да? – переспросил он растерянно. – Давно?
– Она умерла в начале этого месяца, – ответила Анна.
Заискивая, он встретился с ее взглядом и увидел в нем одну лишь непримиримость. Он наклонил большелобую голову.
– Если сможете, простите меня, фрейлейн Анна, я теперь вижу, что не должен был спрашивать у вас об этом.
На этот раз Анна с изумлением взглянула на него. Что за странный немец? До сих пор она думала, что все они были на редкость однообразны – все были враги. Незачем было искать между ними различия. Иногда ей казалось, что все они от одной и той же матери. Оказывается, все не так просто. Перед ней сидел немец в таком же, как все они, мундире – и был он другой. В этом еще предстояло разобраться.
Она старалась не смотреть в его сторону. В будке стояла тишина. Но потом она с удивлением повернула голову. Она услышала знакомую мелодию. Ей вторил налетевший из-за Дона на насыпь ветер. Он бил крылом по кровле дощатой будки, шатал ее, швыряя в окно мерзнущие на лету капельки. Чадили у моста костры, освещая серые фигурки, копошившиеся на откосах.
Не похож был Рудольф на остальных охранников и в другом. Если он не играл на своей гармонике, то не оставался в будке. Брал из угла автомат и отлучался, не опасаясь, что за это время Анна может вступить в какие-нибудь недозволенные разговоры с приходившими в будку старшими десятков. С автоматом на груди Рудольф уходил на самый дальний край моста и не возвращался полчаса-час. Во время одной из таких отлучек ей и посчастливилось остаться наедине с Павлом.
20
Истекли обычные четыре часа, старшие начинали приносить в будку сведения о выработке. Анна сидела за столиком, записывая их в графу журнала. Из-за непогоды выработка была сегодня ужасающе низкой, и она думала о том, что вечером многим не избежать наказания. Какое изберут наказание, зависело еще и от того, кто сегодня будет решать этот вопрос: Ланге или Корф. У Ланге степень его жестокости еще зависела от его настроения, и Анна могла надеяться как-то смягчить его менее холодным, чем обычно, обращением. Но Корф был неумолим. Ничто, и менее всего женщины, не могло заставить его изменить своим правилам. Среди всех офицеров охраны не было другого столь же ревностного в исполнении своих служебных обязанностей.
Повизгивала на петлях дощатая дверь, впуская и выпуская десятников. Павел не приходил что-то очень долго. У столика Анны уже перебывало больше половины старших. Заслышав снаружи шаги, Анна каждый раз поднимала глаза к двери и тотчас же, как только она открывалась, опускала: это был не он. В сердце ее капля по капле стала просачиваться тревога. Почему он сегодня запаздывает? Обычно он всегда приходил в будку в числе первых.
Бросая взгляды в окно, она высматривала на насыпи его фигуру в черной лохматой шапке. Где-то Павел достал себе эту шапку. В ней он казался еще выше.
Вскоре после того, как уже больше половины десятников принесли сведения, Рудольф надел тулуп.
– Схожу на другой конец, – предупредил он Анну. – Если позвонят из комендатуры, пожалуйста, не снимайте трубку.
В окно Анна видела, как он вразвалку спустился по насыпи к самому Дону. Вскоре его широкоплечая фигура исчезла за серой мутью.
Но Павла все не было. Не случилось ли что-нибудь с ним? В тех условиях, в которых работали военнопленные, всего можно было ожидать. Не проходило дня, чтобы кого-нибудь из них не придавило бревном или же не свалился кто-нибудь от истощения в Дон.
Все реже открывалась и закрывалась дверь. Оставался последний, который сегодня еще не побывал у столика Анны. Это был Павел.
В эту минуту она увидела его шапку, промелькнувшую за окном. Открыв дверь, он вошел в будку и остановился в трех шагах от нее.
Их разделял только столик, за которым сидела Анна. Впервые за все время они остались одни. Изморось шуршала по стеклу.
– Как долго ты сегодня не приходил, – дрожащими губами выговорила Анна.
– Мы сегодня работаем на том берегу, – ответил Павел. – И надо было подождать, когда этот конвойный, – он имел в виду Рудольфа, – отойдет подальше.
– У тебя теперь другая шапка, – сказала Анна.
– Она теплая… – Он словно в чем-то оправдывался.
– Но я, по-моему, видела ее на ком-то другом.
– Ее носил тот осетин, которого пристрелил Шпуле.
Павел снял шапку и положил на ее столик. Анна не смогла удержать движения. Его давно не стриженные каштановые волосы густо разбавились сединой, косичками свешиваясь ему на лоб и на уши. Глядя на Павла, она не смела сказать ему об этой перемене. Но он слишком хорошо знал ее – он по ее глазам догадался – и провел рукой по волосам.
– С того дня, как нас вербовали в добровольцы, нас больше не стригли.
Он еще мог улыбаться! Она сделала усилие и сквозь пелену, застилавшую ей глаза, тоже попыталась улыбнуться.
Как много им нужно было сказать друг другу! Она давно собиралась при случае сказать ему, чтобы он получше берегся не только для дела, но и для нее, а он хотел предупредить ее, чтобы она особенно опасалась Корфа, хотя и от Ланге, по возможности, следует держаться подальше.
Вместо этого они говорили о другом.
– Как здоровье Натальи Ивановны? – спросил Павел. Он так и не знал о ее смерти. В другое время этот вопрос, без сомнения, вызвал бы у Анны слезы, но теперь она была озабочена лишь тем, чтобы пока он не знал об этом. Павел любил ее мать.
– Она просила, если я где-нибудь тебя увижу, передать привет.
Он обрадовался.
– Спасибо. Конечно, она не догадывается, что я здесь.
– Нет, – подтвердила Анна.
– Вы не голодаете? – спросил он с тревогой.
И это он у нее спрашивает?! Он, который уже второй месяц ничего не ел, кроме бурачной баланды. Глядя на его измученное лицо, горящие лихорадочным блеском глаза, она должна была совершить над собой усилие, чтобы не упасть грудью на стол и не разрыдаться.
– Теперь я получаю их паек.
– Все-таки мне не нравится твой вид, – настаивал Павел.
Руки его, с опухшими пальцами, с грязными ногтями, касались края ее столика. Не в силах больше справиться с собой, Анна перегнулась через столик, прижимаясь к ним губами.
– Он каждую минуту может вернуться, – напомнил Павел.
– Сейчас я запишу выработку, – покорно сказала она, обмакнув в чернильницу ручку и склоняясь над журналом.
– Да, да, – одобрил Павел. – Я и так уже задерживаюсь. – Он назвал цифру.
Ее рука вздрогнула. В случае невыполнения нормы десятком первым обычно наказывали для примера десятника.
Павел небрежно добавил:
– До вечера мы еще натянем. И ветер слабеет.
– Да, – согласилась Анна.
В этот момент порыв ветра, налетевшего из-за Дона, закачал будку.
– Нового от Портного ничего нет? – бросив взгляд в окно, спросил Павел.
– За исключением того, что ждут деталей побега… Он ушел в самый конец моста, – перехватывая его взгляд, успокоила Анна.
– Все детали еще не прояснились. Ясно одно, что лучше всего это осуществить во время воздушного налета, когда они бросают вышки и забиваются в щели. Тогда наиболее вероятно и захватить на одной из вышек пулемет. – Он снова взглянул в окно и перевел взгляд на дверь.
– Еще есть время, – заверила Анна.
– Не хотелось бы, чтобы он увидел нас вдвоем.
– Я скажу, что нужно было уточнить в журнале сведения за весь месяц.
– Конечно, лучше всего, – продолжал Павел, – если бы ко времени побега был приурочен специальный налет. Но это нереально, – тут же заключил он.
– Завтра передам все Портному, – сказала Анна.
– Только предварительно. Но уже сейчас можно сообщить, что с оврагом принимается. Он достаточно глубок и, самое главное, вплотную подходит к лагерю. Но кто выключит ток?
– И это передам, – всматриваясь в окно, сказала Анна.
– В крайнем случае, можно пойти на то, чтобы сделать под изгородью подкоп. Но это отнимет время. Важно также прервать телефонную связь лагеря с комендатурой.
– Портной сказал, что все за территорией лагеря будет обеспечено центром.
– Есть еще осложнение.
– Собаки?
– Да.
– Их можно уничтожить, – сказала Анна.
– Как?
– Им варят пищу в той же кухне, что и пленным?
– Но в разных котлах. Ланге считает, что овчарки не могут обходиться без мяса.
– Кто повар?
– Сероштанов. Как эта мысль не пришла мне в голову? – лицо Павла просветлело. – Только следует рассчитать, чтобы все произошло перед самым побегом. Иначе могут возникнуть подозрения.
– Все необходимое я достану через Марфу Андреевну. Она теперь работает в больнице.
– Весь план в деталях передам послезавтра.
– Он уже идет, – предупредила Анна.
Она давно заметила фигуру Рудольфа, поднимавшегося от моста по насыпи.
– А-а, – тоже взглянув в окно, с ненавистью сказал Павел.
Он быстро перегнулся через столик, взял ее голову обеими руками и, поцеловав, отпрянул к двери. Через секунду в окно промелькнула его шайка.
Вошел Рудольф в искрящемся изморосью тулупе.
– Не ветер, фрейлейн Анна, а настоящий ураган, – сказал он, плотно прикрывая за собой дверь. Иссеченное дождем и ветром его лицо горело. – Вы здесь не замерзли?
– Совсем наоборот. От печки жарко.
– Но ведь она же совсем затухла, – сказал он с удивлением. И, склоняясь над печкой, стал шуровать кочергой угли. – Ай-яй, фрейлейн Анна, вы забыли вовремя подсыпать уголь.
– Именно потому я и потушила ее, что мне стало жарко, – сказала Анна.
– Это вам могло только показаться. На самом деле в будке совсем не тепло. Придется разжечь снова. – Разгибаясь, он внимательно посмотрел на нее. – Вы не заболели? И глаза блестят. Мне кажется, у вас жар.
– Болит немного голова, но это у меня бывает.
– Вы на меня не обиделись?
– За что?
– Что я поворчал на вас из-за печки.
– Я действительно провинилась перед вами.
– Нисколько. Просто мне не хочется, чтобы вы здесь превратились в сосульку. – Он с беспокойством посмотрел на окно. – Идет зима. Трудно работать в такую погоду. – И маленькие глазки его стали суровыми.
– Да, выработка сегодня ничтожная, – сухо заметила Анна.
– Вы ужо занесли ее в журнал? – с живостью спросил Рудольф.
Она только пожала плечами. Он еще спрашивал ее об этом?
– Но ведь вы хорошо знаете, какие могут быть для них, – он кивнул в сторону моста, – последствия?!
– Что же делать, господин Рудольф? Изменить это не в моих силах.
– Дайте мне ваш журнал. – Он взял со стола журнал. С возрастающим изумлением она наблюдала за его движениями.
– Что вы делаете, господин Рудольф? – испуганно спросила она, инстинктивно протягивая руку к журналу.
– Это совсем не будет заметно. – Наморщив широкий лоб, он стал аккуратно вырывать из журнала лист. – А теперь мы вынем лист и с другой стороны. И вам снова придется записать всю выработку, фрейлейн Анна, только, конечно, доведя ее до нормы. – Он положил перед ней журнал на столик.
– По ведь это будет подлог, господин Рудольф, – сказала она строго.
– Я подпишу, – заверил он успокаивающим тоном и отошел к печке. Присев на корточки, стал сосредоточенно выгребать из нее затухшие угли.
21
Ноябрьский ветер из-за Волги, набирая силу, с каждым днем все громче гремел лохмотьями горелого железа на крышах разбитых артиллерией и авиацией зданий, гудел в обнаженной арматуре заводских корпусов и в жилах военных кабелей, переброшенных от одного дома к другому, протянутых по закоулкам чердаков, тонкоголосо заливался в струнах внутриполковой связи.
Разведчики роты сходили ночью за языком и, захватив в немецком блиндаже спящим рослого ефрейтора, спеленав его веревками, приволокли на КП роты и свалили в углу, как тюк. Новый командир роты лейтенант Батурин подошел к нему, попинал ногой и брезгливо отошел.
– Развяжите его, пусть отойдет от страха. Пока не передрожит, никакого толку от него не будет…
В роте все еще присматривались к лейтенанту, неизбежно сравнивая его с капитаном Батуриным. Однажды Тиунов услышал в первом взводе разговор командира минометного расчета, рыжеусого Степана, со своим вторым номером, молодым солдатом Иваном.
– Простой, – говорил о новом командире роты безбровый и круглолицый Иван. Сидя в окопе на корточках, он обтирал тряпкой окрашенный в серо-зеленый цвет станок миномета, тогда как Степан, навертев на стальную проволоку пыж, прочищал им ствол. – Когда идет мимо, здоровкается всегда и шутит. Капитан, тот посуховатей был.
– Ты капитана не трогай, – не подымая головы, гулко, как в самоварную трубу, предупредил рыжеусый Степан.
– Я не трогаю, а только говорю, что хоть и братья они, а будто от разных матерей.
– Ты, Иван, еще бычок, – поднимая к нему лицо, сказал Степан, и волосатые ноздри у него задрожали.
Иван рассердился на него.
– Командовать командуй, а срамить не смей. При чем здесь бычок?!
– А при том, что его под какую титьку не ткни, ту и будет смоктать.
Уже дважды за это время к новому командиру роты пристреливались немецкие снайперы. Но один раз пуля зарылась у него в полевой сумке, а в другой раз только выбила из рук бинокль. Многие видели, как при этом лейтенант, который рассматривал в бинокль из-за бруствера окопа развалины на противоположной стороне уличного перекрестка, даже не тронулся с места, только чуть побледнел, и сразу же отметили:
– Не любит кланяться нулям…
– Если он свою жизнь не бережет, то как же он… – начал на это возражать рыжеусый Степан и смолк, встретившись взглядом с Тиуновым.
Присматривался к лейтенанту Батурину и Тиунов. Он как будто бы уже успел примириться с уходом капитана из роты, и его скуластое, смуглое лицо ничего не выражало, кроме обычной сдержанности. Как-то побывал он на КП батальона.
– Как живешь, Хачим? – спросил его капитан Батурин.
– Ничего, – скупо ответил Тиунов.
– Все у тебя по-старому?
– По-старому, капитан.
– Всё, кунак?
– Всё, – подтвердил Тиунов.
Лишь в голосе его капитан уловил, быть может, чересчур твердые нотки. Он вздохнул и расспросы прекратил.
Язык, которого принесли разведчики, после того как пришел в память, разговорился. Немецкий ефрейтор боялся, что его расстреляют. Из его слов выходило, что идут приготовления к штурму пятачка с целью сбросить оборонявшихся на нем солдат в Волгу. По ночам по ту сторону улицы накапливалась в развалинах пехота и подтягивались пушки.
Еще при капитане Батурине саперы начали подводить под развалины стен фугасы. Теперь командир первого взвода Сердюков доложил лейтенанту, что последний фугас уже подведен.
– Теперь можно и подрывать, – удовлетворенно сказал присутствующий при этом Тиунов.
– Зачем такая спешка? – возразил лейтенант. – Чем больше подтянутся, тем больше мяса будет.
– Капитан боялся опоздать… – осторожно сказал Тиунов.
– Капитан Батурин, конечно, мой брат, но командую теперь ротой, как известно, я, – глядя на него, медленно ответил лейтенант. Что-то новое, жестковатое, выступило у него в лице.
– И язык подтвердил: надо штурма ожидать. – Голос у Тиунова чуть вздрогнул, но тут же выпрямился.
– Паршивый фриц хотел нас запугать, а мы ему поверили. Сейчас я с ним поговорю. Приведи его! – приказал он ординарцу.
И когда Василий привел пленного ефрейтора, лейтенант, округлив глаза, закричал на него срывающимся баском:
– А ну, подойди сюда ближе, колбаса!
Тиунов тихонько вышел: он не любил, когда при нем таким способом выражали свою ненависть к врагам.
22
Все увереннее хозяйничала осень в пригоспитальном парке в старой части нефтяного города на берегу Каспия. Рабочие сгребали с дорожек медно-красную листву. По вечерам с гор стекала прохлада. Няни стали закрывать на ночь в палатах окна.
Подошел день выписываться из госпиталя Жуку. С утра он сходил к главному хирургу на последний осмотр, получил в складе свое обмундирование.
– Все же это чучело в очках не забыл написать: «С ограничением», – жаловался потом Жук, стоя перед своим отражением в застекленной двери палаты и тщательно выскабливая бритвой смуглые щеки. – Что ему стоило вместо «к нестроевой» поставить «к строевой службе». В двух буквах дело. Ну, добраться бы до фронта. – Отступая на шаг от двери и вглядываясь в стекло, он с огорчением заключил – До своего беловского корпуса теперь мне долго добираться, сперва надо через Каспий в Среднюю Азию переплыть, а там еще ехать через всю Россию. Придется ближе причаливать. Говорит, зачем-то две донские дивизии из-под Туапсе на Терек перебросили.
И он покосился одним глазом на Лугового. Все время Луговой молча лежал вверх лицом на койке, по отчужденному взгляду можно было догадаться, что мысли его витают где-то не здесь. Но при последних словах Жука он повернул голову. Жук улыбнулся.
– Могу добавить, что и в наш госпиталь поступило предписание: всех кавалеристов из донских казаков после излечения направлять в новый пятый донской кавкорпус – Попрыскав на себя из флакона одеколоном и разглаживая расческой усы на молодом лице, Жук снова покосился на Лугового. – Похоже, подвижные части создают. Явно замышляется что-то крупное. Ты куда? – вдруг закричал он, увидев, что Луговой, встав с койки и решительно запахнув халат, направился к двери.
Но Луговой не оглянулся. Шаги его быстро удалялись за дверью по коридору.
Когда Луговой вошел к главврачу, тот сидел за столом в халате и колпаке, нахохлившись. С утра он уже выгнал из кабинета пятерых человек, просивших его о досрочном увольнении из госпиталя.
– Ну-с? – не поднимая головы, спросил он голосом, не предвещающим ничего хорошего.
Луговой стоял перед его столом молча. Тогда главврач с удивлением поднял голову. Злые огоньки загорелись у него за стеклами очков.
– Вы еще долго собираетесь стоять передо мной, как столб?
– Я, Георгий Ильич… – начал Луговой.
– Прошу зарубить, что я вам не Георгий Ильич, а полковник медицинской службы! – закричал главврач. – Вы, капитан, чем до ранения командовали, эскадроном? – спросил он тише.
– Так точно, товарищ полковник медицинской службы, – ответил Луговой.
Главврач с досадой отмахнулся.
– В таком случае скажите мне, если бы, допустим, ваши подчиненные перестали повиноваться вам, как бы вы поступили, капитан?
– Так же, как и вы, – твердо сказал Луговой.
– А-а! – Главврач засмеялся.
Но Луговой тут же и не дал ему насладиться своим торжеством.
– Все понимаю, товарищ полковник медицинской службы, но если вы не выпишите меня, я все равно убегу!
Главврач, побагровев, быстро взглянул в его глаза и мгновенно поверил: так оно и будет.
В палату Луговой вернулся с суровым и просветленным лицом.
– Значит, вместе? – догадался Жук.
– Вместе, – кратко ответил Луговой.
Юсупов и Петр, каждый со своей койки, молча наблюдали за их сборами. У Юсупова еще только начинали отставать от обожженного тела бинты, и главврач заявил, что выпишет его не раньше, чем через полгода, притом не в действующую армию, а в тыл. К Петру главврач оказался добрее: обещал выписать его через месяц-полтора. Но и этот срок представлялся Петру страшно длинным. Пожимая руки Жуку и Луговому, он помалкивал.
– Не горюй, не опоздаешь, – загадочно сказал ему Жук.
Из окна палаты Петр видел, как он с Луговым вышел из подъезда госпиталя и по аллее парка направился к воротам. Одетый в кавалерийскую форму, Жук шел, размахивая руками и что-то рассказывая Луговому, в подскакивающих шпорах его взблескивало солнце. Луговой, приотставая от него на полшага, сначала нетвердо, будто учась ходить, нащупывал носком ноги землю и потом уже опускался на каблук. Его заметно покачивало. Один раз он даже придержался рукой за ствол дерева.
Осень сразу же и заметала их следы на асфальтовой дорожке красной и желтой листвой.
23
Теперь уже по многим признакам можно было определить, что готовится эвакуация пленных из лагеря. Дважды приезжали комиссии. Сначала гестаповские офицеры ходили по территории, осматривали бараки. Потом приехала испанская комиссия во главе с генералом. В сопровождении Корфа они с особым тщанием обследовали лагерь, покачивая головами, глядели сквозь рваные крыши бараков на небо, что-то записывая в книжечки. Среди испанцев не было ни одного чином ниже полковника, но Корф держался с ними так, точно все они были рядовые. Когда испанские офицеры обращались к нему с вопросами, он отвечал им отрывисто, а иногда и вообще не отвечал. Визит испанцев завершился тем, что генерал с тонкой ниточкой усов стал кричать на Корфа срывающимся фальцетом, прыгая перед ним, как маленький петух перед большим.
После отъезда комиссии пленных из всех пяти бараков согнали в один. На другой день на грузовых машинах приехали испанские солдаты и начали ремонт освободившихся бараков. Пленные должны были подносить им на носилках песок и выполнять всю остальную тяжелую работу.
Не в пример немецким солдатам, испанские оказались более разговорчивыми. От них и узнали пленные, что на территории лагеря предполагается разместить полевой госпиталь «Голубой дивизии».
Сходив на рынок, Анна через Дарью сообщила об этом Портному, и он на другой же день передал Павлу, чтобы заканчивали подготовку к побегу. Но и без этого Павел понимал, что если оттягивать побег, он вообще может не состояться.
Кроме Павла, из всех остальных пленных в план побега были посвящены только Никулин, Сероштанов и Сердюков. Все остальные должны были узнать о побеге только накануне. Не было сомнений, что никто из них не откажется от возможности бежать из лагеря.
В невероятной скученности жил теперь в одном бараке весь лагерь. Но в конце концов это могло пойти и на пользу дела. В назначенный час легче можно будет поднять всех сразу. К тому же барак, в который вселили пленных со всего лагеря, ближе всех подходил к оврагу, примыкавшему к лагерю.
Это был скорее яр, промытый чалыми степными водами. Глиняные красные склоны его поросли черноталом. Узкой извилистой щелью яр уходил к железнодорожной насыпи и нырял там под мост.
На ночь все двери барака охранники закрывали снаружи железными засовами, и не оставалось ничего иного, как заблаговременно и незаметно пропилить лаз в бревенчатой стене, выходившей к оврагу. Мысль о том, чтобы прибегнуть к пиле, сразу же была отвергнута как неосуществимая. Через Анну Портной передал в лагерь четыре стальных бурава.
Ночью, как только барак погружался в сон, Павел с Никулиным, разгребая в углу солому, начинали буравить бревна. Через каждый час их сменяли Сердюков и Сероштанов. Прокручивая по вертикали и по горизонтали отверстия вплотную друг к другу, надо было суметь не произвести никакого шума. Портной постарался раздобыть в городе буравы из сверхпрочной стали, но и они с трудом входили в дубовые бревна. Тот, кто строил эти конюшни, хотел, чтобы они стояли долго. Витые жала буравов, раскаляясь, не столько прокручивали, сколько прожигали бревна.
За первую же ночь все четверо набили себе кровавые мозоли, но, как только началась ночь, снова взялись за бурава. Все остальные пленные спали, давно уже привыкнув к тому, что по ночам неутомимо шуршат соломой и грызут дерево крысы, безбоязненно бегая прямо по спящим людям.
Иногда кто-нибудь из четверки, сморенный мгновенным сном, падал на солому, зажав в руке бурав. Но они не могли позволить себе этого слишком часто. Надо было успеть пробурить в дубовой стене квадратный лаз – по метру в ширину и в длину, и пробурить его так, чтобы стальное жало ни разу не вылезло снаружи из-под древесной пленки. К тому же надо было надежно спрятать опилки в углу барака под соломой не только от глаз охранников, но и от глаз пленных.








