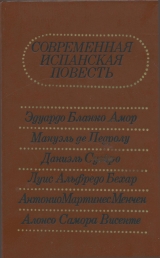
Текст книги "Современная испанская повесть"
Автор книги: Алонсо Самоа Висенте
Соавторы: Эдуардо Бланко-Амор,Луис Альфредо Бехар,Мануэль де Педролу,Антонио Мартинес Менчен,Даниель Суэйро
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 34 страниц)
ГЛАВА V
– Нет, сеньор, на Ослиное поле мы пошли позже. Сперва мы пошли на станцию. Не знаю, говорил ли я, что у нас была мысль вскочить в товаро – пассажирский поезд, который, как вы знаете, проходит в пять утра, и ехать в Монфорте, пока тут не поутихнет немного – время‑то, мол, само все устроит. А если и не устроит, то промеж нами был разговор и о том, чтобы уехать куда‑нибудь в Астурию. Там, по слухам, есть неплохая работа на угольных шахтах, а у Клешни в тех местах были друзья.
Но когда мы прошли Большой мост, я столкнулся с одним возчиком по прозвищу Пузатый. Как раз в это время он стоял у своих ворот и запрягал. Пузатый ко мне очень расположен: он был товарищем моего отца, когда они вместе мели улицы в Кадисе. Так вот, он отошел от своих мулов, когда ребята уже прошли вперед – а я плелся сзади, едва ступая, – схватил меня за руку и отвел в сторопу – сказать, что на станцию нам лучше не показываться: там нас разыскивают. И сказал мне еще, что нам чадо отрываться, и подальше: весь город знает, что мы сотворили… а ведь сам Пузатый еще не все знал. Но, по его словам, кроме того дела, когда Клешня всадил нож в живот Бальбино Луковой Головке в трактире Репейника, на нас повесили и пожар в имении – а говорят, что пожар там вышел страшнейший, какого уже многие годы никто пе помнит. Винокур, как все считали, на свете уже не жилец – так он обгорел, пытаясь потушить огонь. А еще сгорел скот и нагульные свиньи – все, что было в хлеву, и это не говоря о других убытках, которые пожар наделал в имении. А нас если поймают, то забьют палками насмерть, не дожидаясь суда, и еще всякое такое и прочее…
Ну, я поблагодарил его – правда, сказал, что дело было вовсе не такое уж большое, как люди его после разукрасили, – и побежал догонять своих, чтобы им рассказать. Поначалу Клешня еще делал вид, что не так страшен черт… но при всем том мы повернули обратно. Когда мы снова проходили по Большому мосту, вдруг схватила меня «задумка», да так неожиданно и с такой зверской силой, что еще немного – и я бы перепрыгнул через перила в реку. И даже, кажется, сделал движение – во всяком случае, какой‑то момент я был совсем не в себе… Думаю, что меня спас холод, который в то же время сжал мне виски как железными клещами, да еще эта слабость в ногах – такая, будто теряешь сознание… Слава богу, что прошло…
Когда мы спустились с моста, Окурок сбегал в трактир Пономаря, который уже открывал двери: вот – вот должны были начать подходить торговцы, съезжавшиеся на ярмарку. Вернулся он с парой бутылок самогона – очень ко времени, а то, чего доброго, могли бы и задремать на ходу. Одну из них мы раздавили сразу, не замедляя шага, будто это была водичка из источника. Так оио иногда бывает: пьешь не ради выпивки, а чтобы силы вовсе не отказали…
Что теперь делать, я не знал хоть убей. Жизнь кончилась. Я думал о матери, о мальчонке, о Балаболке – так, словно вспоминал о них на том свете. Все во мне перевернулось за короткое время, будто и не я, а какой‑то совсем чужой человек недавно, третьего дня, решил помириться со своей подругой и жить честь честью, работать и заботиться о родных и о самом себе. Судьба заступила мне дорогу вместе с этими отпетыми, и влип я в такие дела, которыми, будь моя воля, никогда бы не занимался и даже не помышлял. А больней всего было думать, что это случилось, когда я окончательно решил взяться за ум. Будто злая колдунья явилась отнять у меня мое решение в тот миг, когда я взялся было его исполнять. И ничего уже не исправишь, провалиться бы мне с моим невезением!..
– Да, конечно, я и сам понимаю, что нечего зря плакаться, но мне нужно сбросить с души эту тяжесть, которая вот – вот раздавит… И освободиться от «задумки», что так и накатывает волнами с той минуты, как меня сюда привели… а потом, ведь и выпивки нет, а с ней я бы легче вздохнул… И хорошо еще, что вы, сеньор, такой добрый и не дали меня снова отправить в участок – там бы она меня довела до помрачения рассудка. Вы же должны понимать, что молодой парень, у которого все на месте, не может стерпеть, когда другой человек, кроме разве что собственного отца, бьет его по лицу, без всякой ссоры между ними, и нельзя дать сдачи, когда у тебя наручники. Не знаю уж, как это могут быть на свете люди с такой гнусной душонкой, ублюдки такие, что способны бить других людей, которые ничего им не сделали и не могут защищаться. Это что, правосудие?.. Не правосудие, а хрен собачий, извините за выражение, я это не про вас…
– Вы правы… Простите… Но вы не знаете, что это такое – оказаться в руках такого вот сукина сына, который считает, что раз он надел мундир, то имеет право измываться над человеком, которого весь город знает, и что может бить его и кулаками по лицу, и прутьями по хребту, и сапогами в копчик, не говоря уж о мужском месте, с вашего позволения, будто ты цыган какой. И еще при этом смеяться и зубоскалить, а это всего больнее – когда тебе плюют в душу! И все это после того, как тебя свяжут, как свинью, и ты не можешь за себя постоять… Клянусь вам, господин начальник, что если надо идти в тюрьму – я пойду, и на каторгу пойду, потому как, раз уж ты провинился, – отвечай, даже если ты это сделал, сам того не желая; таков уж закон у людей, и что тут будешь делать… Но если меня снова отправят в участок, то клянусь вам своей матерью, что…
– Да – да, вы совершенно правы, и награди вас бог, что вы меня столько терпите, а это потому, что вы – человек очень порядочный, хотя и не из наших мест, совсем не то, что этот сукин сын, этот фараон, которому надо было родиться обезьяной где‑нибудь подале отсюда…
– Нет, сеньор, у меня не отнялся язык… а просто меня оторопь взяла, как вы на меня заорали – я ведь ничего не сказал против вас, и даже в мыслях не имел, вот те крест!.. А если у меня и сорвалось какое ругательство или что‑то вроде, то поимейте в виду положение человека, ко торый, что бы там ни бывало, никогда не имел дела е законом. А теперь вот столько времени проводишь, не видя ни одного человеческого лица, не дают ни есть, ни пить, и бьют, и таскают туда – сюда, и задают вопросы, а потом не дают отвечать, а если все же скажешь, то вобьют тебе это обратно в глотку, и не выпросишь у них даже капли воды, и даже свои надобности справить нельзя так, чтобы эта сволочь не торчала у тебя перед глазами…
– Да, сеньор, понимаю вас и сию минуту все сделаю, как вы приказываете…
…так вот, эти несколько глотков самогона еще раз нас развеселили и придали сил, хотя и не так, как раньше, потому что та тяжесть в душе, которую нужно было заливать спиртным, все росла и росла. И я уже чувствовал, что больше пить не смогу: все нутро огнем горело и чуть ли не выворачивалось наружу, да и те двое имели теперь такой же помятый вид, как и я… Они шли впереди, как всегда обняв друг друга за пояс, и старались изобразить, что им очень весело, и что гулянка как гулянка, и все образуется, как бывало после всех их прежних дурачеств и безобразий…
Мы обходили город окольными тропками, среди виноградников, и я слышал только голос Окурка, но теперь это был такой воркующий говорок, как бывает, когда парень обхаживает девчонку. Они шли, набросив покрывала и шатаясь из стороны в сторону, и ясно было, что под покрывалами они толкаются, и щекочутся, и смеются, и все такое прочее. В такие‑то моменты Окурок и пользовался вовсю тем, что дружок его во хмелю и ничего пе соображает. Ведь, когда у Шанчика было ясно в голове, он этого не позволял или, во всяком случае, не допускал, чтобы доходило до такого скотства. Что до меня, то хоть я столько с ними шлялся, но так и не смог понять, то ли один пил, чтобы другой мог позабавиться, то ли тот его поил, чтобы доставить себе удовольствие. Одно могу сказать: никогда не видели, чтобы кто‑то из них напивался в одиночку или же в другой компании. Для всех это было загадкой, и в кабаках об этом достаточно было говорено. Но уж как нарежутся, то рано или поздно обязательно дойдут до такой мерзости – миловаться и драться попеременно, и тут сам дьявол не разберет, что между ними происходит.
Холод был собачий, зуб на зуб не попадал, а ноги мне будто жгло каленым железом, и страшно было даже подумать о том, чтобы разуться и глянуть, что у меня там тчо – рится после всех наших хождений. И увидеть эти волдыри, содранные башмаками, и эти носки, мокрые от крови, гноя и сукровицы из ран!..
И настал момент, когда я перестал соображать, что происходит, и упал около чьей‑то изгороди, и сил больше не было, и мне было наплевать на все… В теле была страшная слабость, и в голове все плыло, как в тумане, и непонятно – от усталости, или от боли, или от выпивки. Ребята увидели, что я упал, вернулись и потащили меня почти на весу, а Клешня меня подбадривал и говорил, что уже близко отсюда одно место, где мы сможем и спрятаться, и поговорить о том, что делать, и никто нас там не найдет.
С Клешней творилось что‑то странное. Он поминутно менялся прямо на глазах: то веселый и самоуверенный, то хмурый и весь в сомнениях. С ним надо было держать ухо востро – человек он был очень ловкий, способный разыграть что угодно. А кроме того, из нас троих он сейчас меньше всего был способен что‑то соображать. Временами казалось, что он просто пьян до невозможности: и речь его, и походка были как раз такие… Весь день его водила одна мысль, а ночью она стала терзать его еще сильнее: подавай ему женщину, и все тут, и отговорить его от этого нам никак не удавалось. И когда начатое было дело с красивой госпожой, которая оказалась куклой, пошло прахом, мысль эта лишь крепче засела у него в котелке… Я же говорил, что когда Клешня закусывал удила, то это был уже не человек, а дьявол, и не было силы, что бы его остановила. Его большие глаза, обычно широко раскрытые, как у ребенка, вдруг сужались и твердели – и смотрели пристально и не мигая, как глаза дикого зверя. И говорил он тогда мало и сквозь зубы, сжав челюсти, и выходила не речь, а ворчание. Нужно было всему напрячься, чтобы расслышать, что он там бормочет.
Окурок тоже подавал голос, но этот больше плакался: от холода у него опять разболелась рана па шее, что торчала красным бугром среди сгустков засохшей крови. Клешня тем временем нес, заикаясь, свою пьяную несуразицу:
– Черт меня побери совсем, мне нужна женщина – и чтобы не шлюха! Если бы вы были настоящие друзья…
– Другого ничего не хочешь? – отвечал ему дружок голосом не то шутливым, не то вызывающим.
И таким вот манером мы все ковыляли и ковыляли вперед по этой тропке; которой, казалось, конца не будет… Пройдя чуть – чуть, они останавливались и прикладывались к бутылке – не знаю уж, как можно было столько выдержать. Полубаба, который казался самым хилым, на деле‑то из всех троих был самый выносливый. Клешня после каждого глотка кашлял сухо и резко, словно у него жгло в глотке, и снова затягивал свою паскудную песню:
– …я же вам сказал, что мне надо бабу – и чтобы не была шлюха!..
– На что опа тебе нужна, когда ты с ней уже ничего не сможешь, бездельник паршивый? Что тебе баба? Давай поцелуйся лучше с этой… – И с этими словами его друг тыкал ему бутылкой прямо в зубы, хотя Клешня теперь уже не столько пил, сколько лил на рубаху.
Понемногу я выкрутился у них из рук, чтобы им не тащить меня на себе, и сам поплелся, как мог, вслед за ними. От них разило водочным перегаром, смешанным с запахом одеколона: Окурок увел один флакон из дома полоумного господина и теперь брызгал из него зачем‑то на своего товарища. И от этой тошнотной смеси у меня все переворачивалось в животе и казалось, что все кругом пахнет одинаково: воздух, одежда, табачный дым… Внезапно Клешня остановился, глядя куда‑то в сторону, и некоторое время постоял так; затем, будто ему пришла в голову новая мысль, перескочил через ближайшую изгородь и за-, шагал по тропе, которая пересекала владения женского аббатства. По тому, как он теперь двигался – большими шагами, почти бегом, – я понял, что ему в башку ударила очередная глупость. Всегда он был такой: как взбредет ему новая затея, так он даже не задумается, а сразу бросается ее исполнять. И чем рисковей дело, тем быстрее он за него брался. Такой вот он был и сейчас: прямой, твердый, решительный, даже походка у него выправилась, будто и не пил ни капли. И мы едва поспевали за ним.
Так мы и дошли до Ослиного поля – это, как вы правильно понимаете, место, где городские мусорщики устроили себе свалку.
Земля здесь пропиталась водой вчерашнего дождя и размякла – больше там, где были кучи свежего мусора, – и мы утопали по колено в этой жидкой грязи, от которой воняло тухлятиной. На ровных местах успело подморозить, но было так скользко, что уж лучше идти по мусору.
Посреди поля стоит большая лужа, даже озерцо, и довольно глубокое: здесь собирается дождевая вода. Летом над этим местом кишмя кишат мухи и слепни, и вонь разносится по всем окрестностям. Говорят даже, что несколь ко раз здесь начиналась страшная зараза. Но в то утро лужа была покрыта коркой льда и блестела среди гор всякого дерьма, как матовое зеркало. Луна вот – вот должна была скрыться за горой Святой Литании, по пока еще выглядывала.
Пока мы шли, я ни слова не проронил, но в душе‑то начинал догадываться о том, что задумал этот безбожник, хотя было страшно в это поверить.
Там, чуть в стороне от свалки, в сарае, где вся крыша – охапка ивняка, жила Сокоррито, дурочка… Думаю, и вы ее знаете; и кто угодно, проживи он в нашем городе хоть немного, уже знает ее и жалеет. Женщина еще молодая, смазливенькая, хорошего роста и держится очень прямо, хоть жизнь ее порядком побила, бедняжку. Появилась она в Аурии несколько лет тому назад неведомо откуда, неведомо каким путем пришла, короче, как все блаженные. А на руках у нее, сколько я ее помню, всегда был сверток из тряпок, наподобие ребенка. И этот комок она прижимала к груди и как бы кормила. Когда она только появилась, кожа у нее была белая, нежная, а волосы черные и жесткие, и не падали ей на плечи, а вились кудряшками, поэтому вокруг головы у нее была как бы корона из волос. Голосок у нее был сладкий и жеманный, и говорила она только по – кастильски, как всегда начинают говорить наши деревенские бабы, когда свихнутся. Но с виду‑то была самая что ни на есть городская барышня – и платье всегда опрятное, и движения плавные, и улыбалась так заразительно, а зубки ровные и белые… Вскоре все ее любили, и зазывали в дом, и кормили, и давали кое – чего из одежды, хотя не так просто было заставить ее что‑то принять. Она всегда говорила, что она не какая‑нибудь пищая попрошайка, а что привыкла есть за столом как положено: па белой скатерти и чтобы горничные подавали, такие вот у нее были безумные фантазии… А что касательно одежды, так на каждую вещь, что ей давали, нужно было дать еще одну – для ребенка, хотя тут ей было довольно любого лоскутка материи, которым и палец‑то не обернешь. А когда забирала вещи, то никогда не благодарила, хотя во всем остальном была страшно вежливая и воспигапная. Но тут она вела себя как знатная дама и говорила, что скоро пришлет управляющего «заплатить по счету»… Бедная Сокоррито! Хорошие люди хотели было приютить ее у себя, но когда кто‑то так делал, то она вскоре начинала тосковать и чахнуть, а нрав у нее делался ужасно злой. Ну и ничего не оставалось, как отпустить ее с богом… И тогда она возвращалась в тот самый сарай, где мусорщики городской управы держали свои телеги и метлы и где она жила среди множества колыбелек, которые ей отдавали даром, или делали плотники из четырех досок, или она сама делала из уворованных ящиков, потому что у нее, дескать, двадцать детей, и каждый – от другого отца, и все – мальчики… В городе говорили, что она сошла с ума, когда ее испортил один португалец – пильщик: взял ее силой, еще совсем девчонкой, в Ловейре или где‑то там, откуда она родом… И я, и все аурийские парни подшучивали над ней ласково, намекая на эту ее причуду – иметь столько детей. То есть мы ей говорили, тоже по – кастрацки:
– Сокоррито, когда мы с тобой сделаем ребеночка?
А она, улыбаясь, подойдет к тому, кто спрашивает, и, понюхав его немного, ответит:
– Я не могу иметь от тебя ребенка, потому что ты плохо пахнешь. Прости меня!
И наоборот, когда мимо нее проходил какой‑нибудь барчук, если он был ладный парень и хорошо одет, то хоть бы он и шел с женщиной, она обязательно подходила к нему и говорила нежно так:
– Ой, как хорошо от тебя пахнет! Когда ты мне сделаешь ребеночка?
– Завтра, Сокоррито, сегодня я спешу, – так ей отвечали из снисхождения, а то и с жалостью. Один иностранец, который вот так же ей подвернулся, – тот даже прослезился, когда ему рассказали, в чем дело. Бедная Сокоррито!
– Да я уж так и думал, что вы ее знаете и что я вам ничего нового не расскажу, но после всей этой гадости так приятно было поговорить о ней, потому что…
– Да, хорошо… Так вот, Клешня пошел и взял у Окурка флакон одеколона и вылил на себя все, что оставалось. Потом еще раз присосался к бутылке и забросил ее, пустую, подальше. И снова зашагал, широко расставляя ноги, стараясь держаться твердо.
– Куда ты такой пойдешь? – завопил Окурок, который, судя по всему, еще не догадывался. Тот ему не ответил и все шел себе и шел, спотыкаясь о кучи мусора. – Подожди, я с тобой!..
– Ты никуда пе пойдешь, – ответил Шан, задержавшись на мгновенье, и опять он говорил так, что было ясно: возражать ему – это лезть в драку.
– Ну и провались ты ко всем чертям! – рявкнул Окурок; потом бросился на землю и завернулся в покрывало, будто собирался спать.
Некоторое время еще видна была фигура Клешни, мелькавшая вверх и вниз но кучам мусора; и шел он вовсе не в ту сторону, где был сарай. Я, однако же, хорошо понял, что у него на уме, и очень обеспокоился, и хотел даже бежать за ним, и сказать ему пару слов, чтобы он одумался. Но скорей всего мне пришлось бы с ним драться, а у меня и стоять‑то на ногах уже не было сил, не то что драться с этим скотом, которого не брала даже бочка водки, что он в себя вылил.
Окурок, казалось, засыпал. Хмель брал свое, и теперь он тихонько выводил нараспев всякие духовные песни, что женщины поют во время шествий… Я весь извелся от беспокойства, потому что уже знал: если я допущу то, о чем догадывался, то это – камень на совести до конца моей жизни. А так как другие подонки уже делали попытки, то известно было, что Сокоррито умеет быть не по – женски сильной и бесстрашной и может защитить себя от такого позора. Но в то же время я слишком хорошо знал и этого зверя, порази его, господи, в самую душу, что не в добрый час ему была дана, а потому и не сомневался, что если провалится его уловка с одеколоном – хотел еще сойти за благородного! – то он будет способен на любую гнусность.
Пройдя еще немного, он скрылся в темноте. А на меня усталость обрушилась такой тяжестью, что, несмотря на всю тревогу и догадки, я не смог с ней совладать – как только я опустился на землю, так все у меня в глазах смешалось и поплыло. Я будто видел все во сне… Луна давно закатилась, небо было чистое, морозило страшно. От земли шел густой пар или туман, который останавливался и застывал, не успев подняться. А там вдали, над вершинами Монталегре, пробивались первые, еще тусклые, проблески рассвета. Среди мусорных куч и застывших луж дождевой воды, как черные молнии, шныряли огромные крысы, рылись в отбросах в двух шагах от нас, а иногда пробегали по нам сверху, будто мы уже покойники.
Я чувствовал себя так, словно сейчас умру. И даже не понимал, откуда накатилась на меня эта страшная тяжесть – от тела ли она идет, вконец измученного, или снова пришла «задумка», но такая, как никогда раньше. Как бы оно ни было, я чувствовал, что отхожу: все на свете мне было безразлично, я как будто падал и падал куда‑то без конца, хотел бежать, но не было силы двинуться, И я все уходил и уходил неизвестно куда… еще я попытался было, собрав всю волю, вспомнить мать и мальчонку и ухватиться за это воспоминание – и не смог. Я был совсем пустой, мысли плыли и рассеивались; никогда еще «задумка» не приходила ко мне с такой силой, да так, что не было и желания с ней бороться, как бывало. Сейчас я хотел лишь одного: чтобы она меня несла и несла, не останавливаясь, до самой смерти, которая уже ничуть не пугала…
– Да, он был рядом со мной. Так он и лежал, закутавшись в покрывало, прижав подбородок к груди и закрыв глаза. Но, судя по всему, не спал. Время от времени он вздрагивал и качал головой, точно сам себя убаюкивал, и все тянул вполголоса литании, которые женщины поют в церкви… Вдруг в какой‑то момент он перевернулся, встал на четвереньки и отдал все, что у него было в желудке, и жалобно стонал при каждом новом припадке рвоты. Потом перевернулся на спину и стал хвататься за живот, весь корчась от боли. Было еще темно, поэтому я зажег спичку и увидел, что губы у него в крови, а лицо белое, осунулось и блестит от пота… День занимался медленно – медленно, почти ничего не видно было в этой мгле…
И вдруг я услышал вдалеке страшнейший вопль. Голос был женский. Тут же крик повторился, и еще сильнее, и я одним прыжком был на ногах. Потом было еще несколько – коротких, будто задушенных. Окурок уже стоял рядом со мной и озирался. Испуг мгновенно разогнал все наши болезни.
– Что это? – спросил он и прислушался.
– А ты как думаешь?.. Эта скотина сейчас в сарае у Сокоррито!
И, не договорив, я уже мчался, сколько позволяли израненные ноги, прямо к сараю, который и был‑то всего в паре сотен шагов, в низинке. Я лез на кучи мусора, падал и подымался, и в какой‑то момент Окурок меня обогнал. Он пронесся мимо, и в руке у него блеснул раскрытый нож. Собрав последние силы неведомо откуда, я еще сумел его догнать. На бегу я схватил его за руку, пытаясь удержать. Он повернулся, и я увидел лицо, какого у него никогда еще не было, – лицо человека, который не соображает, что делает.
– Сейчас он мне за все заплатит, этот гад!.. – крикнул он.
– Постой, Аладио, ведь ты же погубишь себя из‑за этой сволочи!..
И вот тут‑то, чтобы вырваться, он и полоснул меня по запястью, где и сейчас виден порез, и кровь сразу хлестнула фонтаном. Однако же я его не выпустил, и мы вместе добежали до сарая, вместе сбежали к нему по откосу и влетели так, что чуть не расшиблись об дверь, которая от удара распахнулась настежь.
г Клешня появился из темного угла с наполовину спущенными штанами, так что видна была белая кожа живота… И, не говоря ни слова, Окурок бросился на него, одним ударом всадил в него нож и рваиул вбок и тут же вытащил, чтобы ударить еще раз, пониже, в самые, с позволения сказать, укромные места. Клешня согнулся, стараясь подобрать руками, которые были уже все в крови, большой ком чего‑то беловатого, что вываливалось у него из огромной страшной раны. Он пытался еще удержаться на ногах, но не смог и упал набок, скрючившись и прижимая то самое к себе…
Аладио выскочил вон из сарая и бросился бежать… Я тоже побежал, но надолго меня не хватило: все силы, сколько их еще было, испарились от этого жуткого кошмара. Окурок, я думаю, ничего перед собою не видел: он бежал не разбирая дороги прямо к замерзшему озеру – и даже пробежал по нему несколько шагов, а потом лед проломился со звуком как от разбитого стекла, и он рухнул в воду и все кричал, пока не исчез совсем…
И вот так‑то нас и пашли мусорщики, как я после узнал… Если бы я не упал без чувств – и от тех мытарств, что вытерпел за все это время, и от того, что так много крови потерял, – то я сам бы пошел и сообщил в полицию, потому как я к смерти этих двоих не причастен, если не считать только, что она произошла у меня на глазах, а я ничего не мог поделать… Жаль, что они погибли, потому что они были люди, такие же, как и я, но они заслужили свою судьбу, и думаю даже, что опи искали себе смерти, искали – и нашли… И больше мне нечего сказать, и прости нас бог! Всех нас…
– Да – да, тот самый. Я его и видел‑то едва – едва, но все же думаю, что это – нож Аладио Окурка.
– Конечно, сеньор; я и говорю, что похоже, потому что прежде я этого ножа не видел – и не знал, что он у него есть. И видел‑то я его всего один миг: когда мы бежали и он ударил меня этим ножом в руку. Что этот ной? – «состав преступления», как вы говорите, этого я не знаю, могу только сказать, что, может, оно и так, но не побожусь.
– А вот это уже глупость, и даже нечестно так поворачивать, не сочтите за оскорбление. Что я не бегаю с ножом и не кидаюсь с ним на людей – это вам скажет кто угодно в городе… И будьте мне так любезны!..
– Нет, я в порядке, и ничего со мной не происходит…
– Нет, сеньор, я не кричу, и мне нечего кричать, хотя меня здорово заело то, что вы мне закинули насчет ножа… А потом, все уже сказано, все уже сказано, и не надо доводить человека, пытаясь из него вытянуть больше, чем он сказал и чем он знает… И все, и кончено!.. Потому что… когда меня сильно берет «задумка», вот как сейчас… это, должно быть, оттого, что я голодный и пить страшно хочется, а у меня уже два дня маковой росинки во рту не было… или от злости, что мы столько копались во всем этом… то я хочу одного – чтобы меня наконец оставили в покое, я больше не могу… и… пропадите вы пропадом!..
– Нет – нет, вот уж это нет! Я вас прошу, сеньор, я вас заклинаю вашими родителями или кем хотите… я вас прошу, я на колени стану!.. Нет… я не хочу, чтобы меня уводили эти!.. Снова в участок – я не пойду, я не пойду!.. Пустите, суки!..
Сиприано Канедо, или Сибран, или Хряк, или… успел еще перескочить через барьер, и схватить нож со стола, и воткнуть его себе под ребро… Бывает, что люди, чтобы освободиться от «задумки», должны убить ее в себе… Хотя у нас в городе так до конца и не поняли, умер ли он от этого удара ножом – или от ударов этих… ну, Которые…
Мой дядя, «исполнитель», хотя и был человек весьма преданный закону и порядку и, судя по тому, что нам известно о его службе, уважающий все, что написано в протоколах, однако же поговаривал, негромко и сквозь зубы, что Хряка унесли оттуда с проломленной головой и что на другой день сам он, дядя, вымел из‑под стола кусочки «чего‑то такого вроде засохшей крови или грязи, а может быть, этих самых мозгов, которые у нас в голове».
Во всяком случае, он так говорил…








