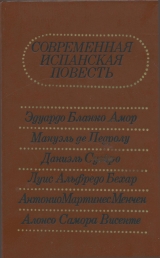
Текст книги "Современная испанская повесть"
Автор книги: Алонсо Самоа Висенте
Соавторы: Эдуардо Бланко-Амор,Луис Альфредо Бехар,Мануэль де Педролу,Антонио Мартинес Менчен,Даниель Суэйро
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 34 страниц)
Сначала в детстве, а потом и в юности они приводили меня в смятение и ужас: несомненно, присутствие за столом сына самого страшного чудовища, какое только можно себе вообразить, наносило несмываемое оскорбление этим людям, особенно полковнику и донье Энрикете, ко торая без всякого стеснения иногда поглядывала на меня и с железной непререкаемостью произносила свою излюбленную фразу, звучавшую как приговор: «Не понимаю, почему заразу не вырвали с корнем», а затем пророчески вздыхала: «Дорогой Альфонсо, ваше великодушие приведет к большому несчастью». После обеда сидение за столом продолжалось безнадежно долго, и только в сумерках его венчала нескончаемо длинная молитва, после которой священник – член конгрегации Святой Марии – нудным голосом призывал благословение божие на каудильо, на славное испанское воинство, на мучеников крестового похода, на иностранный легион, папу римского и еще на многое и многих, а мы все, включая и прислугу, которую вызывали в столовую специально для этого, должны были терпеть от начала до конца.
Посерьезнев, дядя Альфонсо встал из‑за стола и велел управляющему идти за ним, «чтобы поподробнее обсудить это дело». Тот быстро вскочил и, снова склонившись перед Кларой и повторив «я у ваших ног, сеньора», поспешил за хозяином. Только после этого поднялась Сегунда, а за нею и мы. Дядя Либерио, не в состоянии больше сдерживать смех, передразнил управляющего, преувеличенно низко согнувшись перед старой молчуньей со словами «с вашего разрешения, сеньора». Дядя Либерио задержал меня при выходе и, взяв за руку, спросил: «Ну как, как тебе понравился этот человек с разноцветными глазами?» Тогда я тоже задал ему вопрос, ответ на который мне мучительно хотелось получить уже лет восемь или десять, с тех пор как мой брат ушел на войну: «Либерио, а почему, если мой отец, и ты, и мой брат были на войне, почему же дядя, который моложе тебя и старше Альфонсо, не был на войне? Я этого никак не пойму». Либерио внезапно стал очень серьезным и, бросив мне: «Представь себе, я тоже», пошел к себе в студию, оставив меня в ошеломлении посреди коридора.
Проходя мимо двери кабинета, я услышал, как человек с разноцветными глазами в полной растерянности кричал: «Но, дон Альфонсо, они же говорят, что убьют меня!»
На исходе 1937 года, через шесть дней после того, как мой брат добровольцем отправился на войну, за столом сидели только мы с дедом, если не считать Сегунды, которая никогда не отлучалась со своего поста. Тишина стояла такая плотная, что казалось, ее можно было потрогать. Дед словпо делал над собой большое усилие, когда говорил мне дрожащим голосом: «Садись, мой мальчик, сегодня рядом со мной, справа». На лице у Сегунды, конечно, отразилось неодобрение, а я пошел к деду, замечая, как он становится все более старым, по мере того как я приближался и лучше видел его. Я испугался. Я предчувствовал песчастье. Довольно долго и после того, как подали первое блюдо этого печального ужина, дедушка держал руку на моей голове, а сам пристально смотрел на небольшую горку зелени. Вдруг он начал быстро мигать, и по глубоким бороздам его морщин тихо скатилась слеза. Он взлохматил мне волосы и сказал, чтобы я ел, а сам отодвинул свою тарелку. «Сегунда, вели, чтобы мне принесли кофе с молоком», – сказал он. И Сегунда ушла, оставив нас наедине. Тогда дед посмотрел на меня и спросил, знаю ли я, куда отправился дядя Альфонсо. Слова застревали у меня в горле, и я просто покачал головой, не знаю, мол, куда поехал дядя Альфонсо, а в горле у меня все жестче становился ком, похожий на мясо индюшки, но такой невероятно твердый, что я с трудом мог дышать. Я произнес: «Дедушка, что с тобой?» И бедный старик наконец мне сказал, что моего брата Альфонсо убили и дядя Альфонсо поехал за его телом. Вот в чем заключалась тайна. Потом он добавил: «Какая ужасная, ужасная война, я бы хотел, чтобы бог меня прибрал раньше и я не видел ее в своей семье». Вошла Сегунда, и в горле у меня уже не было того комка, но я застыл как столб, я не шевелился, не плакал, ничего не говорил, хотя, конечно, понимал, какая это страшная новость. Однако я внезапно ощутил, что после нескольких месяцев разговоров о войне она стала реальной. В моей голове упорно звучали слова деда «ужасно, ужасно». Я не мог, никак не мог представить себе моего брата Альфонсо мертвым. Я словно видел его, одновременно ребенка и мужчину, высокого и могучего, как дерево, когда он прощался с нами, заливаясь слезами. А в голове все звучало и звучало то слово, которое превратилось в магическое заклинание, внезапно изменившее всю мою жизнь: «ужасно, ужасно, ужасно…» Дедушка, поняв, что я тоже не прикоснусь к еде, сказал: «Сегунда, вели принести мальчику стакан горячего молока». И Сегунда снова вышла из столовой. Дедушка поднялся со своего кресла главы семейства и подошел к балкону, ближе к холодной ночи. Я тоже встал и, обхватив его руками за пояс, разрыдался.
Немного успокоившись, мы продолжали сидеть вдвоем – дедушка и я. Все часы в доме давно уже пробили двенадцать. Дедушка говорит: «Мы должны попытаться сообщить об этом твоим родителям» – и снова замолкает, а потом спрашивает, не хочу ли я, чтобы мы написали им письмо, хотя, вероятнее всего, оно никогда не попадет по назначению, потому что, по последним сведениям, родители мои находились под Мадридом возле Аранхуэса, в пока еще республиканской зоне. Это был единственный раз, когда я писал отцу письмо. Дедушка диктует очень, очень медленно, а я своим детским почерком пишу на тетрадном листе: «Дорогие родители! Мы пишем вам вместе с дедушкой, потому что мы должны сообщить вам очень печальную весть, что ваш сын Альфонсо пошел добровольцем на войну ровно шесть дней назад, в рождество, с колонной фалангистов, таких же, как и он, добровольцев, которая направилась в Мадрид. Но сегодня утром мы получили телеграмму, в которой говорилось, что наш дорогой Альфонсо погиб от шальной пули, когда проходил обучение вместе со своими товарищами. Дядя Альфонсо поехал за ним, и мы думаем, что завтра он привезет тело, чтобы мы похоронили его здесь и чтобы он не лежал неизвестно где. Мы хотим, чтобы война скорее кончилась, потому что это очень большое несчастье и ничего из нее не получится, кроме смерти таких же испанских юношей, как наш Альфонсо. Дедушка вас обнимает, а я крепко целую. Возвращайтесь скорей».
Дядя Альфонсо приехал утром вместе с грязным и заросшим щетиной человеком в форме иностранного легиона, у него была ранена рука, нога, а лицо почти все обвязано бинтами. Он должен был остаться у нас в качестве ближайшего помощника или мажордома дяди. Он сказал дедушке, что моего бедного брата оставили в морге на кладбище и что надо похоронить его немедленно. Дедушка позвал меня и спросил, хочу ли я пойти с ними на похороны, и я сразу же ответил, что хочу, хотя не был уверен, хочу ли я этого на самом деле, ведь я никогда не видел покойников и думал, что я испугаюсь, если увижу брата мертвым. Но я не испугался.
Дня через два или три дедушка снова позвал меня и отдал мне письмо, которое мы с ним написали. И с тех пор прошло два года, пока мои родители узнали, что случилось с их старшим сыном.
* * *
Спальня, в которой прежде жили дедушка и бабушка, а еще раньше – прадедушка и прабабушка и в которой должны были жить, но так никогда и не жили мои родители, была закрыта примерно через полтора года после свадьбы Клары и Альфонсо, и с тех пор там никто не обитал, кроме разве… но это к делу не относится. Таким образом, к остальным запертым комнатам, омрачавшим особняк моих предков, прибавилась еще одна. Какие неразрешимые загадки, какие духовные взлеты и падения крылись за этими жестоко захлопнутыми дверями! Ведь на массивном ложе, застланном кружевным бельем голландского полотна, родились все десять поколений нашего рода, вплоть до дяди Альфонсо. Сколько крови и сколько жизни! Я думаю, что за этой дверью крылось нечто чрезвычайно важное. Ведь потом ничего не было – просто чистая страница для долгого, как сам мир, жизнеописания, словно кого‑то прельщала возможность всегда иметь под рукой нечто для создания ex nihilo[29]29
Из ничего (лат.).
[Закрыть] совершенно новой и лучшей истории, словно так просто оставить в стороне самые глубинные корни нашего существования и не задуматься ни на минуту о том, что, вероятнее всего, в подобных определениях уже таится зародыш нашего саморазрушения на веки вечные.
А истина, ясная и понятная, заключалась в том, что свадебное путешествие вопреки заверениям молодоженов прошло очень неудачно. Едва они пересекли границу, как попали в смерч, опустошавший Европу в течение почти шести лет, и маршрут их состоял в поисках какой‑нибудь лазейки, через которую они смогли бы попасть в Берлин, мечта о котором и подвигла их на такое отчаянное путешествие. Армия вермахта, обессиленная, разбитая – никакого сравнения с тем, что было шесть лет назад! – отступала по всем фронтам под несомненно победоносным натиском союзников, и полная катастрофа, казалось, витала, как стервятник, в ожидании подходящего момента, чтобы обрушиться на город их мечты, священную столицу третьего рейха. И со дня своего печального возвращения в отчий дом Альфонсо, с каждым днем все более подавленный по
1
стоянно нараставшими трагическими событиями, во всех разговорах о войне упорно твердил, что Испания должна была открыто стать на сторону держав оси, вместе с ними сражаться с общим врагом, ибо разве не были мы обязаны помочь братской Германии, если у себя мы разбили красных и спасли Мадрид? Помимо всего прочего – и это было для него немаловажно, – история не простит нам черной неблагодарности: «…испанцы всегда показывали образцы рыцарского поведения как с друзьями, так и с врагами, а что теперь, а что теперь?» Подолгу могли они предаваться подобным глубокомысленным умозаключениям, и по – разному складывались их беседы, но, видимо, только этот вопрос занимал их по – настоящему, потому что они всегда возвращались к нему, и всегда именно мой дядя – несчастный неврастеник! – поворачивал разговор на эту тему, кружа возле вонючих мусорных куч, мешавших ему обрести вожделенный Берлин. Священник, полковник и сама сеньора Вальмаседа (с помощью своей непреклонности и обилия грима этой гротескной особе почти удавалось скрыть свой возраст) пылко поддерживали моего дядюшку, один лишь начальник коллежа несколько не сходился с ними во мнении, что вовсе не означало пренебрежительного отношения с его стороны к исконным и непревзойденным добродетелям испанского народа. Наш монах просто не забывал о тех опасностях, которые повлекли бы за собой подобные действия, а в таком случае наша любимая родина могла бы – и это более чем вероятно! – роковым образом попасть в лапы масонов и либеральных демократов, «и мы не имели бы возможности спокойно сидеть и беседовать, друзья мои, а так хотя бы Испания спасена». Тогда сеньора Вальмаседа и полковник одновременно принимались взывать к чести испанцев, которые никогда не бежали от величайших опасностей и не покидали своих друзей в беде, и оба упорно твердили, что «Альфонсито совершенно прав», а дядя мой подкреплял свои доводы, настаивая на том, что тогда все пошло бы иначе: «Но, сеньоры, ведь великие вожди остались бы живы и их народы не катились бы по наклонной плоскости к вырождению и варварству». Упрямо, словно повредившись в уме, Альфонсо повторял, что этого не может быть, не может быть, имея в виду смерть Гитлера, известие о которой – хотя и не совсем понятное, но совершенно достоверное – пришло через несколько недель после неудавшегося путешествия в Берлин. «Не может быть, не может быть», – говорил он снова и снова. В общем, он погрузился в глубокое уныние, которое и привело к тому, что он поклялся не выходить на улицу, пока Берлин изнывает под большевистским сапогом.
Обет свой, принесенный в такой форме и по упомянутым причинам, дядя Альфонсо не нарушил: до самой смерти он действительно ни разу не вышел из дому и даже пе присутствовал в соборе на торжественной панихиде по обо жаемом усопшем фюрере. Надо сказать, что трагическое затворничество Альфонсо разделяла и Клара: естественно, по совершенно иным основаниям, но она тоже не могла больше видеть улицы и людей и в конце концов перестала с кем‑либо общаться и разговаривала только со своей личной горничной.
По слухам, дед и его брат никогда, даже в детстве, но любили друг друга, потому что причина раздора родилась вместе с ними, несмотря на то что имущественные интересы в этой распре роли не играли: они были близнецы, и их отец, очень здраво рассудив, решил поделить свое состояние точно пополам, чтобы хоть наследство не вызвало ссоры. Однако их характеры, удивительно похожие, легко приводили к столкновениям из‑за любых пустяков. Если один объявлял себя сторонником Альфонсо, другой тут же становился атеистом; если один стремился заслужить репутацию рьяного католика, другой спешил показать себя скептиком и даже атеистом. Говорят, что их соперничество достигло высшей точки из‑за моей бабушки, в которую оба якобы безумно влюбились, хотя теперь это проверить невозможно. В общем, в один прекрасный день братья подрались так свирепо, что оба оказались серьезно ранены: брат моего деда – кинжалом, и пятнадцать дней его жизнь висела на волоске, а у моего деда была камнем проломлена голова, и шрам от этого удара на всю жизнь обезобразил его лоб. С тех пор прошло более сорока лет, и все это время дедушка и его брат старались держаться по возможности дальше друг от друга, взаимная ненависть, видимо, была одинаковой с обеих сторон, и они никогда не упускали случая выказать ее на людях.
Поэтому, я думаю, дед пришел в ярость, когда Альфонсо объявил, что женится на своей кузине Кларе, дочери заклятого дедушкиного врага, и грозил лишить дядю наследства, хотя, что бы он ни предпринял, это уже было не в его власти, поскольку в отсутствие моего отца и при легкомысленном попустительстве Либерио Альфонсо успел устроить так, что de facto[30]30
Фактически (лат.)
[Закрыть] стал главным наследником и никакие угрозы и даже документы не смогли бы разрушить юридические козни, в которых ему так кстати пришлась неоценимая поддержка его влиятельных знакомых из политико – административных кругов. Деду, ничего об этом не знавшему, не помогли ни угрозы, ни лежащий на поверхности и неопровержимый довод – близкое родство, которое действительно существовало, однако это затруднение Альфонсо предвидел и устранил с помощью церковных властей. Бедный дедушка ничего не мог поделать. Как только они обговорили и согласовали будущее ребенка (то есть мое), единственного сына Матиаса, которого все‑таки нельзя было покинуть на произвол судьбы, ярость старика сменилась полным смирением, и Альфонсо победил целиком и полностью. С тех пор дедушка словно лишился языка, и его часто видели хнычущим, как ребенок. С каждым днем он все больше волочил ноги, а руки у него стали дрожать так сильно, что ему даже ложку подносить ко рту было трудно, и он часто опрокидывал еду на себя, а потом подолгу ходил в замызганной одежде – ведь о нем вспоминали разве только затем, чтобы пожаловаться на этого омерзительного старика, которого все же приходится терпеть. Не знаю почему, но я всегда был уверен, что жуткая мысль поместить его в приют для престарелых исходила от Сегунды.
У бедняги уже не оставалось никакой воли, когда встал вопрос о моей матери. Для любого, у кого билось в груди хоть какое‑то сердце, было бы очевидно, что мой вопрос, уже согласованный, как я говорил, неотделим от вопроса о моей матери, но дядя Альфонсо думал иначе по причинам, которые в те времена были выше моего понимания. Ни к чему не привели и доводы дяди Либерио, который на этот раз действительно выступил на защиту жены своего брата, ведь брат же он был, а не посторонний и не зверь. Ничего не дали и многократные попытки воззвать к родственным чувствам, потому что он упорно выдвигал, помимо прочего, главный аргумент – смерть несчастного Альфонсито, которого могла настигнуть пуля, выпущенная его отцом с той стороны линии фронта, а такое чудовищпое преступление, естественно, влекло за собой разрыв всех че ловеческих и священных уз. И у него нет никаких обязательств перед женщиной, которая, возможно, и несет полную ответственность за то, что человек, бывший некогда его братом, свернул с пути истинного. Вопрос исчерпан.
Вот так и случилось, что моя мать оказалась разлученной со мной, и на это она согласилась для моего же блага, так как сама, живя у сестры, вынуждена была зарабатывать мытьем полов, чтобы хоть как‑то перебиваться, и ясно, что в таких условиях она не в состоянии была обеспечить все те преимущества, которые предоставляла мне щедрая поддержка нового хозяина особняка.
Этим июльским утром тысяча девятьсот шестьдесят первого года стоит удушливая жара. Дом раскален как никогда. Тишина густая, как желе, а стрекотание цикад в большом патио, прогникающее сквозь толстые стены, делает ее еще безнадежнее. Зной настолько невыносим, а стрекотание сумасшедшей цикады настолько пронзительно, что непонятно, то или другое хуже, и постепенно приходишь к мысли – а вдруг в этом и есть вся действительность. Я мог бы выйти на улицу, к бассейну, куда‑нибудь на воздух. В то же время я спрашиваю себя, зачем я здесь, почему пришел сюда – нелепый поступок: в этом мрачном доме нет никого и ничего, реально связанного со мной. Я медленно снимаю с себя одежду и стою голый у настежь открытого окна. Занавеси, листва, даже воздух застыли в почти невероятной неподвижности. Я думаю, что прошло много лет, столетий, а все остается по – прежнему, словно время остановилось в те далекие дни войны или в первые послевоенные годы: тот же знойный, бездушный город, та же серая и мрачная, как склеп, улица, комната… Все то же, то же, то же. Неизвестно, что держит меня здесь, перед окном, точно я – замершее от стужи дерево без единой птицы, точно я тот, прежний мальчик. Это не так, но я все равно не могу шевельнуться, даже сигарету достать не могу, а мне уже давно хочется курить. Наконец я лениво встаю со скрипучего, точно измученная отложением солей старуха, стула, иду к комоду, мое потное тело отражается в зеркале, и я ничего не ощущаю – только жару и стрекотание цикад. А вот и Сердце Иисусово на бумаге, которая определенно была синей, а теперь стала блеклой и мятой, словпо хотела показать: если бы время измерялось морщинами на бумаге и даже на нашем лице, то его бы не суще ствовало вовсе; но нет, оно действительно остановилось для Сердца Иисусова, для комода, на зеркале которого проступили пятна от облетевшей амальгамы, для стула, который стонет, как и прежде, для кровати, которая пахнет подгнившей айвой или смертью, и для деревьев в патио, и для распятия на стене над золоченой спинкой кровати, и вот было бы чудо, если бы я вдруг обнаружил, что вся моя жизнь вне этого дома – всего лишь неосуществимый и пеосуществившийся сон. Мне бы надо уходить, пора – а почему пора? – пока никто не узнал, что я вчера взял свой ключ и вошел, а ведь сколько месяцев прошло с тех пор, как я был здесь последний раз… Но пет, глупости, все это из‑за жары, хотя вовсе ничего не значит, что я их не видел, они же знают все, несмотря на то что вечная домоправительница вроде бы ничего им не сообщает. Я наконец закуриваю и начинаю одеваться, мечтая о стакане холодного пива.
Не знаю, сколько времени я брожу среди теней, тут и там прорезанных острыми лучами солнца, проникающими иногда непонятно откуда, я вновь открываю всякие мелочи, большие и маленькие тайны своего детства, запрятанные в каком‑то углу, за какой‑то дверью, в складках занавески и даже в глазах призрачных картин, висящих на стенах, как лохмотья прежде блестящих и богатых нарядов. Вдруг я вижу, что по коридору спешит какая‑то взволнованная, необычайная фигура; я пытаюсь понять, чья это тень – ведь это же тень, а не человек останавливается, поднимает на меня водянистые глаза и спрашивает, где дон Альфонсо. Я пожимаю плечами и, ошеломленный, внезапно узнаю суровое лицо де Томаса, теперь уже генерала, ръежившегося, плоского в своем обтрепанном мундире. Легкими шагами приближается Сегунда, решительно берет его за руку, смотрит на меня и сухо произносит: «Сеньорите, обед будет подан через десять минут в соответствии с извечными правилами дома», несомненно, это означает, что я должен идти мыть руки. Сегунда и старый генерал в отставке исчезают за моей спиной. И тут я понимаю, что колокольчик больше не сзывает к обеду, и думаю: кое‑что все‑таки меняется, с каждым днем жизнь становится иной.
Я сижу на своем обычном месте и смотрю на эти, ныне смешные призраки, которые напоминают прежние страшилища только легкими, едва заметными, изредка проступающими чертами. Стул Либерио пуст, он даже покрылся толстым слоем пыли оттого, что им никто не пользуется.
А вот и глава семьи – выглядит он так, словно его вот – вот хватит удар, и, конечно, он желт, как пергамент; Клара мертвенно – бледна, от нее исходят волны сладковатого запаха, заполонившего все кругом; Педро Себастьян, еще больше скрючившийся и изувеченный, молчаливый и страшный в своем углу; Сегунда, верная себе; и, конечно, старый вояка, он несколько успокоился и все повторяет «не может быть, не может быть», теребя волосы на груди прозрачной и узловатой, как виноградная лоза, рукой. Альфонсо спрашивает: «Вы уверены в том, что говорите?» По-моему, старик не слышит и трясет головой без всякой связи с вопросом. Он говорит: «Не может быть, не может быть». Мой дядя, кажется, успокоился, уверившись, что в печальном известии сомневаться не приходится, и в то время когда раздается едва слышный вздох Клары, приказывает Педро Себастьяну петь, петь так громко, как он может. Сегунда велит подавать обед. Кажется, никто не заметил моего присутствия, и я снова думаю, что жизнь все‑таки изменилась.
Все ушли, и я остался один в большой столовой. Я гляжу на служанку, которая убирает нетронутые тарелки, сложенные салфетки, чистые приборы. Я ошеломлен и погружен в море сомнений. В ушах у меня звенит по – прежнему хриплый голос, бессмысленная и громогласная насмешка легионера. Из их напряженного и прерывистого разговора я узнал только несколько минут назад, что священник прислал служку, который сообщил им, как сожалеет монах о том, что не мог исполнить своего намерения прийти к обеду, но он очень плохо себя чувствует и потому вынужден лечь в постель, так как у пего высокая температура, и она продолжает подниматься, а это тревожит врача и самого священника, поскольку здоровье его и так расстроено. Я встаю из‑за стола и выхожу в коридор, когда в комнате появляется Сегунда. Я хочу как можно скорее покинуть этот сумасшедший дом, его обитателей я уже не понимаю. И пока я иду по длинному коридору, я вдруг сознаю, что не слышу больше стрекотания цикады и совершенно не ощущаю жары. По всему моему телу пробегает озноб. Я останавливаюсь перед открытой дверью большой спальни. В эту комнату я никогда не входил, и у меня сжимается горло, когда я, чуть ли не почтительно, толкаю створку двери. Три больших полосатых кота – неужели прежние? – бросаются врассыпную, а потом замирают и не сводят с меня глаз. Мне кажется, что они в любой мо – мент могут броситься и вцепиться мпе в шею. «Садись, сынок», – говорит дядя Альфонсо. На голове у него осталось мало волос, руки дрожат, большой живот странно выглядит в сочетании с костлявым лицом, на котором глаза словно провалились в бездонные колодцы. Я сажусь и спрашиваю: «Как ты себя чувствуешь, дядя?» – «Сам видишь, сынок». – Голос его словно исходит из металлического кувшина. Мы долго молчим. Искоса я разглядываю дряхлую обстановку этой комнаты, о которой столько размышлял в прежние времена: высокую, огромную кровать резного дерева, чуть ли не метровое распятие, старый комод, прежде служивший умывальником, таз с отверстием посередине, овальное подвижное зеркало, тронутое желтизной, прелестную мыльницу тончайшего синего фарфора с несколькими кусочками древнего мыла и неопределенного цвета полотенце, бахромой которого играют неутомимые коты. До меня словно издали доносится металлический голос старика, которому нет и пятидесяти: «Ну, что скажешь? Раньше казалось, ничто никогда не изменится, правда? А вот оно как бывает: бедный дон Андрес умер от старости, генерал, из‑за возраста, не переносит никаких сильных чувств, донью Энрикету, добрую донью Энрикету, уже больше десяти лет гложут могильные черви, Либерио, неблагодарный, связался, как последний негодяй, с отвратительной богемой, а я… что до меня, ты сам все видишь. Всему конец, сынок, всему конец. Я только спрашиваю себя: зачем мы столько боролись?» У него срывается слеза и падает рядом с незастегнутой ширинкой брюк. Я вдруг понимаю, в каком он жалком состоянии, и меня охватывает гадливость. «Да что случилось, дядя Альфонсо?» Молчание. Но потом, правда, он отвечает: «Русские навеки погубили Берлин, генерал мне сказал, что большевистские свиньи построили стену в самом сердце Берлина».
Я снова остаюсь один. Дядя Альфонсо в сопровождении трех полосатых котов выходит из спальни, шаркая шлепанцами. Несколько мгновений спустя вдалеке с вагнеровской мощью разражается скандал.
Меньше чем через год после свадьбы стало совершенно ясно, что между новобрачными, двоюродным братом и сестрой, не все ладно. Характеры у обоих портились со дня на день, они часто ссорились, и в большинстве случаев по пустякам, так что нетрудно было понять – какая – то тайна постепенно и неотвратимо нарушает их согласие. Конечно, Либерио, с присущей ему редкой чуткостью, первым проник в суть супружеских недоразумений, коротко заявив, что «либо Альфонсо не исполняет предписанного богом, либо милая кузина равнодушна к радостям бытия». Эти слова, брошенные мимоходом, ничего мне не объяснили, а только еще больше заинтриговали, и если бы не постоянные насмешки, на которые в доме никто не скупился и к которым я прислушивался как можно внимательнее, мое детское любопытство не помогло бы мне узнать истину. В течение долгих недель в определенные дни, которые все уже знали заранее, Альфонсо громогласно объявлял, что наконец‑то господь дарует им величайшее благо, а именно наследника Берлина, а затем, оживленный и сияющий, как мальчишка, приказывал Педро Себастьяну петь в ознаменование этого события. Эти шутовские выходки повторялись с такой математической точностью, что даже я, используя уроки Либерио, мог с достаточным успехом предсказывать дни, когда мы будем обедать под песни Педро Себастьяна. Но наследник не соизволял объявляться, и плоский, как сухая доска, живот Клары не менял своих очертаний. Но однажды в столовой собралось осо бенно много народу. Альфонсо велел застелить стол новой скатертью, выставить цветы и батарею бутылок лучшего вина. Либерио наклонился ко мне и, едва сдерживая смех, прошептал: «Сегодня опять будет музыка, племянник». По – моему, за столом собрались все: донья Энрикета, которую в тот день сопровождала внучка примерно моего возраста – она была худа как палка и так сурова и безобразна, что от бабки ее отличал только цвет платья; полковник де Томас, надувшийся, словно индюк, в своем мундире, до невозможности обвешанный сверкающими знаками различия и наградами; оба священника, которые, точно по уговору, сияли улыбками и отпускали дурацкие шуточки – по их мнению, забавные; гражданский губернатор, о котором говорили, что он самый важный компаньон моего дядюшки в его темных делишках с маслом и сахаром; несомненно разделявший неприкрытое ликование хозяина управляющий, чьи глаза в редкие минуты, когда он снимал свои вечные темные очки, меняли цвет с такой скоростью, что определить его было почти невозможно; пыжащийся Педро Себастьян, напяливший на себя новую форму, подаренную ему дядей по столь торжественному случаю; и конечно же, как всегда на своем месте и при исполнении своих обязанностей восседала Сегунда, чье черное платье, хотя и не было длинным, казалось, закрывало ее до пят – она выглядела в нем театрально и устрашающе. И разумеется, присутствовала счастливая супружеская чета: он, как уже говорилось, был доволен, словно ребенок, и паясничал, будто клоун в цирке; она же, наоборот, казалась серьезнее, чем обычно, и слегка напуганной. За ее спиной стояла, как на часах, горничная, которая изредка и очень осторожно клала ласковую руку на холодное встревоженное плечо Клары, словно защищая ее от бог весть каких опасностей. Либерио снова наклонился ко мне и сказал: «Что угодно прозакладываю, сегодня не только о наследнике речь пойдет, мы сразу и крестины отметим». У моего дядюшки и правда был глаз художника. Едва он договорил, как Альфонсо встал и напыщенно произнес: «Друзья мои, я зиаю, что не принято начинать обед с тостов, наоборот, их оставляют на конец трапезы, но в этот торжественный день вы, я надеюсь, простите мне незначительное отступление от правил, так как я желал бы сообщить вам причину, побудившую меня собрать вас за этим столом, дабы вы разделили переполняющее меня и мою супругу счастье». Воцарилась тишина, насыщенная всеобщим нетерпением. Либерио шепнул мне: «А он недурно говорит, твой дядя, не правда ли, племянник?» Альфонсо медленно поднял свой бокал и, нежно глядя на жену, заговорил: «Дорогие друзья, наследник Берлина уже есть!» И тут, вместе с первыми шумными поздравлениями, раздался крик Клары; она вскочила с искаженным лицом, крикнула: «Ты свинья!» – и, потеряв сознание, упала навзничь, так что даже проворная служанка не успела ее поддержать. Сегунда с молниеносной быстротой хлопнула в ладоши, появились еще две служанки, они подхватили Клару и понесли ее в супружескую спальню. Торопливую и бесформенную процессию замыкала всхлипывающая горничная. «Это реакция», – сказал Альфонсо, и торжественный обед продолжался как ни в чем не бывало.
Чем глубже и шире разверзалась пропасть между Кларой и Альфонсо, тем больше становились они похожими друг на друга – разумеется, из‑за связывавшего их и до Женитьбы родства. Так, Альфонсо, казалось, заимствовал У своей кузины и жены бледность лица и пристальность болезненного взгляда, а Клара приобрела от своего кузена и мужа выступающие скулы, таинственную глубину глаз и высокомерную складку его тонких губ, что при мистических наклонностях можно было бы истолковать как божыо кару и неизбежное следствие проклятия обоих отцов.
Одним словом, счастье покинуло дом, и даже раньше, чем была заперта спальня – формально по приказанию Альфонсо, но, вероятней всего, по решению Клары. С этого рокового момента все ощутимее становилось, что за день Альфонсо проживал, казалось, не один, а десять, двадцать дней, он перестал следить за собой и за одеждой, что было тревожпым знаком и наводило на мысль: уж пе теряет ли он рассудок? Клара по целым дням оставалась с горничной у себя в комнате, выходя только к обеду. Альфонсо же разговаривал с тремя своими котами обо всем на свете, о другом Берлине, который, как и тот, прежний, мог оказаться на грани катастрофы, с чем следовало бороться всеми средствами, о вере в господа бога, который не покинет священный град и в конце концов поможет его спасению. Альфонсо тоже проводил почти весь день в своей личной крепости, целиком уйдя в собственные прошлые, настоящие и будущие неудачи и успехи. Очень любопытно было наблюдать за передвижениями Альфонсо по дому – его печальное существование протекало на таком незначительном пространстве, что создавалось впечатление, будто перед вами человек запуганный, загнанный, исполненный всяческих предубеждений. Так, например, часть дома Либерио с присущей ему точностью окрестил «границей» или «Бранденбургскими воротами». Он был убежден, что по эту сторону линии находился Берлин в собственном смысле слова, а но ту сторону – восточный, или коммунистический, от которого «избави нас, господи, аминь!». Однако настало время, когда именно эта часть дома словно околдовала истерзанного Альфонсо, его часто заставали там, перед двумя дверьми, одна из которых вела по лестничным тропам на заброшенный чердак, где прятались многочисленные и не иссякающие чудеса, вторая же – в глубины старого дома, где Либерио устроил себе скульптурную мастерскую. Словно в отупении, Альфонсо надолго застывал перед «тайной», несомненно, сливавшейся в его сознании с неопределенным будущим, которое постигнет Берлин без наследника. Эта мысль вызывала у него конвульсии, сопровождавшиеся бессвязными нелепостями, ко – торые он, скуля, выкладывал перед своей кошачьей аудиторией. Впрочем, продолжалось это недолго, и Альфонсо вновь обрел разум, хотя нельзя не отметить, что после этой депрессии в душе у него, словно разбойники в засаде, остались навязчивые представления. Так, он полагал, что чердак и подвал заселены множеством диких животных, которые по ночам подходят к дверям и в долгие предрассветные часы непрерывно ломятся в нее, подхлестываемые голодом и тьмой, хотя иной раз он говорил, что ночью был внезапно разбужен упорными глухими шумами в подвале, совершенно не похожими, по его мнению, на привычное знакомое царапанье зверей по дощатой двери, и что, должно быть, какие‑то призрачные рабочие ведут там, в подвале, подкоп. Напрасно мы заверяли его, что ничего не слышали ни днем, ни ночью. По – видимому, эти ночные шумы мучили его постоянно, ибо спал он, как говорили, все меньше и меньше, а в последние годы жизни и вовсе лишился сна. Будучи сам не в состоянии исследовать воображаемый мир за Бранденбургскими воротами, он настойчиво приказывал Сегунде этим заняться, однако без толку: старая служанка не сообщила ему ничего такого, что он счел бы удовлетворительным объяснением.








