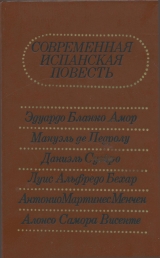
Текст книги "Современная испанская повесть"
Автор книги: Алонсо Самоа Висенте
Соавторы: Эдуардо Бланко-Амор,Луис Альфредо Бехар,Мануэль де Педролу,Антонио Мартинес Менчен,Даниель Суэйро
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 34 страниц)
Но вот все расплывается, и я не знаю, было то воспоминание или сон. Внезапно шпага вновь появляется, по ней непрерывной струей течет густая красная кровь; у моих ног лежат женщина и ребенок с удивленным лицом моего брата, а мужчина, еще живой, словно с тоской молит меня о чем‑то, вскинув руку; его глаза вдруг наполняются прозрачным пеплом и закрываются, и мужчина нежно приникает к женщине, точно обнимая ее. И больше ничего. Все остальное тонет в непроглядном тумане.
Я думаю, что он, как и дядя Альфонсо, мог вообще не ходить на эту грязную войну. Либерио заставляет меня посмотреть себе в глаза и говорит, что я несправедлив, что у него есть основания сказать это, что я несправедлив, очень несправедлив. Не знаю, то ли потому, что впечатление уже ослабло, то ли потому, что этот разговор по-другому кончить нельзя было, но Либерио рассказывает что‑то для меня непонятное о том, почему мой отец воевал на стороне республиканцев, мол, это был просто его долг перед самим собой, а самого Либерио мобилизовали франкисты. Он говорит мне о том, что у него никогда не было никаких политических убеждений, и он совсем не считает, что Испания в опасности, и никогда он не чувствовал такой приверженности к каким‑либо духовным или материальным ценностям, чтобы из‑за них стрелять в кого бы то ни было. Но его призвали, и ему пришлось пойти. Либерио сказал мне, что одно ясно: отец и он сражались по разные стороны линии фронта и оба они потерпели поражение, чтобы победили те, кто сидел в засаде и вел свою войну рядом с ужасающей бойней. Он этого не говорит, но мне кажется, что он имеет в виду своего младшего брата. Потом он замолкает и улыбается. Несколько минут спустя он спрашивает, представляю ли я себе, о чем его спросили в первую очередь в Саламанке[31]31
Во время войны правительство, сформированное Франко, находилось во главе с ним сначала в Бургосе, а потом в Саламанке.
[Закрыть], и, поскольку я отрицательно качаю головой, говорит, что в первую очередь его спросили, ел ли он детей и монахинь, потому что они считали, будто в их городе убили много детей и монахинь, мясо которых продавали в лавках «милисиано» из марксистских орд, а когда Либерио воскликнул, что опи городят чушь, ему ответили, показав фотографии в газетах, на которых, по его словам, действительно были видны тела мертвых монахинь и маленьких детей в витринах.
Либерио становится совершенно серьезным, и я спрашиваю его, почему дядя Альфонсо, который старше моего брата, не был на войне. Либерио молчит, он поднимается с табуретки, делает несколько шагов и говорит, что хочет слепить мой портрет для потомства на случай, если я стану великим человеком, и добавляет: «Когда ты будешь великим человеком, портрет этот станет таким же известным, как ты, и я смогу утешаться тем, что все‑таки оставлю нечто ценное после себя в этой свинской жизни – свою подпись под твоим бюстом, а если все как следует взвесить, то, пожалуй, надо сделать с тебя несколько скульптур – в фас, в профиль с одной и с другой стороны, поясной портрет, портрет в полный рост… Как тебе кажется?» Он взбудоражен и смеется как сумасшедший. Потом хватает блокнот и начинает рисовать. Он повторяет: «Сиди спокойно, сиди спокойно». И я сижу спокойно, как мне кажется, с идиотской улыбкой, которая застыла на моих губах.
Начиная со свадебного путешествия Клары и Альфонсо, когда Либерио впервые свел меня вниз, обхватив рукой, я зачастил в эти таинственные глубины дома, иногда с ним вместе, а иногда один, и по крайней мере в те времена я мог утверждать, что там не было ничего, что оправдывало бы глупые страхи обитателей верхних этажей. Да, там на самом деле было огромное количество крыс, которые даже днем, при людях, выбирались из своих пор и спокойно разгуливали среди всякого хлама. Но, несмотря на это, там очень легко дышалось и возникало приятное ощущение, что находишься в совсем другом мире. Тут можно было разговаривать со скульптурами Либерио, петь, наслаждаться солнцем и цветами, распускавшимися на растениях, за которыми никто не ухаживал. Заброшенность этого места окутывала все благословенным романтическим флером, который предохранял от любой грязи, и человека охватывало чувство, что здесь он любовно защищен от всех бед, действительных и воображаемых. Здесь был дворик – намного меньше, чем тот, другой, – с водоемом посредине, вокруг которого сами по себе росли густые и очень зеленые вьюнки. Его окружали три стены, а с четвертой стороны был большой и темный портик, где Либерио работал или просто коротал время в одиночестве. Здесь начиналась лестница, которая вела в самые разные уголки, в том числе и к Бранденбургским воротам, и была еще дверь в комнатушку, где Либерио поставил себе сломанную кровать, старое кресло и этажерку с двумя – тремя дюжинами книг, поэтических и прозаических. Однажды Либерио прочитал мне стихи, которые навеки врезались мне в память:
Если бы из моей жалкой судьбы
Такое сильное пламя любви зажглось,
Чтобы поглотить смерть,
И поднялось еще выше,
Чтобы загорелись воды моря;
И если бы потом
Наполнило три машины
И так испепелило бы их,
Чтобы в себя их обратить,
И все это было бы пламенем любви.
Не думаю, что я мог бы,
Судя по той жажде любви, которую ощущаю,
Любить так, как мне бы хотелось,
Даже этот огонь не смог бы
Удовлетворить мою жажду хоть на минуту.
Потом он сказал: «Я тоже человек, у которого страшная жажда, жажда всего», и разразился своим смехом святого или блаженного.
Поднявшись на четыре ступеньки, ты оказывался в настоящем лабиринте сырых и темных комнат, по которым разгуливали полчища крыс. Их глазки вспыхивали в сумраке, слышался топот маленьких лапок. От прежнего блеска остались лишь траурные свидетели. В воображении легко возникали горячие скакуны, царствепное великолепие экипажей. Все вокруг было пропитано запахом слежавшейся соломы, который мне очень нравился. В этом крыле были отдельные ворота, через них въезжал старый «ситроен» Овидио и проскальзывал по ночам Либерио, когда возвращался домой в сопровождении какой-нибудь девицы. Вся мастерская была забита этими девицами, которых Либерио запечатлевал, чтобы они замерли в спокойствии гипса как неопровержимые свидетельства его многочисленных увлечений. Он иногда описывал мне их, проводя экскурсии по своему музею, придерживаясь то хронологического порядка, то памяти сердца. Среди них одна особенно привлекала мое внимание, быть может, потому, что она не утратила исключительного значения и для Либерио, который однажды рассказал мне о ней с глазами полными слез, но она привлекала мое внимание в основном потому, что это была только голова, и мало того, голова неоконченная, на которой глаза были едва намечены, даже губы, улыбавшиеся исполненной печали улыбкой, скульптор отделал не до конца. «Эта женщина – несбывшаяся мечта моей жизни», – говорил Либерио. Я спрашивал его, почему она не сбылась, а Либерио тер глаза и отвечал: «Потому что прекрасное не сбывается».
Я уже некоторое время ходил к Либерио позировать для портрета на случай, если я стану великим человеком, когда однажды, стоя на последней ступеньке перед мастерской, почувствовал, что мы не одни. Какой‑то человек, примерно одних лет с моим дядей, лея «ал на сломанной кровати и что‑то говорил так тихо, что невозмояшо было разобрать ни одного слова. Когда я вошел, он замолчал и Посмотрел на меня голубыми, как небо, глазами. Либерио велел мне войти и закрыл за мной дверь. Незнакомцу он сказал: «Не волнуйся, это мой племянник, ему можно доверять». Потом он задал мне вопрос, завтракал ли я, а когда я ответил, что поел в коллеже, велел опять подняться наверх и попросить чего‑нибудь перекусить, сказав там, что я голоден, и принести сюда все, что дадут мне на завтрак. Не говоря ни слова, но странно довольный тем, что оказался вовлеченным в необычное приключение, я поднялся в кухню и, никого не затрудняя просьбами, схватил большой кусок колбасы, побольше фруктов со стола перед окном и большую ковригу хлеба. Все это я принес в мастерскую и отдал прямо незнакомцу, а потом вышел вслед за Либерио, который позвал меня. Закрыв дверь в свою комнатенку, он велел мне сесть на место, снял тряпку с моего портрета – пока еще это была куча глины – и начал молча работать, изредка взглядывая на меня глазами художника, поглощенного творчеством. Я не шевелился и не заговаривал, с нетерпением ожидая, когда же оп что‑нибудь скажет. Так прошло около часа. Стемнело, и Либерио накрыл тряпкой кучу глины, потом осторожно приоткрыл дверь и сразу же закрыл ее. Усевшись под старым абажуром, в котором очень белым светом сияла лампочка, сделал мне знак сесть рядом с ним. Он сказал только: «Это мой друг, у него три дня крошки во рту не было, а сейчас он заснул». И погрузился в пол ное молчание; я совсем отчаялся узнать что‑нибудь и поэтому через несколько минут спросил, в чем же дело. «Понимаешь, племянник, – сказал он, – моего друга ищут, некоторое время он будет полностью зависеть от нас; здесь он будет в полной безопасности, если мы с тобой никому не скажем ни слова и позаботимся о еде для него; что он сделал, нас не касается, но я уверяю: он хороший человек, никого не ограбил и не убил. Ну, что скажешь? Спрячем мы его или сразу же вышвырнем отсюда?» Я не мог выговорить ни слова, но Либерио, видимо, что‑то понял по моему лицу и глубоко вздохнул, словно у него камень с сердца упал. Он проговорил: «Я знал, что ты меня не подведешь; сюда никто не ходит, и бояться нам нечего». Он протянул мне руку, снова заглянул в комнату, и мы пошли ужинать.
Рамон и вправду оказался удивительным человеком, по – моему, другого такого я не знал, хотя объяснить, чем вызвано такое убеждение, не мог бы. В течение шести месяцев, которые он провел у нас, они с Либерио часто говорили о войне и особенно о предвоенных годах, о людях, которых я не знал. Вечерами мы все трое вели долгие разговоры, и Рамон с пылом и верой, каких я никогда не видел, излагал свои взгляды, я бы сказал, мечты о том, как в Испании снова настанет свобода; впрочем, и у него бывали приступы тяжелой подавленности. В такие минуты Рамон просил нас оставить его одного, а так как это бывало не часто, Либерио и я преисполнялись решимости продолжать работу над портретом. Я уж не знаю, сколько раз приходилось Либерио начинать все сначала, потому что работа была заброшена, глина высыхала, трескалась и в конце концов рассыпалась. А вот точно я знаю одно: Либерио так никогда и не закончил мой портрет, и это по здравом размышлении могло означать только указание свыше о том, что великим человеком мне не стать.
Однажды, когда Либерио не было дома, мы с Рамоном о многом поговорили. Он сказал мне, что знает о моем отце от Либерио. На самом деле Рамон, по – моему, знал о нашей семье все, даже такие детали, которых я так никогда и не узнал, – знал, например, тайный смысл образа жизни, избранного Либерио. Он спрашивал о моих занятиях, о коллеже, и я рассказывал ему о всяких хитростях и подлостях наших наставников – монахов. И вдруг я спросил его, не надоело ли ему сидеть в четырех стенах столько времени, и он ответил мне, что не все время на ходится здесь, по ночам он покидает свое убежище и продолжает работу. Наверное, у меня при этих словах глаза стали как плошки, так как он засмеялся и объяснил, что, по правде говоря, выходил всего раза два, и то только за тем, чтобы размяться да подышать свежим воздухом. Тогда я уже знал, конечно, что Рамон занимается политикой, вроде моего отца, хотя, вероятно, его взгляды не совсем совпадали с отцовскими. Когда я понял, что его расстреляют, если схватят, у меня оледенела спина, а потом грудь и ноги. Но самым значительным в этот вечер, я уверен, было представление, которое он мне показал, чуть ли не оскорбленный моим недоверием. Возможно, чтобы оживить слишком печальные сумерки, Рамон стал рассказывать мне о странных отношениях, сложившихся у него с многочисленным крысиным населением, он уверял, что они очень подружились, и по ночам, когда он не мог заснуть, они часами беседовали о своих радостях и горестях, как братья, которые спят в одной комнате. Я считал, что он все это выдумывает, просто не мог поверить, во – первых, что крысы разговаривали, как ни убежден был в этом Рамон, а во – вторых, никак не способен был освоиться с мыслью, что холодными ночами, как он уверял, они ложатся к нему в постель и греют его. Я прервал его, в ярости вскричав: «Перестань городить глупости, я тебе не ребенок». Но он продолжал утверждать, что все это правда, их отношения, мол, установились на взаимовыгодной основе – ведь просто так никто ничего не делает, – а сам, взяв оставшийся кусок хлеба, начал издавать какие-то звуки и прищелкивать пальцами, подзывая крыс. И через несколько секунд – вот ведь диво! – из нор и самых неожиданных щелей стали высовываться крысиные мордочки; крысы замирали, возможно напуганные присутствием чужого человека. Во всяком случае, Рамон так понял и сказал им: «Не волнуйтесь, это мой близкий друг», и крысы начали подходить к нему дюжинами, сотнями, а может, и тысячами. Они карабкались по его ногам, по спине, устраивались у него на голове, а самые голодные накидывались на крошки, которые он держал на ладони, улыбаясь мне. Крысы тихонько попискивали, словно выражая дружеские чувства к Рамону, боялись оскорбить его слишком громким писком. Рамон все время что‑то говорил им, к некоторым обращался по именам, которыми сам их окрестил. Я же не мог опомниться от изумления и был настолько ошеломлен, что никогда никому об этом но осмеливался рассказать, так как не был абсолютно уверен, видел ли все это наяву или во сне. Я и сейчас думаю, что рассказу моему трудно, если вообще возможно, поверить, по так оно было, хотя я прекрасно знаю, что со временем некоторые давние воспоминания отдаляются от истины; по прошествии нескольких лет мы начинаем настолько идеализировать те или иные события, что попросту целиком пересоздаем их по собственному вкусу, полностью отбросив их настоящую первооснову. Возможно, жизнь и есть какая‑то толика биохимии плюс значительная доза совершенно выдуманного прошлого, которое постоянно помогает нам двигаться дальше. Он сказал: «Позвольте представить вам моего доброго друга», я робко ответил: «Очень приятно познакомиться», он попрощался с ними: «Ну, девочки, до скорой встречи», и крысы исчезли так быстро, что я не успел и опомниться.
Рамон, конечно, не представлял себе, во что это может вылиться, когда он уйдет от нас, и, должен признаться, я тоже не представлял.
Я уже говорил, что нижняя часть дома была Восточным Берлином, по в него я^е входил и чердак, находившийся, естественно, наверху, прямо под крышей. Таким образом, Восточный Берлин состоял из двух зон, соединенных лестничными тропами, одна из которых, уя; е знакомая нам, вела вниз и начиналась от двери в обитаемую часть дома, то есть в Берлин в собственном смысле слова, а другая вела вверх, на чердак, и брала начало от другой дверп, отстоявшей от первой на каких‑нибудь два метра. Следовательно, то, что носило имя Бранденбургских ворот, было двумя дверями, одна из них вела в подвал, а другая – на чердак. Там‑то и была настоящая зона смерти. Поднимались туда по изъеденным древоточцем ступеням, прогибавшимся под ногами, идти по ним надо было в высшей степени осторожно, и не столько потому, что они грозили провалиться, сколько из‑за спертого воздуха и затхлого запаха, от которого занимался дух и зажмуривались глаза, привыкая к сумраку. Либерио сказал мне, что никто не ходит на чердак, поскольку там навалены кучами наши предки, которых Сегунда засушивала по мере того, как они умирали, это было всем известно, но кому понравится сомнительное общество покойников? Сам Либерио иной раз поднимался наверх поболтать с одной прабабушкой, редкостной красоты женщиной, которая жила во времена короля Карла и умерла от любви, не осуществившейся из‑за низменных претензий. Внезапно перед тобой оказывалось огромное скопление тьмы, и собственное твое дыхание отдавалось во всех дальних и неизведанных закоулках, словно там дышало какое‑то огромное чудовище, вроде спящего дракона, который, вне всяких сомнений, должен был в этих местах обитать в давние времена. Когда глаза привыкали к этой непроглядной тьме, начинали вырисовываться очертания предметов. Издалека виднелся свет в чердачном окошке, выходившем на крыши. И тогда действительно ты ошеломленно начинал различать человеческие фигуры, которые вырастали перед тобой среди всех этих призрачных образов. Запах становился сильнее, словно ты подходил к его источнику. Через несколько секунд, проведенных неподвижно из опасения разбудить духов, ты начинал, все еще сдерживая дыхание, чуть – чуть передвигать ноги, стараясь возможно легче ступать по полу. Могло случиться, что эти страшилища тоже вот – вот зашевелятся, но ноги уже отказывались пуститься бегом. Да, так оно и было. Ты разглядываешь одну за другой эти фигуры, которые оказываются просто манекенами – большинство из них без головы, – наряженными в костюмы разных времен, цвет тканей невозможно определить под толстым слоем пыли. Манекенов много, и в слабом свете чердачного окна они образуют запутанную фантасмагорическую группу. Вот возвышается над всеми остальными высоченная фигура прапрабабки, которая умерла от любви. На ней длинное белое платье, кое – где еще поблескивает и вышивка, прапрабабка крива на один глаз, шея у нее искривлена, а пепельно – серое лицо прячется под вылезшим бесцветным париком. Теперь ты впервые вспоминаешь побасенки Либерио и улыбаешься, обретая столь необходимую уверенность в себе. Ты говоришь: «Сеньора, я у ваших ног; счастлив познакомиться с вами, господин генерал; целую руку, монсеньор» – и смеешься от радости, что открыл и завоевал неизведанную землю. Музей семейной истории, истинной или выдуманной, в котором сосуществуют военные, монахини, епископы, богатые землевладельцы, монахи, надменные дамы, томные девицы, которые, кажется, по – прежнему испускают глубокие вздохи, упрямые дети, глядящие на тебя из вечного покоя смерти, поэты, министры, сапожники, алькальды, убийцы, неудавшиеся торреро, сумасшедшие, пьяницы… Все это невероятно или кажется невероятным. Но вдруг ты правой ногой наступаешь па что‑то мягкое, и адская какофония кошачьих воплей нарушает колдовское очарование этого музея. Одновременно зашебуршилась сотня кошек, словно первый жуткий вопль, раздавшийся из‑под твоей ноги, оторвал их от мохнатых снов. Ты словно прилипаешь к полу, с испуганным лицом прислушиваясь к топоту сотен кошачьих ног, мечущихся во всех направлениях по огромному пространству, вновь погрузившемуся в первозданную тьму. С пола ударяет волна вони, теперь уже совершенно понятно, чем пахнет – оцепеневшими в летаргическом ожидании кошками. Кажется, они постепенно успокаиваются, хотя бесконечное пространство испещрено тысячами зеленоватых стеклышек, уставившихся прямо на тебя. Ты идешь к лестнице, которая снова выведет тебя к Бранденбургским воротам, об этом ты тоже никогда не расскажешь, ревниво будешь хранить про себя, чтобы над тобой не посмеялись. Как правильно поступает Либерно, придавая этим вещам невинный характер, чтобы они никого не могли напугать: как бы ни ужасна была фантазия, ее можно вынести, действительность же обладает способностью изничтожать нас вконец.
Однажды Либерно влетел ко мне в комнату, громко меня окликая; безумно расстроенный, вне себя, он спрашивал: «Ведь не ты это сделал? Ты же не мог, правда? Пойдем со мной!»
Я сбежал по лестнице вслед за Либерио, который спешил так, словно его подгоняли черти. Когда я оказался внизу, он, измученный, обессиленный, сидел на табуретке и плакал. Зрелище, представшее моим глазам, действительно было кошмарное. Отчаяние Либерио мне стало теперь совершенно понятным: кто‑то забрался в мастерскую, движимый трудно постижимым инстинктом разрушения, старательно покрыл ярко – синей краской белый гипс, исказив формы, обезобразив лица, забрызгав лепешками грязи гладкую кожу сияющих женщин. Охваченный горем, Либерио шептал ужасные слова: «Это не синий, это красный, кроваво – красный, меня убили…» Я сказал, просто чтобы хоть как‑то утешить себя и его: «Это не я; клянусь тебе, не я…» – «Я знаю, знаю…» – ответил он. Я спросил: «И поправить нельзя?» Он обнял меня необычно крепко, и я тоже расплакался. Прошло несколько минут, и Либерио сказал: «Все, довели меня, меня тоже довели, надо уходить из этого дома, да, я ухожу из этого проклятого дома».
Когда стало известно, что казнь Матиаса неизбежна, что она состоится в ближайшие дни и отсрочить ее нельзя, Либерио поездом отправился в Оканыо, где он мог пробыть только восемь часов, из которых всего два ему удалось провести с осужденным, да и то благодаря своему чину сержанта франкистской армии. Все это время братья молчали. Либерио задыхался и никак не мог задохнуться, словно в горле у него все же оставалась узкая щель, через которую еще проникал воздух; старший брат писал и улыбался, то ли никому, то ли всему человечеству. Как ни любили братья друг друга – а возможно, как раз поэтому, – но разговаривать они не могли. Словно им надо было сказать друг другу слишком много, и они понимали, сколь бессмысленной и опасной была бы попытка заключить свои чувства в темницу слов. Сказано было всего лишь: «Привет, Либерио! Как дела?», «Давно мы не виделись, брат», «Не переживай из‑за меня, я уже привык к мысли, что меня ждет самое страшное». И потом, в самом конце, еле слышно, словно из боязни нарушить крепкое объятье, оба вместе произнесли «прощай». И – последний взгляд. Либерио отдал мне письмо отца и сказал, что Матиас, его любимый брат, был хорошим человеком.
В ту ночь я ощутил, что тоже могу умереть, и как бы то ни было, а с отцом умерло что‑то и во мне, возможно очень ваяшое, чего я даяад и оценить как следует не в состоянии. За выходившим в большой двор окном, в которое я пристально смотрел всю ночь напролет, начало светать; в голове моей теснились привычные образы и звуки вместе с образами и звуками, мне незнакомыми, и я с ужасом чувствовал, как весь мир, будто сделанный из хрупких кристаллов льда, тая, утекал у меня между пальцев. Вцепившись в подушку, я стал молиться. Изредка, из забытого детства, до меня доносился голос Матиаса.
Два дня я провел в постели, меня сжигал жар, бросало в озноб, то и другое обрушивалось на мою голову и – бум, бум, бум! – отдавалось в ней, словно удары молота. На третий день я встал, посмотрел на себя в зеркало и увидел незнакомца, чье желтое лицо было моим лицом, чьи дрожащие руки были моими руками, чьи ноги, глаза, губы были моими ногами, глазами, губами. Но все вместе принадлежало кому‑то другому, похожему на меня, но совершенпо иному человеку. На четвертый день я вышел из дому и отправился в коллеж, словно ничего не произо шло. Я шел и шел, отклонялся от верного пути и, вероятно, вполне понимал, что у меня нет ни малейшего желания попасть в коллеж. По – другому выглядели улицы, люди казались жалкими и печальными, деревья, воздух, город – все было другое. Все изменилось вместе со мной, точно отражалось в том же зеркале. Не помню, как я дошел до здания, где работала моя мать. Мне сказали: «Уя «е неделя, как она не является». Я пошел дальше, спрашивая себя, нормально ли то, что со мной происходит: ощущения мои, когда я читал письмо, потом болезнь с жаром, головной болью, кошмарами и странное чувство, будто я родился заново в уродливом, насквозь прогнившем мире, совсем не похожем на тот, в котором я жил всего четыре дня назад. Я шел и не отдавал себе отчета, что курю, курю на улице, курю на глазах сестры моей матери, открывшей мне дверь. Тетя обняла меня и сказала: «Проходи, мама твоя лежит в постели». Мы смотрели друг на друга, точно встретились впервые. Какая маленькая она была! Просто восковая Дева Мария, да и только! И мама тоже изменилась. Я сел на скамеечку, обитую выцветшей синей тканью. Она сказала: «Твой отец наппсал тебе письмо». Я кивнул и ответил: «Я заболел, когда прочитал его». Тогда мама снова беззвучно заплакала, отвернувшись к стене. У меня в груди словно застрял какой‑то шар, шар из раскаленного железа, который все разрастался и разрастался, пока не распространился на всю грудь. Я хотел подойти, взять ее за руки, сказать, что люблю ее, чтобы она это знала, что я наконец‑то прозрел, что я раскаиваюсь, что и я тоже убил его – столько, столько всего я хотел ей сказать. Стояла мертвая тишина. Внезапно мама подняла свое поблекшее лицо и заговорила: «Я не хочу их ненавидеть, сынок, не хочу их ненавидеть, твой отец сказал мне, что не надо ненавидеть их; но, сынок, я не знаю, не знаю, смогу ли когда‑нибудь простить им это преступление».
Директор тюрьмы сказал ей: «Не понимаю, сеньора, или кто вы там такая, с какой стати я должен предоставить эту возможность вам, а другим – нет; кроме того, об этом и просить‑то не стоит, поймите же, им потом хуже, они впадают в уныние, становятся вялыми и не могут держаться как мужчины». Мама умоляла. Пятнадцать Коротких минут – этого жестокому человеку показалось достаточно. Отец сказал: «Я только что беседовал со священником, он хотел вынудить меня признаться в моих преступлениях, чтобы успокоить совесть, вот так‑то». Двадцать часов простояла мать у тюремной стены, не чувствуя ночного и предрассветного холода. Ее сестра вся съежилась, завернувшись в солдатское одеяло, с нею рядом. Стали появляться крестьяне, одни смотрели на них, другие– нет, одни бормотали «доброе утро», другие не говорили ничего. Мама разбудила сестру, и, как только забрезжил свет, они отправились на кладбище. В деревне колокола мрачно звонили к заутрене. Они прошли прямо в часовню, освещенную всего двумя мерцающими свечами по обе стороны алтаря. Скоро появился могильщик – рябой, слегка прихрамывающий парень – и сказал: «Не беспокойтесь, сеньора, я все сделаю». Мама кивнула. Это правда, да, это правда, это станет правдой через несколько минут. Сестры взялись за руки, не глядя друг на друга, а там, за стеной, захлопали частые выстрелы, отозвавшиеся в ее сердце. Шестеро осужденных и Матпас стояли над красной лужей, которая все увеличивалась. Над тюрьмой вставало красное солнце. И вот, точно порожденные первой очередью, раздались еще семь выстрелов, тихих, неумолимых. Мама, много дней не чувствовавшая ничего, вдруг ощутила тяжесть собственного тела. «Мы забрали его и похоронили», – сказала мать.
«Твой дядя мог спасти его, но он не хотел, не хотел. Его гораздо больше интересовали деньги, земли, власть. Он желал быть хозяином. Я не хочу ненавидеть их… Но я хочу сказать, что они сделали: ведь сколько бы я ни молчала, это же все равно было. Поэтому я скажу: они отняли у меня все, и Альфонсито тоже, Альфонсито был еще дитя, мальчик, ему бы не следовало идти на войну. Но кто‑то должен был пойти, другим можно было прятаться в порах, но кто‑то должен был выиграть для них войну… Подойди поближе, сынок. Ты не можешь себе представить, каким хорошим человеком был твой отец, я тебе клянусь всем святым, что он никогда не сделал ничего дурного».
«Что‑то мешает мне поверить», – сказал я.
«Он не сделал ничего дурного, па коленях умоляю тебя, поверь, сынок».
«Дядя Альфонсо все время твердит: никогда не забуду, что отец твой сам, раз он был с красными, убил твоего брата».
«Этого быть не может, не может этого быть: когда погиб Альфонсито, отец был очень далеко от Мадрида».
Я не знал, что сказать. Мама приподнялась на постели, и мы обнялись. Однако, уходя, я сказал: «Мама, теперь мы должны видеться чаще, я буду приходить каждый день».
Насколько я понимаю, внизу всегда были целые полчища крыс, а наверху – несметное количество кошек. Но с тех пор, как я их увидел, все страшно изменилось.
Еще до того, как покинуть дом, я видел, что и крысы, и коты прекратили длившееся годами мирное сосуществование, возможно – а почему бы и нет? – из‑за того, что в их владениях произошли из ряда вон выходящие события – мои посещения, несомненно, были первыми за многие годы. Конечно, что касается крыс, то здесь были кое– какие особенности, хотя, с другой стороны, не столь уж и сверхъестественные, они представляли лишь некоторый научно – исследовательский интерес. С тех пор как Рамоп покинул дом, они стали невыносимы и ужасно агрессивны. Недостаток пищи, которую им прежде обеспечивал Рамон, а также любви, привел к тому, что опи одичали и не раз заставляли Либерио и меня в спешке отступать по лестнице перед их наскоками. Можно предположить, что одичание и безнадежность положения побудили их расширить свои владения, прогрызая стены дома, и вполне вероятно, что это их слышали Альфонсо и Клара ночами, когда постоянный глухой шум мешал им спать. Впрочем, должен сказать, что однажды, когда мы с Либерио, потихоньку обходя дом, приблизились к двум Бранденбургским воротам, Либерио сделал мне знак прислушаться. Несколько изголодавшихся крыс поднялись по лестнице и яростно скреблись в дверь. А в другой зоне Восточного Берлина кошки, обезумевшие от запаха недоступных им крыс, тихо мяукали и тоже злобно царапали степу, их от крыс отделявшую. Либерио, казалось, испугался. Ночь от ночи шум все возрастал, возле дверей он становился по– истине оглушительным, писк и мяуканье все усиливались, свидетельствуя о том, что полчища крыс, поднимавшихся к двери, и котов, спускавшихся с чердака, калздый раз увеличивались. Днем все оставалось по – прежнему, хотя кое – какие незначительные перемены, думаю, ощущались.
* * *
Кабинет – контору – библиотеку – каюту Либерио пазывал, со свойственной ему не слишком невинной, не слишком злой иронией, «лабораторией графа Калигари», отвратительного, по его словам, типа, тесно связанного с силами зла, – это был персонаж из какой‑то кинокартины об известнейших исторических событиях. Альфонсо проводил там, запершись, большую часть дня. В его все возраставшем отчуждении надо отметить несколько вех, имевших особое значение: безоговорочный разрыв супруя! еских отношений, возведение стены в Берлине, последовавшая вскоре после этого события и непосредственно связанная с ним смерть приходского священника, а также смерть генерала Франко 20 ноября 1975 года.
Закрывшись в этой комнате, Альфонсо, как я уже говорил, проводил там целые дни, а часто и ночи, выходя оттуда только в столовую, хотя тоже не всегда. Говорят, что особенно в последнее время он по нескольку дней подряд уклонялся от церемонии обеда и, приказав приносить еду к себе в берлогу, к ней даже не притрагивался, в результате чего угрожающе слабел на глазах, а его раб Педро Себастьян становился, как бык, все толще и грубее.








