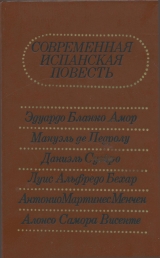
Текст книги "Современная испанская повесть"
Автор книги: Алонсо Самоа Висенте
Соавторы: Эдуардо Бланко-Амор,Луис Альфредо Бехар,Мануэль де Педролу,Антонио Мартинес Менчен,Даниель Суэйро
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц)
«Эспукин эснанис?»[22]22
Говорите по – испански? (искаж. англ.)
[Закрыть] – спросил я, и сейчас же несколько барышень начали мне плести сказки и тараторили без умолку, громко и все хором, а я загорланил американский гимн, чтобы их перекричать. Будет очень трудно, видел я, обольстить их одну за другой, а иначе как быть, разве кто осмелится взяться за всех сразу, такого смельчака я не знаю.
Из четырех или пяти, кого я запомнил, все были довольно похожи друг на друга, блондинки или рыжие, бе– лые – пребелые, некоторые с веснушками, одна была в очках, но я в первую же минуту поставил на ней крест, так же как на той, что сидела за рулем; близорукие меня не устраивают, я нахожу их жалкими уродами. Одна курила и не выпускала сигареты изо рта, даже чтобы откашляться, и ее я тоже сбросил со счета. Еще одна молчала и только посматривала на меня с улыбкой, словно потешалась надо мной, а когда я смотрел на нее, опускала глаза, и мне показалось, что эта славная штучка будет проворной игривой маленькой пантерой, когда дойдет до дела, она из тех, что не выпускают добычу, держат ее как клещами, а мне иной раз это нравится; но у нее были рачьи глаза, слишком светлые, слишком необычные и непонятные для меня. Если я буду так перебирать, сказал я себе, мне придется выпрыгнуть из машины на ходу, и я решил снова все взвесить и приступить к делу при первом же удобном случае или без всякого случая, раз уж я сюда попал. Я вспомнил американочек прошлого лета, что жили в университетском центре неподалеку от мастерской, тоже все одинаковые и все податливые, хотя, конечно, самая лучшая досталась Роберту; каждую ночь она открывала ему окно, и парню приходилось взбираться к ней как кошка и брать ее в оборот, но зато он оставался у нее до рассвета, а это, считаю я, недурная награда. Директриса явилась к хозяину и закатила скандал, особенно нападала на Роберта: мол, он запугал одну из девочек и держит ее в страхе (интересно, каким это образом?..), но хозяин оказался на высоте и повел себя как истый пспанец. «Ко мне не обращайтесь, – говорит он крикунье, – не требуйте, чтобы я вправил мозги парню, распекайте свою американку, она должна знать, что делает… Теперь, когда у парпя такая любовь, кто ему помешает, уж не я, конечно… Что вы хотите, чтобы мои ребята устроили забастовку… Нет, я не могу связываться с парнем, меня убьют». Это чистая правда, при чем тут мы, ведь девушки уже совершеннолетние, они знают что почем, у них все при себе, не то что здешние дуры, с ними в таких делах сущая беда, сейчас же влипнут, тебя же ославят и норовят заарканить.
Та, что за рулем, казалась полоумной, она брала влево, вместо того чтобы держаться правой обочины, хотя никто не ехал навстречу, поднимала горы пыли, колеса на поворотах отчаянно скрежетали, а она опиралась себе локотком на окошко и спокойно жевала резинку, и никому не было до нее дела. Куда я попал, мамочка, подумал я, эти бабы меня расколошматят, а не то разрежут на куски и поделят между собой.
Они тараторили и поглядывали на меня и время от времени задавали мне вопросы, которых я не понимал, я отвечал наобум, что в голову придет; это их веселило, они закатывались смехом, и я был доволен, хотя начинал уже томиться от нетерпения. Куча девушек, и все иностранки, и такие славные, даже у той, что вела, плечики были аппетитные, а я зеваю. Чего ждешь, подстрекнул я себя, сдурел ты, что ли.
Но их было много, как сардин в банке.
Мы подъезжали к бензоколонке в Лохе, где я мог починить колесо, и надо было спешить, если я хотел чего‑нибудь добиться. Я быстро перебрался назад, в ту сторону машины, где была большая часть вещей, мотоцикл и колесо тоже там лежали, и подсел к девушке, которая наигрывала на гитаре довольно приятную песенку. Я стал ей подпевать, топыря губы и махая головой, а сам придвигался все ближе, пока безотчетно не положил ей руку на колени. Вблизи я разглядел, что под полураспахнутой блузкой на ней ничего нет и что у нее широкие золотистые ляжки, такие золотистые, что волосики на них блестели как золото, мягкие и нежные, наверно, они такие же между ногами, где кожа нежная и мягкая, теплая и в то же время прохладная… Она сильно стукнула меня по руке, не переставая бренчать на гитаре и напевать, остальные были в курсе дела, они продолжали болтать и смеяться, но все заметили, подобные вещи ни от кого не ускользают, они как электрический заряд, особенно для веселой компании американок, которым только и подавай развлечения. Итак, машина ехала со скоростью сто сорок километров в час, а у меня перед глазами плясали под распахнутой блузой женские груди, я не мог больше сдерживаться, трахнул по гитаре и набросился на ее обладательницу; единственное, что я услышал, был скрежет тормозов, и сразу же я чуть не задохнулся среди гитар, одежды и разъяренных женщин, они хотели линчевать меня, колотили меня и визжали. Удары были увесистые и сопровождались криками
«чау – чау», как вопят индейцы в их фильмах; даже та, что была за шофера, присоединилась к потасовке после того, как завела машину на обочину; оставалось только выкрутить руки двум или трем драчуньям. Они довели меня до белого каления, но я: спокойно, спокойно, какого черта, ничего не случилось, я не вампир, голосующий на дороге (хоть бы такой вампир нагрянул, эти бабы вполне того заслужили), отпустите меня, сеньориты. Ведь человек не из камня, попадешь в машину, где все полуголые, тебя подзуживают, а потом удивляются и протестуют, уважение, какое, к лешему, уважение, когда вы сами этого хотите.
В общем, они меня хотели высадить, а я ни в какую, показываю на колесо: вы меня довезете до первой бензо– колонки, esence, esence[23]23
Бензин, бензин (англ.).
[Закрыть] и oil[24]24
Машинное масло (англ.).
[Закрыть], так – перетак, колесо ни к черту, не бросите же вы меня в беде, не будьте злюками, девочки, знали бы вы, что теряете.
Я ни с места, а они строят из себя обиженных, а может, притворяются, я не я буду, если они не начнут сами липнуть, первый раз вижу американку, которая строит из себя недотрогу. Видя, что ни я, ни «Могучий» не вылезем, если они не позовут полицию, они собрались все в передней части машины, а я по – прежнему валялся среди шорт и бюстгальтеров и как сумасшедший орал «Полосы и звезды» – единственную понятную для них песню, я был не прочь снова за них взяться, но боялся, что тощая девица за рулем опять затормозит, и мы полетим ко всем чертям.
Может, будь я чуть почище и в купальном костюме, а не одетый, они оказали бы мне другой – прием, а так я распугал их, точно мух. Вот как эти люди понимают демократию, сущее дерьмо.
Они остановились у бензоколонки в Лохе, я спокойно выгрузил мотоцикл и колесо, помахал руками, словно отряхивал дорожную пыль, и, прежде чем они тронулись, чмокнул шофериху в щечку. Когда машина исчезла вдали, я помахал им вслед обрывком шланга. Знай наших!
IX
Когда на голодный желудок и без всякого аппетита, на удушающем солнцепеке возишься с колесом – мне пришлось купить новую покрышку, потому что в моей была здоровенная дыра, – тебе приходит в голову, что лучше послать все в задницу и поставить точку, сказать девушкам, чтоб они тебя забыли, и пустить пулю в лоб. Последовать примеру Фосфориго: два года назад он жил две недели на широкую ногу, как никто до него не жил и никто после жить не сможет, а потом пульнул в себя и капул в вечность как храбрец; чего мы не видали в этом паршивом мире, пусть только мне представится случай, клянусь, я не дрогну. Когда ты все в жизни испытал и все тебе безразлично, хочешь покончить все разом, так или иначе, и если к тебе является кто‑нибудь вроде Перико Каймана или дона Педро Марселя из хересских винных погребов, царство ему небесное, и говорит, что убьет себя, но сначала будет прожигать жизнь и в две недели растратит несколько миллионов, чтобы войти в историю, и спрашивает, не будешь ли ты так любезен составить ему компанию, – ты с милой душой соглашаешься, хоть тебе и ставят условие тоже убить себя, когда придет конец деньгам и красивой жизни, вину, женщинам, роскошпым отелям и сладкой еде, это единственный способ разом всем этим насладиться, а когда ничего не останется, жить уже не стоит, потому что ты все перепробовал. В ту же ночь выходишь, как они вышли из «Ла Паньолеты», кабачка на окраине Хереса, где танцуют фламенко, выходишь на рассвете, мертвецки пьяный, с сумасшедшим миллионером, который не хочет жить, потому что жена ему наставляет рога или еще почему‑либо, грузишь в машину гору ящиков с шампанским и коньяком и сажаешь туда пару девиц. Потом постепенно выкидываешь в окошко пустые бутылки, а танцовщиц на следующую ночь где‑нибудь бросаешь и заменяешь новенькими и снова загружаешь машину выпивкой. Именно так они и поступили, мне это рассказывала Чудесница, она тогда гуляла с Фосфорито, и только она одна получила от него письмо и очень его жалела; когда они приехали на побережье, то две недели держали в своей власти всю округу между Малагой pi Марбельей, Торремо– линосом, Куриуэлой, Фуэнхиролой, Калабуррас и Калаон– дой и па участке только в пятьдесят километров раскидали бог весть сколько миллионов, не считая тех, что потратили па пути в Мадрид; они мчались со скоростью сто сорок в час и на всех поворотах выскакивали на встречную полосу, они просадили в одну ночь четыреста тысяч песет, прямо не верится, захватили «Касабланку», сказали хозяину, они оставляют за собой заведение па всю почь, а кому это не нравится, может убираться, и все девицы остались, они видели тысячные билеты в бумажнике Фосфорите, он у них был за распорядителя, и когда ему казалось, что их обсчитывали, как в ту ночь в «Касабланке», тогда– то подавал голос Перико Кайман, царство ему небесное, и говорил Фосфорите: этот человек требует, чтоб ты уплатил, так плати же, черт побери, для чего тебе деньги, будь хоть раз щедрым за всю твою вшивую жизнь, дьявол. Все свое время они проводили в отелях и заведениях на побережье, закрывая их когда вздумается, потому как они за все платили, и когда захватывали заведение, там начиналось сумасшествие, ведь оплачены были жратва и всякий ущерб, все, включая женщин, и каждый пользовался, ясное дело. Никто не жил роскошней и не сорил так деньгами, как опи, никто столько не орал, они угощали потаскух и официантов и даже полицейских, никто не отказывался, а Фосфорите ходил обалделый, меня это не удивляет, ведь он был приговорен к смерти, и это были последние минуты его жизни, вот он и гулял как паша. Но когда подошло время, Перико Кайман стал отнекиваться: надо, мол, еще погулять, он написал письмо жене, пусть немедленно пришлет денег, а не то он ее оставит вдовой, а потом обманул каких‑то друзей своего отца и ограбил два – три бапка, началось всяческое жульничаиье, все разваливалось, потому что мерзавец Пернко не хотел выполнять обязательство, и тогда Фосфорито увидел, что расплачиваться придется ему: деньги все покрывают и где тонко, там и рвется, ои втолкнул труса в машину и пустил под откос в ущелье близ площадки для гольфа в Торремолиносе, а сам бросился в море, надрезал грудь под соском и проткнул себе сердце лезвием навахи.
X
Я закусил и выпил пива в баре при бензоколонке и поехал дальше, уже был вечер.
Было еще жарко, и мне попался на пути такой же бедолага «голосующий», как я; он валялся в кювете раненый и не соблаговолил подняться или хотя бы взглянуть на меня, когда я остановился около него из жалости – ведь недавно я был в таком же положении. Куда едем, сказал я ему, а он был неприятный на вид, небритый и с большим дорожным мешком; если хочешь, подвезу, садись, я тоже еду в Торремолипос; я хотел оказать ему услугу, видя, в какой он передряге. Никакого ответа, только заговорщицкий взгляд и вздох.
– Разве ты не голосуешь? Ну же, садись, моя старушка быстрая. – И похлопываю «Могучего» по заду.
– Не смеши меня, – цедит сквозь зубы тип, – я не признаю даже грузовиков: или остановлю тачку, полную чувих, или буду здесь валяться.
Что с таким идиотом поделаешь, я расхохотался и, вместо того чтобы облить его презрением, чего он заслуживал, сказал:
– Вам и карты в руки.
Проклятый тележаргон, нам его вбивают в голову, засоряют мозги, и он прет из нас в подобных случаях.
И я мчусь дальше, дальше, беру влево после перекрестка у Антекеры, проезжаю Кольменар, поднимаюсь и спускаюсь в Пуэрто – дель – Леон, и вот опять то же самое, перед тобой дорога, и ты пе можешь остановиться, понимаешь, что это безумие, дурацкая затея, но продолжаешь, продолжаешь лететь, один на всем свете, в надежде скоро увидеть место назначения, желанную цель, солнечный рай, полный цветов и жаждущих поцелуев девушек, что‑нибудь, что вознаградило бы тебя за скуку, хотя потом оказывается, что награда маловата. С каждым разом волнение в груди все сильнее, воображение разыгрывается, на глаза наворачиваются слезы, и что‑то отдает в затылок – болезненное, но приятное ощущение. И так пролетаешь километры за километрами, безотчетно, вперед, вперед, надо добраться, уже осталось пемного, еще есть время.
Километрах в восьми от Малаги я с возвышенности увидел море и остановился. Над морем стоял густой белый туман, оно раскинулось влево и вправо и прямо передо мной, точно конца ему не было. Я любовался им всего минуту, хотя все это очень красиво, смотрел бы и смотрел.
Потом я стиснул зубы, схватил «Могучего», поднял его, словно выжимал штангу, и повернул назад.
– Проклятье, проклятье, тысячу раз проклятье, – сказал я вслух.
Обернувшись назад, я увидел, что солнце садится, окрашивая горизонт в кровавые тона.
Мне предстояло покрыть изрядное расстояние, чтобы вернуться в Мадрид до восьми часов утра в понедельник, когда откроется мастерская. И всю эту долгую скорбную ночь я ехал, тащился по равнине как жалкое насекомое, как разъяренная пантера… Да ладно, для чего продолжать.
Луис Альфредо Бехар
ЭТО МЫ НАЗЫВАЛИ БЕРЛИНОМ (Перевод с испанского H. Малыхиной)
Luis Alfredo Bejar
AQUELLO ES LO QUE LLAMABAMOS BERLIN
О большой столовой, разумеется, у меня сохранились очень, очень многозначительные воспоминания, впрочем, мне кажется, что любое воспоминание очень много значит, по крайней мере для меня.
Каждый день, когда приближалось время обеда, молоденькая служанка, на редкость красивая, но всегда бледная и печальная, торопливо пробегала по темпым коридорам, по холодным гостиным, нервно встряхивая серебряным колокольчиком. И хотя трудно представить себе звук слабее, но – странное дело – он безошибочно достигал нашего слуха, звеня столь отчетливо, словно бы дошел к нам из запредельных миров. И это таинственное явление чисто акустическими причинами объяснить нельзя, и по здравом размышлении неизбежен вывод, что здесь не обошлось без потусторонних сил. А признаков их вмешательства, на мой взгляд, было вполне достаточно: в дребезжании колокольчика слышались то вопли издыхающей кошки, то человеческие стоны. Услышав колокольчик, все члены нашей немногочисленной семьи должны были тщательно вымыть руки и поспешить на зов. Я помню, что у меня выработался условный рефлекс: стоило мне заслышать колокольчик, как в мозгу тотчас возникал вопрос о причине, цели и потаенном смысле столь неукоснительной точности. Ответа не существовало, это была просто навязчивая мысль. Бывало, когда я сидел у себя в комнате, изнывая от навалившейся на меня беспокойной и вязкой скуки, я украдкой высовывался в дверь, чтобы увидеть, как быстро, почти незаметно, подрагивает правая рука девушки, встряхивавшей колокольчик. Глядел я на нее не то ошеломленно, не то испуганно, а может быть, и так и этак, словно она и правда была святой во плоти, и я уверен, что она меня тоже видела, хотя никогда и ничем не дала мне понять этого^ Она просто проходила мимо. И скрывалась за какой‑нибудь дверыо, таяла словно призрак, и все снова погружалось в густую тишину, как бывает только в совершенно пустых домах. Это было необычайное ощущение.
В ту ночь все время слышались какие‑то шумы и шорохи, наплывавшие смутными волнами, и у меня возникло предчувствие, что придет конец деспотическому правле– пию^Сегунды. По дороге в коллеж я спросил у провожавшего меня слуги о причине ночных шумов, но этог человек никогда не отвечал на мои вопросы, а только пристально смотрел на меня своими туманными серыми глазами.
Я провел так почти два ужасных месяца. И думаю, за всю жизнь не испытал большей радости, чем в тот день, когда увидел дядю Альфонсо и его жену, тетю Клару. Во время их отсутствия у нас, как никогда, было тихо и чисто и наш дом был таким однообразным, упорядоченным и приличным, но зато я за долгие эти недели ближе узнал стае го другого дядю, Либерио, и с тех пор нас связывала с ним искренняя дружба до самого дня его нелепой смерти. Иногда он меня вытаскивал из моей каморки и брал с собой на прогулку или в художественную школу, где по– прежнему занимался рисованием и лепкой; там этот неутомимый говорун метался от одной компании к другой и представлял меня своим товарищам и их подружкам, каждый раз выдумывая мне новое имя и национальность, и потому я очень сомневаюсь, что хоть один из них понял, кто же я такой на самом деле: один день я был русским по имени Дмитрий, на другой день становился Томасом из Сеговии, а потом превращался в Жан Пьера и оказывался внебрачным сыном дяди Либерио, плодом его несчастпой любви к одной великосветской француженке, чье имя он не смел назвать… По правде говоря, сам не знаю, развлекали меня эти небылицы о моей скромной персоне или, наоборот, смущали и оскорбляли, так что я едва удерживался от слез. Но сам дядя Либерио бесконечно наслаждался своими безобидными шутками. Мне кажется, что именно он научил меня ценить смех и смеяться. К тому же он научил меня смеяться ни над чем или надо всем, но это было уже много позже. Он говорил мне: «Давай‑ка поглядим, как ты смеешься, ведь надо же упражняться», и тут же возмущал окрестности хохотом – громоподобным, беспричинным, нелепым, но по – настоящему веселым и заразительным. Поначалу я только корчил рожи и издавал какое‑то бульканье, подражая истинному смеху, но потом – благодаря усердным занятиям, сказал бы он, – я стал брать верх в наших откровенных, но и безобидных стычках, я долго сопротивлялся, притворялся снисходительноскучающим или порывался положить конец его выходкам, но в результате всегда сдавался, покоренный его неотра зимым смехом. Иногда Лнберио принимался передразнивать всех обитателей нашего дома, чьи интонации, привычки и жесты он знал досконально, он представлял и людей, и животных, и если бы он их не высмеивал, мои нервы не выдержали бы: у меня волосы дыбом вставали от одного только воспоминания о каменно – непроницаемом старческом лице Сегунды, о язвительном голосе и стальных глазах лакея, сопровождавшего меня каждый раз, как я выходил из дому, о противном урчании трех огромных полосатых котов, вечно крутившихся возле дяди Альфонсо, или о сухом, как и его приказы, смехе.
То время внесло некоторые изменения в мою жизнь в лоне этого дома. Например, именно тогда по не подлежащему обжалованию приговору Сегунды возникло обыкновение не выпускать меня из дому без Педро Себастьяна – того самого отвратительного лакея, изувеченного многочисленными ранами в многочисленных войнах, который по приказу дяди Альфонсо усаживался на корточки в углу большой столовой и приводил нас во время еды в ужас своими грубыми солдатскими песнями, – и он должен был сопровождать меня (или следить за мной?), как уже говорилось, всегда, когда я выходил на улицу, чтобы я не мог предаваться играм и шалостям, свойственным моему возрасту, а также общаться с соседскими детьми и однокашниками из коллежа, хотя подобные искушения нечасто посещали меня. Или чтобы я не сбежал навестить свою мать.
О, действительно, в ту ночь молодожены вернулись из своего долгого свадебного путешествия, и, когда я вошел в широкие двери столовой, они снова сидели во главе стола: оп, такой же строгий и непреклонный, как и два месяца тому назад, и Клара, которую я видел всего два раза, и потому она казалась мне удивительной красавицей, чистой, словно ангел, но какой‑то чужой, несмотря на то что слабая улыбка освещала ее лицо. Все вели себя как обычно, и я протянул для осмотра руки Сегунде, которая наблюдала за входом в столовую с тем же рвением, что и много лет назад. Педро Себастьян, стоявший за стулом Дяди Альфонсо, от радости, что снова видит своего хозяина, улыбался идиотской улыбкой. А возле Клары, чуть поодаль, в ожидании приказаний надменной сеньоры затаила дыхание ее горничная.
Обычно в ясные дни столовая сияла, залитая светом. Но осенью и зимой, когда солнце не показывалось из‑за туч, она – непонятное дело! – становилась самым мрачным местом в доме. И видимо, столь странные капризы освещения в этой комнате доводили меня чуть не до слез, я вообще лишался аппетита и терял интерес ко всему окружающему. Сколько вечеров и ночей я провел, захлебываясь рыданиями в своей комнате только потому, что в столовую не заглядывало солнце! В немалой степени таинственным превращениям столовой способствовали два огромных балкона над парадным входом. Однако суть явления крылась, по – моему, в двух больших люстрах на потолке, и я уверен, что без пих столовая не менялась бы так разительно в зависимости от того, ясный день или пасмурный. А какая была разница! Позади председательского кресла, которое, с тех пор как не стало деда, занимал дядя Альфонсо, чуть левее, была другая дверь, скрытая длинными портьерами из красного дамаста, такими же, как на окнах, а рядом с ней висело зеркало в позолоченной раме, и я мог созерцать в нем отражение крепкого затылка дяди Альфонсо. Другие стены украшала целая коллекция разнородных эстампов на религиозные и патриотические темы: святая Тереса[25]25
Тереса Санчес Сепеда Давила – и-Аумада (1515–1582) – изве– стпая писательница и религиозная деятельница.
[Закрыть] кисти Рибера, «Обращение Рекаредо[26]26
Рекаредо – вестготский король, правил с 586 по 601. Приняв католицизм, объединил своих подданных в лоне одной церкви.
[Закрыть]» и «Чудо святого Ильдефонсо[27]27
Святой Ильдефонсо (? – 667) – архиепископ Толедо, крупный политический и религиозный деятель.
[Закрыть]» торжественно окружали Амбросио де Спинолу[28]28
Амбросио де Спинола (1571–1630) – известный военачальник, был главнокомандующим испанских войск в Нидерландах, особо прославился взятием Остенде и Бреды.
[Закрыть], чье пресловутое благородство – истинно испанское, искони присущее нашему народу – вошло в поговорку. Высоким вкусом произведения эти не отличались, зато были вставлены в рамы красного и палисандрового дерева. Под ними стояли обитые в тон занавесям кресла, на которые, если я не ошибаюсь, никто не садился со времен войны. Пол мучительно заскрипел, когда я отошел от Сегунды. Я сказал:
– Здравствуй, дядя! Как ты себя чувствуешь?
Он слегка взмахнул рукой в мою сторону и ответил:
– Хороню, очень хорошо, подойди поцелуй меня и твою тетю.
Клара не шевельнулась, когда мои губы приблизились к ее щеке.
– Ты хорошо себя вел? – спросил дядя Альфонсо, и меня вдруг обдало жаром.
Сегунда ничего не сказала, потому что она никогда ничего не говорила, но я не спускал с нее глаз, отвечая, что вел себя хорошо и что однажды вернулся домой очень поздно, так как гулял с дядей Либерио, но это был один– единственный раз, ведь все знают, что я и раньше не очень– то любил выходить из дому, а теперь и подавно. В этот момент вошел дядя Либерио, показывая руки уже пыхтевшей от нетерпения въедливой старой молчунье, на лице у которой появилась гримаса отвращения при виде пятнышка глины на щеке у дяди. Громко здороваясь, дядя Либерио правой рукой пожимал руку брату, а левой одновременно посылал воздушный поцелуй в другой конец стола, где, словно идол, застыла его кузина, а теперь и невестка. Садясь на свое место рядом со мной, он извинялся за опоздание – по его словам, у него было очень много работы, в ответ на что Альфонсо, как всегда, презрительно усмехнулся.
Яснее ясного, что Либерио и Альфонсо пи в чем не походили друг на друга. Только когда Либерио сердился, в его облике и манерах появлялись фамильные черты, но, по правде говоря, не многое ему представлялось достойным раздражения. Его жизнь изобиловала радостями: все что угодно превращалось в естественную причину для веселья, как уже говорилось, он постоянно смеялся, часто без всякого повода, потому что придерживался хотя и расхожей, но тем не менее уб|едительной теории – если люди не делают того, чего им хочется, значит, они не пользуются свободой воли – главной чертой, отличающей их от животных. И еще добавлял: «Без свободы воли мы были бы даже не животными, а в лучшем случае просто машинами». Альфонсо же, наоборот, всегда вел себя так, словно все должно быть предусмотрено, взвешено, тщательно выверено, и, если что‑либо приходило в противоречие с его построениями, у него бывали страшные нервные припадки.
Наконец Альфонсо дал знак начинать обед. Как повелось, Сегунда села на нижнем конце стола, но это, разумеется, не означало, что старая служанка обедала вместе с нами. Она просто сидела, неподвижная и прямая, как изваяние, односложно отвечая на вопросы, которые ей задавал дядя Альфонсо, а раньше – дед, и с ненавистью надзи рала за нами, пока мы ели. Сейчас я могу утверждать: чго бы там ни казалось, а эта старуха нас действительно ненавидела и следила за всеми, в том числе за дедом, Альфонсо и Кларой.
Я вспоминаю обоих своих дядей. Я постоянно их вижу, слышу их голоса. Мне очень странно думать о них, объединять хотя бы мысленно дядю Альфонсо и дядю Либерио. Однако вот они, рядом со мной, и в результате мой мир двоится, неправдоподобно совмещая несовместимое. Они такие разные, так далеки друг от друга и тем не менее такие родные – я подсознательно ощущаю это, – словно две стороны одной медали, навеки нераздельные и навеки отвернувшиеся друг от друга.
В тот день, двадцать пятого декабря, на рождество, моему брату Альфонсо (Альфонсо пятнадцатому или шестнадцатому, кто знает) было всего лишь шестнадцать лет. В свои шестнадцать лет он был высок и светловолос, как сноп пшеницы, но после рождественского ужина, когда он обнимал деда, дядю Альфонсо и меня (отца и матери не было дома с самого восемнадцатого июля тридцать шестого года), вся его геройская солидность вместе со слезами стекала на предмет его гордости – пронзительно синюю рубашку. Это было из‑за войны, трагический смысл которой до меня тогда не доходил. Но теперь‑то я уже понимаю, что до войны, точнее сказать, до всех этих странных событий все было как‑то естественнее, проще, если можно так выразиться. Например, иногда, а возможно, и часто, за этим столом собиралось столько пароду, родственников и знакомых, что невозможно не только припомнить их всех, но и просто перечесть, и, конечно, среди них были отец и мать и дед. В те времена, как мне помнится, не бывало пасмурных дней. Как старший сын, отец сидел по правую руку от деда и, случалось, сам направлял ход этих блестящих собраний. Рядом со мной сидола мать, маленькая, спокойная и молчаливая, она следила за тем, чтобы я правильно пользовался приборами и прожевывал индюшку, которую я терпеть не мог, так как ее мясо превращалось у меня во рту в жесткий и противный комок. А моему брату, напротив, разрешалось все, даже такое, за что дед до сих пор мог поворчать на своих трех сыновей, больших, как башни замка. Правила поведения у нас всегда были довольно строгими, но в то же время царил дух молчаливого взаимного согласия всех членов рода, и, как я уже говорил, жизнь наша, несомненно, шла естественнее и приятнее, хотя, с другой стороны, я помню те времена далеко не так ясно, как мне хотелось бы. На пижнем конце стола всегда сидела Сегунда, она никогда не изменяла себе, оставаясь самой собой – невозмутимой и непостижимо преданной, как овчарка. Мою мать, которая по происхождению была не того круга и так и не сумела приноровиться к новой среде, Сегунда ненавидела и не упускала случая показать ей это хотя бы взглядом, пронзительным и жестоким змеиным взглядом, потому что, само собой, иным образом выразить свои чувства не осмелилась бы. Отец и его братья но спорили больше о политике с тех пор, как дед запретил им это, поскольку иногда, видимо, их споры становились предельно ожесточенными, особенно между отцом и дядей Альфонсо, то есть между старшим и самым младшим, причем дядя Либерио всегда занимал среднюю позицию, он усмирял страсти, вынимая жало из доводов спорщиков, а когда собственные взгляды вынуждали его вмешиваться в полемику, он постоянно колебался, признавая правоту то за одним, то за другим братом, и потому часто оказывался мишенью для обоих, что, казалось, больше веселило, чем сердило его.
Обычно он входил в большую столовую чуть позади дяди Альфонсо, словно прикрывая его с тыла, и, после того как его протянутые Сегунде руки подвергались тщательному осмотру, почтительно склонялся перед Кларой и говорил, спрятавшись за бруствером темных очков, которые почти никогда не снимал: «Сеньора, я с величайшим удовольствием вижу, что вы находитесь в добром здравии… я у ваших ног». Но в тот день управляющий вел себя совсем по – другому. Взъерошенный, взволнованный, он то и дело снимал и надевал очки, в рассеянности бессмысленно вертел их в руках. И тогда я понял: что‑то в лице этого человека мепя необъяснимо беспокоило и раздражало. Дядя Либерио весело улыбался и ногой подталкивал меня под столом. Я взглянул на него и, заметив, что он глазами указывает мне на управляющего, снова посмотрел на этого человека и уяснил, в чем дело: его маленькие, словно заплывшие после долгого сна глазки были в ту минуту со – вершенпо красными и прозрачными, что придавало ему по– истнне ужасающее, дьявольское выражение. Конечно, ужасало оно только меня, а дядя Либерио так веселился, что в какой‑то момент мне стало страшно, как бы он не расхохотался, а это, я думаю, было бы кошмарно – ведь над столом, словно зловещая птица, застыло напряженное ог’идание. Внезапно Сегунда притворно закашлялась, управляющий вздрогнул, и осколки его очков утонули в тарелке с супом. В ту секунду я, столь же испуганный, как и он, вскинул на него глаза и увидел, как эти его малюсенькие дырочки светлели, постепенно желтели и стали совсем желтыми. Тут дядя Альфонсо рассмеялся и сказал: «Но, дружище, что с вами такое сегодня? Вот увидите, через двадцать четыре часа все утрясется». Тогда пристыженный управляющий опустил веки, конечно для того, чтобы скрыть свой недостаток, и дрожащим голосом произнес: «Дон Альфонсо, мне кажется, это дело надо передать в гражданскую гвардию», и дядя Альфонсо тут же одобрил его мысль, мягко и без тени гнева упрекнув управляющего в том, что это не было сделано раньше.
Нет для меня воспоминаний более неприятных, чем о долгих застольях, когда в столовой, помимо управляющего, сходились наш приходский священник, полковник де Томас – друзья и сообщники дяди Альфонсо по махинациям с продовольствием, – начальник моего коллежа, бывший одновременно духовником всей семьи по неоспоримому выбору Сегунды, и старая фурия донья Энрикета Вальма– седа, знакомая моей покойной бабушки, для которой все люди были существами заведомо греховными вне зависимости от того, исповедовали они католическую религию или нет, и по справедливости всех их (за исключением ее самой) следовало ненавидеть и карать, а все вышеперечисленные люди по воле случая великолепно доказывали ее мудрость. Под аккомпанемент заунывных патриотических песнопений Педро Себастьяна обед превращался в суд инквизиции, участники которого, обладая истинными духовными ценностями и безошибочным чувством приличного, судили и без колебаний приговаривали к адским мукам весь род человеческий.








