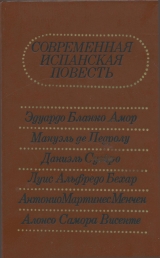
Текст книги "Современная испанская повесть"
Автор книги: Алонсо Самоа Висенте
Соавторы: Эдуардо Бланко-Амор,Луис Альфредо Бехар,Мануэль де Педролу,Антонио Мартинес Менчен,Даниель Суэйро
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 34 страниц)
В данном сборнике каталонская литература представлена повестью Мануэля де Педролу «Временное пристанище». Ее действие происходит в 50–х годах в многонаселенной коммунальной квартире одного из домов Барселоны, административного центра Каталонии. В этой квартире волею случая появляется еще один постоялец. Борьба за право остаться в ней хотя бы на несколько дней и предпринимаемые ради этого ухищрения составили основу содержания повести. Персонажей «Временного пристанища» объединяет одно – все они ведут постоянную борьбу за выживание не только в квартире, но и в самой жизни. Может показаться, что повесть перепасыщена мелкими деталями. Так, автор, словно смакуя, описывает чтение газеты безработными в вестибюле редакции «Вангуардия», где раскладываются несколько экземпляров специально для тех, кто не в состоянии купить даже газету. Не менее подробпо рассказывается история с отключением электроэнергии, кражей подсвечников, уж не говоря о приключениях героя повести, связанных с проникновением в квартиру. Но именно эти «детали» позволяют Мануэлю де Педролу показать своих героев более выпукло, обозначить круг их интересов, то, что в данный момент составляет смысл их существования.
Писатель не побоялся открыто взглянуть на социальную действительность с самой неприглядной ее стороны, о которой стыдливо умалчивала и официальная франкистская литература, и пропаганда. Повесть создавалась во времена так называемого экономического бума, когда франкисты не скупились на рекламу успехов, которых якобы достигла Испания благодаря диктатуре.
О том, каковы истинные результаты этого бума, можно судить хотя бы по судьбе главного героя повести, «безработного с ученой степенью», пока еще сохранившего чувство собственного достоинства, выражающегося в том, что он не мог на виду у всех поднимать окурки (на сигареты у него не было денег), так как «стыд, как удар хлыста, заставлял отдернуть руку, тянущуюся к окурку», или по судьбе многодетного семейства Дамиане, обремененного бесконечными долгами. Не в лучшем положении и подруга героя, Сильвия, и ее брат с женой, перебивающиеся случайными заработками и потерявшие всякую надежду найти работу, да и другие. Голод, нужда, безысходность – вот вечные спутники человека во франкистской Испании. И все же трудности не убили в каждом из них доброту, человеческое участие в судьбе друг друга, взаимное стремление помочь. И это относится практически ко всем персонажам повести.
Проблему простого испанца, затравленного постоянной нуждой, чувствующего себя абсолютно бесправным и беззащитным, поднимает в своей повести «Погуляли…» и Эдуардо Бланко – Амор.
Эдуардо Бланко – Амор (1914–1980) – один из ведущих писателей Испании двадцатого века – по праву считается классиком галисийской литературы. Большая часть его жизни прошла в эмиграции, в Аргентине, куда он был вынужден выехать после окончания гражданской войны. Эдуардо Бланко – Амор – автор многочисленных произведений: романов, повестей, рассказов, эссе. Но все они посвящены родной Галисии. Не является исключением и повесть «Погуляли…».
Галисия – одна из беднейших и отсталых в экономическом отношении областей Испании, о чем свидетельствует бесстрастная статистика. Здесь самый низкий доход на душу населения и один из самых высоких (не считая Эстремадуры и Андалусии) процент безработных. Галисийцы «славятся» тем, что они представляют самую многочисленную группу испанцев, вынужденных эмигрировать за границу. Настолько многочисленную, что была даже создана международная ассоциация галисийцев – иммигрангов. (Курьезная деталь: в апреле 1983 года эта ассоциация объявила о проведении в городе Виго – административном центре Галисии – «малого чемпионата мира», в котором могут принять участие страны, способные выставить команды, составленные из бывших жителей Галисии.) И жуткую нищету, духовную пустоту, отупляющую нужду, толкающие на убогие развлечения, нередко закапчивающиеся бессмысленным убийством, показывает с присущим ему блеском Эдуардо Бланко – Амор в своем произведении.
Повесть «Погуляли…» построена в форме монолога – признания главного героя на суде, где он рассказывает о происшествии, случившемся с ним и его друзьями накануне. Происшествие ординарное и, судя по всему, ставшее уже привычным для них. Только на этот раз оно заканчивается поножовщиной. Впрочем, даже в этом трагичном финале нет ничего необычного. Такая развязка приключений подобного рода могла бы наступить в любой день. Рассказывая о ночных похождениях, Синриано Канедо, так зовут главного героя повести, по существу, рассказывает историю своей жизни, историю жизни таких же несчастных, как и он сам.
Несмотря на всю невежественность и забитость своих персонажей, Эдуардо Бланко – Амор, как и каталонский писатель, с большой симпатией относится к своим персонажам, прежде всего к Сиприано Канедо, характер которого, а также его возлюбленной, описан с теплотой и явным сочувствием. Писатель показывает, какие потенциальные нравственные силы заложены в этом человеке, проявиться которым мешают условия его существования. Наряду с этим автор не скрывает своей неприязни к тем, кто повинен в трагедии Сиприано и его товарищей. Это особенно остро ощущается в последней сцене, когда герой повести кончает жизнь самоубийством, на которое его толкнула одна лишь мысль остаться наедине с полицейским.
В заключение следует сказать, что произведения настоящего сборника показывают нам Испанию с различных сторон, знакомят с многообразными проблемами, с которыми повседневно сталкивается страна, с трудностями на пути перемен. Но в целом эти повести воссоздают объективную картину интересной и своеобразной страны, еще больше сближают нас с ее народом.
А. Медведенко
Эдуардо Бланко – Амор
ПОГУЛЯЛИ… (Перевод с галисийского А. Садикова)
Eduardo Blanco Amor
A ESMORGA
ОБОСНОВАНИЕ
Когда я был совсем мальчишкой, об этом деле еще ходило много толков в кругу честных обывателей Аурии – города, где я родился и где все это произошло. Рассказывали этот случай всяк по – разному, но конец был один, и здесь все сходились.
Потом, в юности, когда меня уже посетила навязчивая идея писательства, я начал говорить с людьми, помнившими былые времена, спрашивал тех и других, рылся в бумагах, читал старые местные газеты, какие только мог разыскать – сваленные в беспорядке и слегка поеденные мышами – на чердаке «Дворянского казино». Заведение это было местом, где собирались «здоровые силы нации», а заодно и заезжие коммерсанты, и те и другие – заядлые игроки в вист и ломбер, и не оттого ли у них начисто отсутствовал интерес к местным хроникам, хотя бы последние и являли собой готовый материал для историка и писателя? По той же самой причине упомянутые лица не имели никакой склонности собирать, приводить в порядок и систематизировать что бы то ни было, за исключением разве только личных документов и счетов.
Один из моих дядьев, служивший когда‑то исполнителем в суде – а в его времена сим довольно мрачным словом называли посыльных, – долго хранил молчание. А он– то, вне всякого сомнения, знал о том деле больше, чем кто– либо из людей, бывших живыми его свидетелями. Пока я был ребенком, он не пожелал сказать мне ни слова, и позже я убедился, как он был прав. И только когда он увидел, что я уже взрослый парень, и с головой, и сую нос в толстые книги (хотя родители‑то мои были полны решимости наставить меня на путь истинный, который вел прямиком в славный цех краснодеревщиков), и вожу знакомство с господами студентами, вот тогда‑то он и начал, понемногу и со скрипом, будто расставался с нажитым добром, рассказывать мне историю о трех знаменитых гуляках. Историю, надо сказать, очень грустную, хотя рассказывали ее, бывало, в кабаках для увеселения собравшихся.
Дядя мой пребывал в годах весьма преклонных, и с памятью у него было слабовато, притом же от старости он шамкал и заговаривался – и это после того, как многие годы был записным говоруном, которого наперебой зазывали и любили послушать и в трактирах, и просто, как усядутся в кружок. Чтобы оживить его чувства и поднять силы, уж и не упомню, сколько графинов вина пришлось мне для него заказывать холодными зимними вечерами и сколько раз летом пришлось прогуляться с ним, по солнышку, по дороге на Траншу, где забегаловки так и выстроились одна за другой и издалека возвещают о себе ароматом нашего доброго красного вина, разгоняя тоску стариков, удалившихся на покой. И я шел на все эти жертвы, шел, чтобы прикоснуться к живой стороне событий – той, которая давным – давно умерла в пожелтевших судебных делах с их унылой гнусавой прозой, с их набившими оскомину подтасовками и которую безудержная фантазия ставших уже былинами народных пересказов изливала на меня слишком бурным потоком.
Пришлось мне прибегнуть и к услугам Золотой Иглы – так прозвали одного портного, отец которого, тоже портной, был когда‑то товарищем по оружию, то есть по иглам и ножницам, человека по прозвищу Окурок, с коим читатель скоро познакомится и к коему проникнется – я так полагаю, хотя вкусы бывают разные, – отвращением до конца своих дней. Дело в том, что отец моего знакомого портного на старости лет, очевидно, ни о чем другом уже и не говорил, как только о том событии. Рассказывал он его двадцатью или тридцатью различными способами – в зависимости от того, какое настроение возобладает в ходе рассказа, но всегда с живым и искренним волнением. Казалось, он был не просто современником, то есть одним из очень многих людей, которые полвека тому назад – а надо вам знать, что в моем городе люди живут и не умирают с несгибаемым упорством, – наблюдали интересующие нас события, а прямо‑таки одним из главных их героев и виновников. По всему по этому свидетельства из вторых рук – а может, лучше сказать: «из вторых наперстков» – я считал более чем сомнительными: слишком уж много в них было полета воображения наряду со множеством мелких подробностей. Это всегда заметно, когда говорят портные: тяга к суетному украшательству и кропотливому копанию в деталях стала у них профессиональной болезнью.
Так вот, ухватив понемногу оттуда, понемногу отсюда и сам поразмыслив, отталкиваясь от тех характеров, что довелось мне понаблюдать за свою жизнь, и сажусь я сейчас писать эту хронику – сажусь, когда почти сорок лет минуло с тех пор, как я собрал все пестрые и расплывчатые свидетельства, и девяносто – со времени самих событий. Понятно, что в силу этого неизбежны будут некоторые огрехи в том, что касается объективной истины, как, собственно, всегда и бывает с реалистической традицией, к коей данное сочинение сознательно себя причисляет. Автор поэтому заранее принимает все причитающиеся ему насмешки и ругань, которые естественным порядком следуют за подобного рода заявлениями.
ГЛАВА I
– Нет, сеньор, не так это было, как у вас в бумаге сказано. Бумага – она, конечно, все стерпит, что ни напиши. Правда, я и понять‑то не шибко понял: уж очень быстро читали, а потом, знаете, и не привычны мы, чтобы нам читали по – кастильски. Мы ведь по – ихнему не говорим, и у нас как начнет кто этак выражаться – если только он не из благородных, – то ему сразу кричат, чтоб заткнулся и не болтал по – кастрацки…[1]1
Здесь и неоднократно далее в тексте запечатлелось неприязненное отношение галисийцев к кастильскому (испанскому) языку – государственному языку Испании, веками усиленно насаждавшемуся в Галисии политикой центрального испанского правительства в ущерб родному языку местных жителей – галисийскому. – Здесь и далее примечания переводчиков.
[Закрыть] Но, однако ж, не так было, кто бы что теперь ни говорил – хоть тебе полиция, хоть тетка Эскилача, хоть лысый черт, извините за выражение. Ни что там было вначале, ни что потом, ни чем дело кончилось – никто ничего не знает, потому что никто ничего не видел, а если видел, то не разглядел, потому как одпо дело увидеть, а другое – разглядеть.
– Я, сеньор, как уже говорил, да не записали, шел на работу. Шел я себе на работу, но ведь как шел, господи ты боже мой, так решительно я еще в жизни не выходил на работу из своего дома – или из дома Балаболки, но это здесь не важно. А все дело в том, что в субботу Балаболка сама пришла ко мне на стройку и я с ней помирился. И ради нее, конечно, потому что я ее очень люблю, но больше ради мальчонки: ему ведь скоро четвертый годок стукнет, и такой он, знаете, смышленый уродился, что уже кое‑что в этой жизни понимает… Спал я с ней в субботу, и в воскресенье тоже: очень я по ней соскучился, потому что женщин хоть и много, но таких, как она… для меня, во всяком случае… Но зато и заговорила она меня!.. А холод в доме был страшенный, и спали мы этак тесно прижавшись, и ничего мне, стало быть, не оставалось делать, как слушать ее; да она к тому же и дело говорила… И столько она наговорила, что у меня глаза оказались на мокром месте – а меня еще ни одна женщина до слез не доводила… разве что мать; но матери – они если и заставят кого всплакнуть, то это не позор для мужчины. И ведь убедила меня в конце концов – на этот раз словами, как всегда прежде убеждала своим телом, – что не могу я долго без нее, что бы там ни делала Колючка, которая, знаете, тоже своего не упустит… К тому же Балаболка умеет как‑то так говорить, будто слова сами ласковой струйкой текут тебе в ухо, а иногда – будто и не говорит вовсе, а только дышит… И говорила, и говорила она мне – и о себе, и о мальчишке, и обо всей этой» поганой жизни, извините за выражение…
Так вот, когда уже произошло то, что бывает, если мужчина и женщина спят вместе, – а когда ты молодой, то оно бывает и раз, и другой, и еще один, и уж сколько там придется: мы ведь больше месяца как не любились, – тут‑то и происходит, что ты перестаешь понемногу соображать, где ты и что с тобой, и прямо‑таки разомлеешь в объятиях женщины… Когда я с другими, то сматываюсь сей же час, едва дело кончено, потому как мне сразу начинает казаться, что от них аж воняет по – звериному – извините, ежели не так сказал. Но когда ты с ней, с Балаболкой то есть, то ты лежишь и лежишь себе в теплой кровати и незаметно для себя становишься ну как дитё малое у ее груди – а она у нее широкая и красивая, – как будто эта женщина и вовсе мать тебе, хотя она моложе, чем ты сам…
Но если уж на то пошло, то и правда вся на ее сто– ропе. Парень ведь не виноват, что родился, ни что у него мать потаскуха и отец пьяница… Пьяница‑то, может, и пьяница, да не бездельник, если уж говорить так, как оно есть… А он там же и лежал, бедный, свернулся в комочек в ногах постели, в куче тряпья да старых одеял. Когда я зажигал свечу, чтоб выйти по нужде, он открывал глазенки – голубые такие и нахальные, как у его бабки, – и, знаете, улыбался мне! Ои там спал, но время от времени проснется – и грызет крендельки, что я ему принес. Да еще как‑то раз пришлось мне подняться прогнать крысу, которая рылась у него в тряпках, и еще я ему дал вина – того, с сахаром и розмарином, что мы поставили на жаровню греться. В одно из этих моих вставаний он, глупенький, возьми да и скажи мне:
– Зачем ты бьешь мамку?
– Я ее не бью. С чего ты взял?
– Потому что она плачет. Я слышал, как она плачет тихонько: ой – ой – ой! – Ребятня эта все примечает, черт бы ее побрал… И я сказал ему: – Ладно, спп, спи… – И еще спросил, не холодно ли ему. И знаете, что он мне ответил:
– Когда ты в доме, мне не холодно, хоть я и не сплю на кровати…
Парень‑то он у меня очень головастый и иногда говорит такие вещи, что прямо душу рвет – уж я бы и не хотел, чтобы ои рассуждал вот так, как большой. Колючка‑то мне нашептывала много раз, что его этому мать учит, чтобы меня, значит, разжалобить, но это байки: говорят, когда я был сосунок, на меня тоже такое находило. Потому что мой Лисардинька…
– Да – да, сейчас буду говорить по сути дела. Я ничего другого и не говорю, кроме как по сути дела, хотя со стороны, может, и не похоже. У людей в жизни, даже у таких, как я, не все так просто: у каждой вещи есть свое начало, и то, что видно, часто выходит из тою, что не видно, и обо всем надо сказать, хотя так, спервоначалу, вроде и пе похоже, что это все о том же… Ну, если по сути, то суть‑то вся в том, что дон Пепито, который лекарь, сказал мне: хвороба, говорит, у Балаболки хотя и ее очень видна, однако же может и паралич дать, если ее не лечить. И я, мол, теперь должен буду о ней позаботиться, чтобы не случилось чего похуже… И о ней, и о сыне, а иначе глядишь – и придется отдать его сестрич– кам – мопашенкам в Благотворительный дом, откуда все Детишки вскорости выходят как пришибленные. А человек, какая бы дрянная душа у пего ни была, не для того делает ребенка, чтобы выбросить его в навоз, извините за выражение, и чтобы высосали у него всю кровь в этих норах, в этих приютах, где сидят на кипятке с сухарями Цельный божий день да воют «Богородице, дево, радуйся», как будто их сейчас резать будут… Это моего‑то маленького!..
– Да – да, сеньор, сейчас скажу, что было дальше. Дайте передохнуть чуток, потому что, как дойдет до… сразу голос хрипнет… и… Ну ладно, значит, как я уже сказал, я не на гулянку шел, время было не такое – гулянки разводить, если только не зацепило тебя и не повело еще с вечера. Я шел себе и шел на работу, на прокладку нового шоссе. Я там уж пять месяцев работал, с самого лета, когда вели его через Алонгос. Я это уже сказал, и все это знают, и незачем повторять. Я прилично зарабатываю: день – другой – и шесть реалов. Бью щебенку с утра до вечера. Работа – что ж, бывает и похуже, я не жалуюсь… Домишко, где живет моя зазноба с тех пор, как ушла из дома Монфортины из‑за ребенка, достался ей от родителей, да к нему было еще земли несколько полосок вокруг – она их продала, когда стала зарабатывать на жизнь в доме свиданий. Стоит он по ту сторону Маринья– мансы, так что мне приходится выходить затемно, чтобы быть в семь утра в Эрведело, где, как вы правильно говорите, и есть стройка. Я там работаю около моста – его сейчас ставят полным ходом, чтобы мог проехать депутат, который, сказывают, приедет в будущем месяце по случаю выборов… Накормила она меня, моя бедняжка, чесночным супом, так, что у меня как огнем полыхало вот здесь, в печенках, с вашего позволения, а тут вылез я на утренний холод, и прохватило меня всего, как будто кроме супчика у меня ппчего горячего в теле и не было, спаси господи от такого наказания. Морозило всю ночь, грязь в колеях затвердела, и по лужам, что оставались после вчерашнего дождя, можно было топать прямиком, потому что они были как из толстого стекла. Трава на обочине сверкала от изморози, как будто свет аж из‑под земли пробивался, а так‑то еще совсем темно было.
Я иду, а ноги у меня в водяных мозолях – ну, прямо на всех суставах, можете себе представить, – и боль зверская каждый раз, как налетаю своими башмаками на бугры на дороге. В конце концов пришлось идти по траве, потому что хотя она тоже затвердела, но все же была не такая каменная, как эта мерзлая грязь. И ладно бы только ноги, так еще и Балаболка утром дала маху: наперчила суп так, что вышел один голый перец, и в животе у меня такое творилось, что каждую минуту я будто из огпя – да в полымя… И вот со всем этим, да при том еще, что и ночью пришлось потрудиться, иду я на работу, а настроение у меня паршивое, и уж не терпится встретить какую‑нибудь открытую забегаловку и принять пару стаканов белого сухого, потому что я, может быть, и такой – сякой, но все же пе как некоторые, у кого весь завтрак – полдюжины косушек, стопок то есть, нашей местной самогонки.
Прошел я немного, и, когда уже подходил к харчевне, которую у нас зовут «У Кристалины», вдруг потеплело, почти незаметно с юга поднялся туман, густой, черный, как мои грехи, но это все же было лучше, чем тот холодина, что как ножом по лицу полоснул, когда я выходил из дома моей зазнобы. Небо там, повыше, где уже начинало хоть и потихоньку, словно бы с ленцой, по светлеть, стало теперь затягиваться бурыми тучами. Видно было, что дело идет к грозе. И еще видно было, что этот рабочий день мне выйдет боком, но и отговориться‑то нечем, а в другие дни я, бывало, хватался за малейший предлог, чтобы не ходить на работу. Сейчас хоть на карачках, а надо было идти – держаться того, что уж обещал. Попрошу, думаю, десятника, чтобы дал мне на сегодня другую работу, под навесом – главное ведь быть на месте, а я к тому же кое‑что смыслю в кузнечном деле и могу править буравы и оттягивать кирки и всякое такое.
Поэтому сунул я поглубже руки в карманы своей овчины[2]2
В Галисии, и во всей Испании, носят овчинные куртки без рукавов, пазываемые «самарра».
[Закрыть] да стиснул зубы из‑за этих окаянных пузырей на ногах, которые то прилипали к башмакам, то, подлые, отлипали – а в брюхе тем временем словно горячие уголья полыхают, – и зашагал решительно дальше. И когда я вот этак шагал, размышляя о «собачьей жизни трудящего человека», как говорит этот самый Сераптес на рабочих сходках, на которые недавно пошла мода, а называют их теперь «митинги» (и ведь складно у него получается, хотя и всего‑то он плотник на стройке), – тут‑то оно и случилось, что вижу я сквозь просвет в тумане две людские фигуры, и похоже, хотят они укрыться за одним из толстенных вязов, что стоят там вдоль дороги. Но от меня, однако, не укрылись, потому что я увидел, как один из них зажег спичку прикурить. А еще увидел у них пар между ног, почему я и догадался, что опи там, извините за выражение, мочатся, спрятавшись за деревом.
И не знаю, зачем столько предосторожностей, если на дороге иу ни одной живой души, разве что так уж принято у людей – неважно, видит тебя кто или не видит. Ну, тогда и я остановился – чтобы достать курево, а еще затем, чтобы дать им время сделать свое дело и отойти, потому что не люблю я проходить мимо людей, которые не стоят к тебе лицом, как положено, и не люблю сходить с дороги, будто я чего подозреваю или боюсь. А потом пошел дальше этак вразвалочку, щелкая зажигалкой, чтоб дать им о себе знать, хотя и был уверен, что меня уже видели – или же слышали стук башмаков; они у меня подкованы и стучат громко, а особенно стучали тогда, когда я шел посреди дороги… И вдруг эти две фигуры выскакивают из канавы и бегут ко мне – с воем, как привидения, да еще накрытые с головой покрывалами[3]3
Во многих районах Испании обычной принадлежностью верхней мужской одежды является покрывало («манта») – квадратный кусок плотной ткани, который носится поверх костюма.
[Закрыть], так что видны только их четыре ноги. Я сразу решил, что это кто‑то из знакомых шутки шутит, однако же на всякий случай нащупал нож и стал. Подбежав, они сбросили покрывала и чуть не лопнули оба от смеха, и оказалось, что это Клешня и Окурок собственной персоной.
– Да – да, те самые. Те самые Хуан Фаринья и Эладио Виларчао, что у вас в бумагах, а по кличкам – Клешня и Окурок, так мы все здесь друг друга знаем, и никто не обижается, потому что Шан или Аладио[4]4
Хуан и Шан, Эладио и Аладио, Сиприано и Сибрап – соответственно кастильские и галисийские формы одних и тех же имен. Официальные документы на всей территории Испании могли составляться только на кастильском языке.
[Закрыть] – это кто угодно, а вот Клешня или Окурок – это только тот, кто есть, и больше никто. Так же точно, как я вот, к примеру, Сиприано Канедо, а зовут меня Сибран, а еще Хряк, это уж как вам понравится, потому что у моего папаши был племенцой хряк, который, с вашего позволения, крыл ему чушек… Хотя меня еще звали Паршивчик и Гнилая Башка, потому что мальчишкой угораздило меня заболеть паршой, и болел, пока не вырос, и шапку приходилось напяливать до ушей…
– Нет, сеньор, нет; это так, чтобы нам лучше понимать друг друга – я уж смекнул, что вы не здешний…
– Нет – нет, не потому, что мне до этого есть дело, а чтобы вы меня понимали. А то вот был у нас, к примеру, один десятник из Мурсии, так хоть мы с ним и говорили по – ихнему, а все едино друг друга не понимали… Так вот, я и говорю, что были это Шанчик Клешня, или Матерый, или Слон, и с ним Аладио Окурок, или Иглоед, или Семь Юбок, или Полубаба, тоже как вам сподручнее его называть, потому что у нас, слава богу, есть из чего выбрать… Ну, смехом – смехом, окружили они меня и давай хлопать по спине, да Окурок щиплет за ляжку по своей поганой привычке, да еще норовят мне покрывало на голову накинуть. Я с ними расстался в таверне Носатого третьего дня, то есть еще в субботу, когда они начинали очередную свою гулянку, из тех, что прославили их во всей Аурии и ее окрестностях. А уж в гулянку они как влезут, так не вылезут, пока не свалятся где‑нибудь – обычно в переулке или на дороге за городом, – а там их потом подберут соседи или полиция, стащат в каталажку и держат, пока хмель не выветрится или пока братья не придут за них просить. Брательники‑то у обоих люди работящие и толковые, им аж тошно, что в их семьях такие непутевые парни выросли, ну да и у хороших людей напастей хватает… И я тут вовсе не возвожу клевету на своих лучших друзей и не говорю о них ничего такого, чего бы весь свет не знал, как у нас говорят.
– Ну да, господин начальник; да и с чего бы я стал отрицать? И я в такие попадал, бывало. Но в этот раз было не так. Не так, потому что еще с начала той недели, вот как бог свят, я себе положил помириться с моей… ну, с Балаболкой то есть, и приносить ей заработок каждую субботу, чтобы соблазнов было поменьше. Что есть, то есть. Если уж на то пошло, то и я такой же, как они, – ни лучше, ни хуже, но в этот раз я уж точно решил стать другим человеком или вести себя по – другому, что в общем– то одно и то же… Так вот, схватили они меня за руки и заставили кружиться с ними, и заставили смеяться с ними, и гоготали мы все втроем до посинения, и в общем этом гоготе все время слышен был голос Окурка, который когда смеется, так будто курица кудахчет; поэтому я и не люблю смеяться с ним за компанию там, где есть люди: очень он привлекает к себе внимание. И много раз, помню, когда мы с ним пускались гулять напропалую из кабака в кабак, я старался не смеяться, чтобы и ему не пришло в голову заквохтать как потаскушка, потому что тогда все будут оглядываться и прохаживаться на наш счет.
И хорошо было видно, что они догуливают весьма изрядную попойку: оба были еще очень теплые. Окурок обвязался покрывалом вокруг пояса, навроде юбки, и пошел плясать, напевая «Морронго», совсем как та бесстыжая девка, что приезжала на праздник Тела Господня[5]5
Праздник в честь основания таинства евхаристии, отмечаемый католической церковью в первый четверг после Троицы.
[Закрыть] танцевать в кафе Менденуньеса. И так и вьется вокруг Клешни с ужимками продажного мальчика, а этот вроде бы его не подпускает к себе и машет руками, будто мух отгоняет. Потом приближается к нему и начинает его лапать да прижиматься, и оба хохочут как полоумные, а Окурок еще блеет как‑то в нос, гнусаво, как белошвейка… Потом снова набросили себе покрывала на головы и пошли болтать по – кастрацки, подражая барышням с их хахалями:
– Как вы себе поживаете?
– Ужасно прекрасно, только вот сомлела вся от температуры…
Не знаю почему, но как скажут «температура», так оба покатываются со смеху – вот – вот задохнутся.
Меня от этого с души воротило – как я вам уже много раз говорил, – ну, я взял и пошел дальше своей дорогой. Но не успел я пройти несколько шагов, как услышал истошный вой Клешни, обернулся и увидел, что его кореш с силой пнул его пониже живота, весь обмирая 'от смеха. Но тут же Клешня перевел дух и влепил другу такой удар посередь груди, что будто бомба взорвалась, и Окурок отлетел и размазался по земле. Я заметил, что Клешня по крайней мере не так уж и пьян, потому что у пьяных этакие удары не выходят. А поскольку Окурок, не в силах подняться, начал поливать дружка ругательствами – что‑что, а язвить‑то он умел, – то Клешня бросился на него лежачего: добавить еще ногами. И несколько пинков успел‑таки дать, пока я подоспел и стал между ними. И когда я попытался остановить его очередной удар, он меня тоже чуть не снес, потому что такого бугая, как он, я еще в жизни не видел; а кроме того, он из тех, что ничего не видят и не разбирают, когда начнут бить человека. Окурок тем временем перестал ругаться, но по – прежнему валялся на дороге и хныкал, теперь уже голосом ребенка. Мне было его жалко, и я не знал, что делать. Клешню водило из стороны в сторону, он весь скрючился и матерился вполголоса, держа руки на больном месте, будто ему совсем невмоготу. Я помог Аладио подняться и сказал им:
– Это у вас потому, что меры не знаете, когда пьете.
– Чья бы корова мычала… – пробормотал Окурок, который найдет что сказать и на смертном одре. А сказав, накинул себе покрывало на голову и пошел.
– Стой, дерьмо собачье!.. – прошипел Клешня. – Подожди, вот разогнусь, я тебе все нутро выгрызу, провалиться бы матери, которая тебя породила!..
– Не угрызешь, подавишься, – прокудахтал дружок, со своим смешочком белошвейки, и засеменил так быстро, как ему позволяли его коротенькие ножки и мелкие шажочки. Клешня вдруг выпрямился, в два прыжка догнал его и повалил вниз лицом, неистово молотя ему по ребрам и вцепившись зубами в загривок – ну точь – в-точь рассвирепевший пес, до того обезумел. Окурок извивается, губы у него трясутся, а и стонать‑то уже не может… Было мне работы их растащить, и думаю все же, что если я и совладал с Клешней, то только потому, что в этот самый момент стала видна приближавшаяся упряжка. Уже слышны были рев мулов и крики погонщиков…
Тогда Клешня оторвался наконец от собутыльника, проводя ладонью по губам и сплевывая. День наступал очень медленно, и к тому же темный из‑за низких туч, но было тошно» от одной мысли, что их могут заметить в таком виде: – один в рубахе, разодранной вконец, и губы в крови, а другой валяется на земле, весь истерзанный и будто мертвый. Но, кстати говоря, про них никогда ничего точно не знаешь. Все их гулянки были такие, с руганью и мордобоем, пока не дойдет до того, что кто‑то из двоих уже и на ногах не стоит, а потом глядишь – они снова друг друга ищут. Никогда никому не удавалось понять, что это за любовь у них такая, что терпеть один другого не может, но точно: друг без друга они не шлялись, и я никогда не видел, чтобы они пили порознь – словно, чтобы ходить вместе, им непременно нужно было пить. И ведь когда не куролесят, так вроде и не знакомы, почти не разговаривают: здорово – пока, будто стыдятся один другого. А как сойдутся опять, так только и дерутся – и самым подлым образом. И самое странное – если кто вдруг начнет смеяться над Окурком, откуда ни возьмись выскакивает дружок и лезет с кулаками, и много уже потасовок было из‑за этого: неизвестно почему Шанчик вбил себе в башку, что должен защищать какого‑то ублюдка. Окурок с виду был жирненький и рыхлый, как сливочное масло, но язык у него был здорово подвешен, и он пользовался этим, наперед зная, что будет драка: Клешня встанет за него и другие ввяжутся – ради Клешни, разумеется, а не ради этого гаденыша… А как умел Окурок изводить людей – и своим особым взглядом, и своей улыбочкой, и словами, которыми он кидался как грязью в стену, выискивая у человека самое больное место – в этом ему просто равных не было! Когда ему что‑нибудь говорили в шутку, намекая на его ремесло – ну, скажем, «из семи портных не сошьешь одного человека» или что‑то другое, – он начинал жалить как змея, да так злобно, что просто не знаешь: стерпеть ли и отмолчаться или набить ему морду так, чтоб надолго запомнил.








