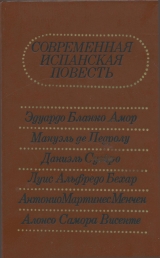
Текст книги "Современная испанская повесть"
Автор книги: Алонсо Самоа Висенте
Соавторы: Эдуардо Бланко-Амор,Луис Альфредо Бехар,Мануэль де Педролу,Антонио Мартинес Менчен,Даниель Суэйро
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 34 страниц)
СРЕДА, 29
Сегодня, когда мы весело и шумно собирались завтракать, Хулито предложил сделать это в Пардо. Похожее на опьянение состояние приподнятости и эйфории не оставляло нас всю неделю – мы жили как пьяные все это время: бесконечные разговоры, ожидание официального сообщения, постоянный обмен слухами производили на нас дейст вие, подобное алкоголю. И где бы мы ни были – в министерстве, на улице, – говорить могли только об одном… Кажется невероятным: двенадцать дней прошло, как Карлос сообщил мне, что он умер, а мы все еще ждем неизбежного конца, который никак не наступает.
Эта неделя тянулась как год. После официального сообщения о сердечном приступе мы живем в постоянном лихорадочном возбуждении. Никогда не видел, чтобы люди столько разговаривали по телефону, покупали такое количество газет и столько времени проводили у радиоприемника, как в эти дни. А больше всего меня поражает, какое количество газет проглотил я сам… Бесцветные и примитивные испанские газеты, в течение стольких лет лишь раздражавшие нас и нагонявшие скуку, вдруг стали самым волнующим чтением.
Волнующим… Ни один текст в мире не способен вызвать тех чувств, что первая полоса «Нуэво диарио», где огромными буквами набрано: «ФРАНКО АГОНИЗИРУЕТ!» Читая эти слова, испытываешь почти физическое наслаждение. Нечто, так глубоко притаившееся в наших чувствах, что мы и определить это не можем, ударяет по на шим нервам и вызывает внутреннюю дрожь, когда мы видим бросающиеся в глаза слова «ФРАНКО АГОНИЗИ РУЕТ»…
Разве возможно, чтобы в стране, где слова «Смерть Франко» легко могли повлечь за собой смерть того, кто их произносил, любое сообщение об этой смерти не повлекло нездоровую реакцию? Привычка к отфильтрованной, тщательно отобранной информации вызывает у нас реакцию, чем‑то напоминающую поведение ребенка, который с болезненным наслаждением безнаказанно засоряет свою речь запретными непристойными словечками, втайне ассоциирующимися у него с грехом и наказанием. Такое же нездоровое удовольствие скрывается – независимо от их взглядов – за покаянным и уважительным тоном журналистов, которые наконец нарушили табу и могут писать в своих газетах, что он серьезно болен, что он агонизирует и скоро умрет… И, без сомнения, именно это греховное удовольствие ребенка, тайком от взрослых снова и снова повторяющего запретные слова, усмотрел Ревностный Исследователь во внешне почтительной редакционной статье, которая появилась в воскресенье на первой странице «Нуэ– во диарио» под заголовком «ФРАНКО АГОНИЗИРУЕТ!». Эта глухая, нездоровая, исполненная чувства вины радость зажгла кровь верного стража и наполнила желчью и угрозами его филиппики на страницах «Арриба», а появившаяся сегодня утром в «Нуэво диарио» робкая покаянная реплика продиктована ощущением вины, которое возникает у человека, уличенного в тайном грехе.
Мы говорим об этом, пока Луис ведет машину по направлению к Пардо. Прекрасное солнечное утро, и по чистому, суровому небу изредка торжественно проплывают белые облака. Наверное, это прекрасно – умирать в такое утро, когда небо – как на картинах Веласкеса и кругом разлит веласкесовский свет, который золотит вершины дубов на берегу Гвадаррамы, там, за окном. Да, наверное, это прекрасно– агонизировать таким утром, особенно после того, как в течение сорока лет человек был полновластным хозяином этих дубов и всего того, что омывает сейчас веласкесовский свет, – хозяином природы и крестьян, хозяином всего, что приносит плоды, что движется и дышит. Есть особое удовлетворение в том, чтобы знать: челрвек, который сорок лет мог распоряжаться жизнью и смертью других, сейчас уже не в состоянии распоряжаться даже собственной смертью…
А ведь всего лишь месяц назад этот немощный и дряхлый старик распорядился – в последний раз – несколькими человеческими жизнями[52]52
Имеется в виду смертный приговор пяти антифранкистам, вынесенный после судебного процесса в Бургосе. Франко, несмотря на протесты испанской и мировой общественности, утвердил этот приговор.
[Закрыть]. В его руках было несколько молодых жизней, и как бог, как существо, считающее себя бессмертным, он, невзирая на всеобщее негодование, раскрыл, как делал это бессчетное количество раз раньше, свои деревенеющие руки, и пять молодых жизней упали в бездну смерти.
В течение нескольких дней я тешил себя надеждой, что смерть придет за ним 27–го, ровно через месяц – день в день – после приведения в исполнение последних вынесенных им смертных приговоров, надеясь увидеть в этой магической точности доказательство справедливости истории. Я надеялся, что если случится именно так, то дата его смерти даст основание для новой легенды, что, умри он именно 27–го, это было бы расплатой за пролитую кровь. Но сегодня уже 29–е, а он все еще жив. Уже никто не сможет говорить о магии совпадения чисел, никто не сможет связать его смерть с днем, когда в последний раз была им пролита человеческая кровь. Нельзя будет сказать: жизнь за жизнь, а просто: в одной из комнат своего дворца, омытой веласкесовским светом, умирает, обманув наши мечты о мести, старик, обычный старик.
Знак предупреждает нас, что мы въезжаем в зону, где дорогу могут пересечь дикие животные. Косули Пардо – с кротким взглядом, смирные, почти ручные, – в которых он стрелял из своего укрытия, когда они подходили к водопою… Мы уже проезжаем Сомонтес… Я вспоминаю, как в начале пятидесятых, когда я был не то на первом, не то на втором курсе юридического факультета, я приезжал сюда, чтобы повидать мою сестру Лили: ведь здесь, на Сомонтес, было общежитие юношеского отделения женской секции фаланги[53]53
В целях воспитания детей и подростков в духе доктрины фаланги в мае 1941 г. был создан так называемый Фронт молодежи, состоящий из мужских и женских секций.
[Закрыть]. Моя сестра в те годы постоянно жила то в одном, то в другом оздоровительном лагере. Худенькая, бледная, безучастная – у нее, кажется, были все задатки, чтобы пополнить собой число жертв модной в ту пору болезни и чтобы в ее легких поселились палочки Коха, о которых была сложена песенка. Выходя из школы, тощие и бледные мальчишки, не отдавая себе отчета, что смертельная болезнь уже свила себе гнездо в глубоких темных кругах под их глазами, на мотив американского гимна весело мурлыкали себе под нос «Мы, туберкулезники». Мой отец, человек более прозорливый, понимал, что грозит его дочери, и боролся изо всех сил. Он пошел бы па сделку с самим дьяволом, чтобы спасти детей. Но это не понадобилось. Оказалось достаточным пойти на сделку с женской секцией фаланги в лице одной из сестер отца, избранной пожизненной делегаткой от нашего родного города. Благодаря ее связям отец добился, чтобы Лили, надев голубую рубашку, стала постоянной пациенткой оздоровительных лагерей для франкистской молодежи. И это позволило ей обмануть судьбу и пережить «дни Империи»[54]54
В политической программе испанского фашизма важное место занимало продиктованное идеей национального величия стремление к воссозданию Империи, в которой люди будут объединены единой фанатической верой и единой властью. Одип из паиболее распространенных лозунгов тех лет – «Вперед, к Империи Бога!». Позднее франкистская пропаганда отказалась от этого положения своей доктрины.
[Закрыть], хотя за это и пришлось расплачиваться принудительным воспитанием в духе патриотизма и верпоподдаииичества.
А сейчас, когда мы проезжаем Сомонтес, направляясь в Пардо, я вспоминаю один эпизод той поры, который сестра рассказала мне много времени спустя. «Я никогда не забуду, – говорила она, – как потряс меня один случай, когда еще девочкой я была в фалангистском лагере в Сараусе. Однажды во время одного из наших то ли спортивных, то ли патриотических походов мы проходили через рыбацкий поселок Гетариа. Было серое, пасмурное и грустное утро. Волны с глухим рокотом бились о берег, острый запах моря смешивался с запахом влажной травы. Как обычно во время таких походов, мы шли строем; патриотические и военные песни по приказу нашей воспитательницы сменяли друг друга. Так мы вошли в деревню. На берегу женщины, одетые в черное, чинили сети; оборванные, босые ребятишки бегали по мокрому песку; кричали, кружась над самой землей, чайки; дома стояли печальные и темные. Несмотря на то что я была еще ребенком, я почувствовала странное раздражение, глядя на эту нищету. Мы бодро шагали в голубых рубашках, распевая песни о светочах, о весне, о далеких снежных вершинах…[55]55
Песни 40–х годов, проникнутые националистическими чувствами, воспевающие величие Испании и победу Франко.
[Закрыть] И когда мы проходили мимо женщин, одетых в черное, женщин, сидевших прямо на земле и чинивших сети, те отрывались от работы и смотрели на нас. С тех пор прошло много лет, но я не могу забыть этих глаз. Никогда больше я не видела такой напряженной ненависти, которая читалась во взглядах тех женщин, во взгляде каждой из них, без исключения. И эту ненависть вызывали мы, девочки в голубой форме, которые с песней маршем проходили через поселок. Весь поселок, этот грустный поселок, где воздух был пропитан нищетой и угнетением, молча ненавидел нас…»
Что до твоего детства, то я всегда боялся говорить о нем с тобой – те годы настолько ужасны, что я стараюсь не касаться их, как мы стараемся держаться подальше от людей, разбитых параличом, от неизлечимых больных, одно только присутствие которых наполняет нас необъяснимым ужасом. Поэтому о годах вашего страшного детства у меня только отрывочные и разрозненные представления… Разрозненные, заставлявшие меня содрогнуться эпизоды, которые ты иногда рассказывала, за долгие годы совместной жизни постепенно, как части головоломки, складывались в моем сознании в единое целое, и моему воображению понемногу представилась мрачная картина вашего детства.
Один из таких фрагментов – сиротский приют «Санта Джемма Галгани»… Сиротский приют для дочерей красных в третий Триумфальный год!.. Какой была ваша жизнь там?.. Я никогда не заговаривал об этом, чтобы не бередить твои воспоминания, поэтому я мало что знаю о том, как вам жилось. Знаю только, что вы были одиноки – каждая из шестисот девочек была воплощением одиночества. Знаю, что там была крыша с террасой, где вы проводили почти целый день. Там, под открытым небом, вы были готовы сколько угодно дрожать в своей легкой одежде, лишь бы поглядеть на унылые дворы, где между окоп были протянуты веревки, на которых сушилось белье; па мрачные проломы в стенах домов, куда попали снаряды; на разрушенный Мадрид, где повсюду виднелись следы войны; на трамвайчики, с такой высоты казавшиеся ма ленькими, будто игрушечными; на толпы людей, висящих на подножках. Я знаю только, что в приюте «Санта Джемма Галгани» был длинный подвал, где стояли железные кровати. В том подвале пахло крысами, там не было ни одного окна, и свет давала лишь жалкая лампочка, свисав шая с потолка посредине этого длинного туннеля. Я знаю еще, что неподалеку протекала подземная река, воды ко торой просачивались в злосчастный туннель, служивший спальней дочерям красных, и что вода стояла на цементном полу, и ножки железных кроватей почти на ладонь уходили под воду. Я знаю, что вы голодали, голодали так сильно, что, надеясь улучить момент и съесть потихоньку очистки, спорили из‑за того, чья очередь часами чистить картошку с монастырского огорода… Я знаю, как трескались ваши ручонки, когда вы в ледяной воде стирали юбки, рубашки, нижнее белье монахинь… И как одежда, в которой вы дрожали от холода, и никогда не менявшееся нижнее белье чернели от нищеты; как кишела вшами ваша одежда – теми вшами, которые в годы, когда бредили Империей, были разносчиками самой распространенной болезни – сыпного тифа. Да, это, пожалуй, все, что я знаю о сиротском приюте «Санта Джемма Галгани»…
Мы приехали в Пардо в разгар агонии. Здесь царит приподнятая атмосфера. Около дворцовой ограды волнуется живописная толпа. В основном площадь заполняет собирающаяся группками молодежь. Юноши почти все с бородами, девушки – с длинными волосами, многие в куртках, с японскими фотоаппаратами; девушки – в джинсах, вид у них решительный и серьезный; и у всех собравшихся характерный для журналистов беззаботный и в то же время агрессивный вид. В центре площади, напротив главного входа, несколько мужчин явно восточного тина – должно быть, японцы – устанавливают телеаппаратуру. Молодая девушка несколько раз щелкает японских корреспондентов своим аппаратом «Никон».
– Смотри, флаячок поднят, – говорит Луис.
– Какой флажок? – спрашиваю я.
– Его превосходительства, – отвечает Луис. – Разве ты не знаешь, что у Его превосходительства есть свой флаг?
– Какой флаг?
– Ну ты и отстал, тоже мне, писатель! Посмотри, ви дишь вон на окне флажок? Это он и есть. Если он поднят, значит, Его превосходительство еще жив. А если бы он умер, флаг бы приспустили. Так что не выпускай его из виду, может, он нам принесет хорошие новости, а пока пошли перекусим…
Страх… Когда он появился, когда пустил свои корни в вашем сознании, во всем вашем существе? Однажды ты призналась мне, что в течение долгих лет испытывала безумный ужас, случайно столкнувшись на улице с обычным полицейским. Ты проходила мимо него, испуганно сжавшись, думая, что он может тебя остановить, задержать, применить насилие, причинить тебе боль… Ты была уже почти взрослой женщиной, но продолжала бояться. Ты знала, что это смешно, но страх был иррационален, и ты не могла избавиться от него. Завидев полицейскую форму, ты чувствовала судороги в желудке, чувствовала, как по телу проходит дрожь, и ничего не могла поделать– это было неподвластно воле разума… Страх выжжен огнем, и стереть его ничто не в силах.
Мы с тобой только познакомились, когда проводился референдум [56]56
Референдум 1969 г., при помощи которого Франко провел закон о наследовании.
[Закрыть] вокруг которого телевидение Фраги[57]57
М. Фрага Иррибарне – министр информации и туризма в правительстве Франко.
[Закрыть] подняло такую пропагандистскую кампанию, что люди были убеждены, будто, если они проголосуют «против», снова вспыхнет гражданская война. Я помню, как трудно было убедить тебя, что ничего не случится, если ты не примешь участия в этом фарсе, что никакое ужасное возмездие не обрушится на головы тех, кто воздержится от референдума. Мы пришли к тебе домой, и помню, как я был возмущен, узнав, что твоя мать и тетка голосовали, и голосовали «за». Конечно, то, как они голосовали, большого значения не имело: я никогда не считал, что результаты референдума – а почти никто точно не представлял себе, за что он голосует, – могут как‑то сказаться на нашем будущем. Участие в референдуме было жестом, жестом подчинения воле диктатора, и это возмущало меня больше всего. Тогда твоя мать сказала, что в их отделении социального страхования говорили, будто тех, кто воздержит ся от референдума, лишат пенсии. А когда я, отказавшись от попытки убедить ее, что это неправда, сказал, что по крайней мере она могла бы проголосовать «против» или опустить пустой бюллетень, она возразила: «А кто поручится, что этот тип за столом не увидит, что я написала…»
Как можно жить целых сорок лет под гнетом страха? Таким семенам мог бы позавидовать любой – спустя сорок лет они все давали и давали всходы! Конечно, именно этого добивались те, кто с первых же часов мятежа ввели политику террора, не говоря уже об их садизме и природной жестокости. Террор, тщательно отмеренный и продуманный, террор, отвечающий тем же целям, что преследовал Ашшурнасирпал[58]58
Ассирийский царь (889–859 до и. э.), известный необыкновенной жестокостью.
[Закрыть], террор, продиктованный элементарной животной логикой, свойственной человечеству на заре его истории. Но еще никогда в истории, начиная с ассирийских племен, не применялся он с такой холодной и методичной расчетливостью, как это делали в 30–е и 40–е годы современные диктаторы. Никогда раньше в истории человечества жестокость не прибегала к научным методам…
Девочка, возвращающаяся из колехио, которая, завидев идущего навстречу полицейского или военного, переходит на другую сторону. Девушка, взрослая женщина, которая старается промолчать, которая никогда не высказывает своего мнения, никогда не спорит с теми, кто работает бок о бок с ней, как бы ни задевали ее их суждения. Старая женщина, которая покорно подчиняется приказам тех, кого ненавидит, и пополняет собой число верноподданных, которым как доказательством своей общенародной популярности с победным видом похваляются те, кого она ненавидит, – и все это только потому, что у нее еще живы в памяти страшные впечатления о тех далеких днях их победы. Торжествующий дрессировщик, взгляни же на незаживающие следы от твоего хлыста! Взгляни на покорное животное, которое, дрожа, распластывается у твоих ног!.. Взгляни же на страх и ужас, которые ты посеял в целой стране, на страх, в котором в течение десятилетий ты топил целую страну, и перед лицом конца, конца этого страха, конца твоей эпохи, твоей жизни, пойми, что все было напрасно… Хода Истории не может изменить ничто.
Позавтракав, мы выходим из бара. Вечером тут, навер ное, будет гораздо больше народу: сюда придут его сторонники и, с напряженными лицами читая молитвы, будут стоять у ограды дворца. На груди у них будет болтаться транзистор – чтобы не пропустить последних известий. Да, этот парад верноподданных, наверное, впечатляющее зрелище. Но и опасное – ведь у этих людей нет чувства юмора и шутить с ними нельзя. Тогда нужно будет вести себя осторожнее, чтобы никто не заметил праздничного настроения и скрытой издевки, разлитых в воздухе площади сейчас.
Вчера вечером здесь, кажется, были столкновения. Итальянское телевидение проводило съемку, а полиция им запретила. Послышались протесты, возражения, было применено и физическое насилие. Одному испанскому фоторепортеру пришла в голову неудачная мысль снять этот инцидент. Вот тогда‑то и вмешались фанатики. Они выхватили фотоаппарат, растоптали его и, полные жажды мести и праведного гнева, чуть не линчевали репортера. Говорят, что от этого ужасного конца его спасли те же полицейские, которых он пытался сфотографировать за исполнением служебных обязанностей.
Это напомнило мне один случай, свидетелем которого я был еще в студенческие годы. Я возвращался по проспекту Кастельяна из Чамартина после международного футбольного матча – если не ошибаюсь, между Испанией и Ирландией, ведь в те годы наши международные контакты сводились к встречам с Португалией – другом и соседом – не традиционно католической Ирландией… Трамваев, которые ехали из Чамартина, почти не было видно – столько народу висело на подножках. У всех еще была жива в памяти трагедия, которая потрясла весь Мадрид. Трамвай, ходивший в Карабаичель, набитый битком, как и трамваи, проезжавшие мимо меня сейчас, на Толедском мосту упал в воду. Было много жертв, и газеты, несмотря на то что в те времена рты у них были крепко зашиты, все же писали о том, что мадридцы постоянно подвергают опасности свою жизнь, пользуясь общественным транспортом, робко и осторожно возлагали они ответственность за несчастный случай на Толедском мосту на муниципалитет. И вдруг иностранная машина с австрийским номером притормозила, один из ее пассажиров опустил окно и начал фотографировать эти переполненные трамваи, возвращающиеся со стадиона. Но фотограф не подумал о фанатиках…
Какой‑то тип с хищной мордой, ввалившимися щеками и подрезанными усиками, шедший прямо передо мной, первым заметил это и заорал как одержимый: «А ну, покажем этим иностранцам! Еще фотографируют нас!» Его призыв не остался без ответа. Многие из тех, что шли пешком, присоединились к нему и плотным кольцом окружили машину. А те, кто, как рой пчел, висели на подножках, спрыгнули прямо на ходу и присоединились к угрожающе кричащей толпе. Среди криков и проклятий слышалось: «Это они из‑за Толедского моста», «Негодяи, собираются разводить антииспанскую пропаганду! Кто вам платит, ублюдки?» Австрийцы успели выскочить из машины до того, как патриотическая орава перевернула ее. Недалеко от места происшествия была какая‑то стройка, и иностранцы успели добежать туда. Они забрались на груду песка и щебня, и один из них, длинный блондин, схватил жердь и, крутя ею перед собой, держал толпу на расстоянии, пока не подоспели полицейские, которые, разогнав собравшихся, арестовали виновников происшествия. Я пошел дальше, думая об этом неожиданном взрыве ярости, об этой ложной стыдливости. Люди, висевшие на подножках трамваев, ездили так каждый день, что было не только неудобно, но и опасно; эти же люди всего лишь несколько дней назад возмущались трамвайной компанией, ответственной за ужасное положение на городском транспорте, результатом которого стала трагедия на Толедском мосту, эти самые люди теперь при мысли, что какие‑то иностранцы расскажут позорную правду, вели себя с дикой злобой, хотя это шло вразрез с их интересами… Действиями этих людей руководила Национальная Гордость, Гордость, которую он так хорошо умел использовать, которую он взрастил и поощрял. Эту Гордость использовал он, когда как доказательство прочности своего положения организовал демонстрацию на Пласа‑де – Орьенте[59]59
Площадь перед королевским дворцом в Мадриде.
[Закрыть] после осуждения режима Организацией Объединенных Наций[60]60
Имеется в виду принятая в декабре 1946 г. резолюция Генеральной Ассамблеи ООН об отзыве из Испании послов государств – членов ООН и о недопущении Испании в специализированные учреждения ООН.
[Закрыть]. Эга национальная гордость, параноическая сверхчувствительность, этот комплекс неполноценности оборачивался яростным самоутверждением, и он умел это использовать к своей выгоде, поддерживая измышление, будто бы критиковать его или его режим – значит критиковать Нацию, будто он и Испания неделимы. Поэтому изоляция его на международной арене приравнивалась к изоляции всей страны, а его паранойя превратила нас в параноическую страну; страну, замкнутую на самой себе, готовую ощетиниться при малейшем намеке на критику извне; недоверчивую, подозрительную и одетую в броню гордости страну. Эта гордость всегда готова была прорваться во вспышках неконтролируемой ярости при мысли, что о нашей нищете – о ползущих по мосту переполненных, набитых людьми, трамваях – узнают за пределами наших границ, что наши самые сокровенные секреты будут открыты на всеобщее обозрение и что эти преследовавшие нас иностранцы будут безнаказанно насмехаться над нами.
Эта же настороженная обидчивость движет фанатиками, которые каждый вечер собираются здесь, на этой площади, придавленные мыслью о его неизбежном конце. Но сейчас полдень, и я, глядя на молодых репортеров, на веселых любопытствующих, старающихся скрыть свою радость, на тех, кто с тайным наслаждением подкарауливает его смерть, думаю, что и мы, противники режима, тоже подвержены паранойе, и, хотя внешне наш недуг совсем не похож на одержимость фанатиков, причина его в обоих случаях одна и та же. Да, мы тоже нередко отождествляли Родину, Нацию, Испапию с режимом – как он того и хотел. И если у одних результатом стала ложная гордость, то у других – мазохистское отрицание… Это отождествление нации и франкистского режима заставляло нас, противников этого режима, радоваться любому национальному поражению, радоваться нашим бедам, нашим неудачам на международной арене, обвинениям зарубежной печати в наш адрес… Это ошибочное отождествление заставляло нас отказываться от нашей собственной истории – ведь они присвоили ее и закрыли для нас, – и это заставило нас искать – в противовес их триумфалистской демагогии – самые мрачные и жестокие стороны в процессе саморазрушения, который мы именовали развенчанием национальных мифов собственной истории… Из‑за этого отождествления нас нередко называли «Антииспанией», дискредитируя нас этим словом, потому что то представление об Испании, которое было у них, никогда не могло стать нашим, а раз любая альтернатива для нас закрывалась, значит, мы превращались в бездомных бродяг, скитавшихся во тьме, как проклятая тень Каина. Бездомные сироты, порождение той ненависти, которая была не чем иным, как отражением их собственной ненависти, лишенные всего, даже скромного права чувствовать гордость и единство с братьями по крови, мы, побея «денные, или те, кто отождествлял себя с побежденными в. мелодраме, в которую они ради защиты собственных интересов превратили нашу историю, могли рассчитывать только на невыгодную роль предателей. И, оказавшись изгнанниками на собственной земле, мы вследствие этого ложного отождествления оказались приговорены к самому бессмысленному – к добровольно принятому – одиночеству…
Мы возвращаемся на работу. Сегодня мы завтракали слишком долго. Осталась позади площадь с журналистами, с любопытными, которые, как стервятники, караулят его смерть; площадь, которая вечером заполнится фанатиками – они любят его, не зная за что, иррациональной, инстинктивной любовью, и поэтому будут читать молитвы и слушать транзисторы в надежде на несбыточное чудо… А по дороге Луис, Карлос и Хулио говорят все о том же: эту ночь он не переживет… Наверное, они правы. Завтра наконец его уже не будет. А мы?.. Что будем делать завтра мы?








