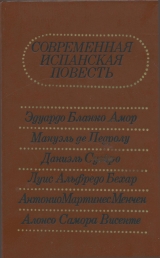
Текст книги "Современная испанская повесть"
Автор книги: Алонсо Самоа Висенте
Соавторы: Эдуардо Бланко-Амор,Луис Альфредо Бехар,Мануэль де Педролу,Антонио Мартинес Менчен,Даниель Суэйро
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 34 страниц)
ГЛАВА III
– Нет, сеньор, нет. Не о том речь, что у меня сегодня больше или меньше охоты говорить, чем вчера… Просто теперь мне нужно каждую вещь десять раз обдумать, прежде чем сказать. Давеча перебирал я в голове эти события до самого утра – черт меня возьми, если хоть немного вздремнул, – но они, проклятые, перемешались, так и вертятся в мозгах все разом, и одно налезает на другое – теперь уж и не знаю, что было раньше, что позже. И мне кажется даже, что не могло столько всего произойти за одну ту ночь. Такое бывает разве во сне: тебе кажется, что и конца ему не будет, а на самом деле – один момент… Потому я вам и говорю: та ночь, со всем, что приключилось, – это как целое скопище ночей, сцепившихся одна с другою, без единого дня промеж ними, или же вот так, как я вам сказал… Теперь уж и не знаю, с чего начать.
– Хорошо, пусть так… Значит, факты… Факты – это то, что мы совсем обалдели от выпивки и усталости и пе знали, куда теперь податься: дела были чем дальше, тем хуже, и мы уже боялись пойти хоть куда‑нибудь, где нас знали – а знали нас повсюду…
А погода еще раз повернула на холод. И на окраинах города не было видно живой души…
Кругом были глинобитные домишки, и казалось, они вот – вот размякнут и расползутся от той гибели воды, что обрушилась на них за день. С севера налетали, крутясь, порывы ветра, подхватывали и разносили по воздуху струйки воды, еще падавшей на мостовую с водостоков.
Проходя через Воздушные Ворота, мы прямо‑таки сгорали от зависти, заглядывая в окна трактиров, открытых и полных народу, но зайти так и не решились. Клешня больше всех беспокоился, чтобы его не увидели, и все шагал себе вперед – размашисто, молча озираясь по сторонам. На мосту святого Косьмы мы припали к каменной чаше и стали пить из нее, да так жадно и такими большими глотками, что тут же выдали назад все, что было съедено и выпито. Рвало нас всех троих, извините за выражение, как чумных собак, так, что просто душа наизнанку; однако же со всем тем сошла у нас и тяжесть с души, и стало нам легко и весело, как детишкам, и не знаю почему…
Где‑то вдалеке часть неба полыхала заревом, и каждый из нас поглядывал в ту сторону, когда думал, что другие не видят. Но ничего мы друг другу не сказали, словно мы тут вовсе ни при чем… Я шел и думал, что пожар‑то, видать, разгорелся так сильно и вдруг оттого, что огонь перекинулся на кучу дров – ту, что была навалена у самого погреба, я хорошо ее видел, когда винокур выходил за хворостом для нашего очага…
Наконец мы дошли до Кузнечного квартала, где для начала завернули в подворотню – решить, что делать дальше, не шататься же вот так всю ночь, да еще когда холодало с каждой минутой.
– Сколько у вас денег? – спросил Шанчик. У меня‑то не было почти ни шиша: весь заработок я отдал Балаболке.
– У меня десять песо, и мы их спустим за милую душу сегодня же ночью, – сказал, ужасно важничая, Окурок.
– У меня четыре или пять… Но чтобы гулять дальше, этого хватит, и еще останется, – заявил Клешня.
– Я иду домой, то есть в материн дом, – сказал я, и это была чистая правда. Не было у меня никакого настроения и дальше валять дурака – достаточно мы уже сваляли.
– Ты, парень, в своем уме? Да после всего, что мы устроили, тебя первым делом будут искать у Балаболки или у матери. Ты что думаешь, – они дураки? – сказал Клешня. – Сейчас гуляем дальше, а завтра видно будет.
– Мне они ничего не повесят, и незачем им меня искать 5 ничего я такого не сделал и ни с кем в драку не лез.
– Да? А кто запустил лампой и поджег имение?
– Она у меня выскользнула из рук… И я не нарочно… Откуда же я знал, что оно так полыхнет, будто бомба взорвалась! И виноват я, что ли, что дрова были рядом? Иди ты…
Какое‑то время мы еще стояли и ругались, но шепотом – как бы кто не услышал, а ругаться шепотом – это все равно что не ругаться вовсе, и не было интереса продолжать. Поэтому когда и тот и другой мне растолковали, что влипли мы все одинаково, то мы подумали и решили, с вашего позволения, пойти по бабам. Хотя, скажем, Окурок от этой мысли в восторг не пришел и выставил условие: идти не в дом Ноно, а в дом Монфортины, не знаю уж почему…
Только в дом Монфортины нас не пустили: у них, дескать, были какие‑то заезжие иностранцы высокого пошиба, которые сняли дом целиком на всю ночь, вперед за все заплатили и приказали запереть дверь… Узнали мы об этом от знакомой девки по прозвищу Зад – назад, а она, пока рассказывала, держала верхнюю половинку двери открытой, а нижнюю – закрытой, как бы давая нам понять, что не пустит. А высунулась ответить только потому, что признала голос Клешни – его она очень уважала, да и не она одна. Наш Шанчик был мужчина хоть куда, и его в один голос расхваливали все шлюхи – так люди говорили. Вот Зад – назад и перегнулась из‑за двери – видно, не прочь была с нами минутку поболтать.
– Пресвятая дева, да как же это вы решились‑то шляться в таком виде и в такую погоду!.. Вот кабы не эти клиенты – дружки Монфортины…
– Что ты там делаешь? – проворчал кто‑то за ее спиной, и появилась самолично Гнида, высунув свою жирную морду и багровый нос – сразу видать обжору и пьяницу!
– Ты глянь только, какие чучела огородные! Вот пришли, вместе с Шанчиком – Клешней…
– С кем пришли, с тем и уйдут, ну‑ка закрывай дверь!.. Сегодня день для клиентов поприличней. Закрывай, и кончен бал, – процедила сквозь зубы Гнида – она ведь ходит в подручных у Монфортины, как вы, конечно, знаете…
– Ой, простите, я вас не хотел оскорбить, но здесь это знают все до единого, и даже людям приличным прекрасно известно все, что происходит, простите, в домах у шлюх, словно и они тоже – люди приличные… Но ведь в таких маленьких городках, как у нас…
– Да – да, конечно. Так вот, говоря по существу дела: Клешня сказал ей, чтобы не была дурой и если надо чего сказать, то незачем морозить людей на улице. Но Гнида, баба бедовая, ничуть его не испугалась и вылезла в проем чуть ли не всей тушей – вся такая, знаете, черная, да мордастая, да с усиками – и как заорет на всю улицу:
– Пошли вон отсюда, лодыри, развратники, или сейчас жердину возьму! Вы что себе думаете, что я вас по – мужски шугануть не могу? – И тут же ввалилась обратно, заметив, что Окурок вот – вот в нее вцепится.
– Идите уж, – сказала нам Зад – назад, более дружелюбным тоном, – а то пройдут сейчас фонарщики с городовым…
– А нам‑то что за дело до фонарщиков с городовым? – сказал я ей, чтобы продолжить разговор, а еще затем, чтобы узнать, не было ли им еще чего известно о моих дружках. Я уже кое‑что подозревал…
– Ах вы ж проклятые!.. – голосила тем временем Гнида. – Закрывай дверь, ты, Зад – назад! И кто их только сюда послал, чтоб ему провалиться, ведь еще втянут нас в историю! Какого дьявола ты открыла, сука? Пошла вон отсюда!..
– Ну, теперь‑то мы войдем, хоть ты тресни! – взревел Клешня, просовывая плечо между створками и упершись коленями в нижнюю половину двери.
– Катитесь вы отсюда, оборванцы несчастные, или все у меня будете в участке!..
Я оттащил Клешню в сторону и сказал Гниде совершенно спокойно, чтобы она не вопила хоть при фонарщиках – а они были уже близко.
– Ну что уж ты так‑то, тетя?.. Надо же по – человечески… Мы – ребята молодые, сегодня гуляем, в кармане деньга завелась, надо ее потратить… И нехорошо, знаешь, если у тебя дом занят, начинать тут говорить о городовых и об участке, будто мы бродяги какие пришлые или карманники…
– Ах, чтоб тебя, ты еще откуда такой вылез? А, я тебя знаю: ты – Балаболкип хахаль… И увязался с этими? Ты что, не знаешь, что этот вот, – и она махнула рукой в сторону Клешни, – вчера человека до смерти убил в трактире Репейника? Не знаешь, нет? Так я тебе расскажу…
И, пользуясь тем, что мы замерли на миг, ошарашенные этой новостью, они захлопнули дверь и накинули шкворень. И тут в нас полетели бутылки с верхнего этажа, и в тот же момент мы услышали громкий перестук деревянных башмаков по мостовой и увидели, как к иам бежит Фермии, старый фонарщик, тыча в нашу сторону длинной палкой с горящей паклей на конце, а сам оп в соломенной накидке был похож на привидение, явившееся с того света по нашу душу. За ним, тяжело отдуваясь, бежал полицейский – судя по росту, это был Сардина. И бежал он враскорячку, как всегда, – из‑за подагры; его даже мальчишки дразнят – только чтобы увидеть, как он побежит.
– Держи, хватай! – вопили они благим матом. Бежали‑то они, конечно, на звон разбивавшихся бутылок, а нас самих заметили в последний момент. Раскрывались с треском окна соседних домов, где уже привыкли к таким представлениям, а тут еще Мария дос Асидентес выскочила в простыне из своей полуразвалившейся халупы, стена в стену с домом Монфортины, и завопила дурным голосом:
– Спасите, люди, убивают!.. Караул! Карау – у-ул! – Надо вам знать, что шлюхи ей платят – или просто кормят ее – за то, что она своим дурацким криком помогает нм разгонять неподходящих клиентов, когда те слишком нахально лезут в дом. И эта проклятая баба ломала свою комедию лучше некуда.
Нас оттуда как ветром сдуло, тем более что Фермин и Сардина были уже в двух шагах. Когда мы добежали до переулка Пена – Вишия, Клешня скомандовал:
– А теперь надо разделиться! Если увидят нас троих вместе, то сразу догадаются, кто такие. Уматывайте каждый своим путем. А попозже встретимся в доме Нонб. Входите без стука со стороны ворот Святой Троицы – там черный ход, из пего проходишь в кухню… И смотрите мне, не пропадайте…
Так мы и сделали – и вскоре снова были вместе… А теперь вот я спрашиваю себя: почему же я не воспользовался случаем, чтобы отколоться от них?.. И особенно когда знал такое…
– Может быть, оно и так, как вы говорите. Никто никогда не видит себя таким, какой он есть на самом деле… И вообще, на все воля божья!.. То, что я думал потом, мог ведь подумать и тогда, но не подумал же, разрази меня гром на этом самом месте. Ну, снявши голову, по волосам не плачут. Все пошло к черту, и пе о чем толковать…
А в доме Ноно нас приняли без лишних слов: меня там хорошо знали, а Шанчик и вовсе был чем‑то вроде полюбовника у хозяйкиной помощницы, у Лолы Вигезки – так ее у нас зовут, потому что она из Виго. Так вот, она от нашего Клешни была просто без ума. Вигезка‑то, как вы, конечно, знаете… или лучше сказать, как все у нас знают, это лучшая из девок, что есть у Ноно – а их там четыре или пять, – и если бы не строила из себя знатную даму, то была бы занята день и ночь, потому что она «так за душу и берет», как говорит Альмерия, конюх Менденуньеса. Но уж если она на кого глаз положит, то становится такая ласковая – при том, что она ж еще и красивая, – что поневоле думаешь: нет, прагвду о ней говорят! А говорят‑то, что она из очень приличной семьи, а если работает не в доме у Лисички – где, как вы знаете, девки идут по песо, а не по шесть реалов, как у Ноно, – то только потому, что сама не хочет. Правда, болтают еще, что она любит зашибать, и не по рюмочке беленького, как благородные, а красное стаканами… И уж как начнет пить, так и себя забывает, даже, говорят, и наизнанку её выворачивает, с вашего позволения, как и пас, мужиков, когда вот так же упьемся.
Так вот, из кухни мы прошли в заднюю комнату, где всегда и сидит хозяйка – в гостиную она выходит редко. Встретили нас не так, как бывало, и даже Ноно едва ответила, когда мы поздоровались. Первым пришел я, а следом и Окурок, и мы сказали Лоле, что Шанчик будет с минуты на минуту, от чего она сразу повеселела и стала пудриться и брызгаться духами. Ну и конечно, едва появился Клешня, она так на него и упала, сжала в объятиях и долго не выпускала. А этот хмырь еще делает вид, будто хочет ее оттолкнуть или будто дает себя обнимать с большой неохотой… Я смотрю, что мужики, которые нравятся, извините за выражение, шлюхам, – они завсегда такие: вроде бы делают большое одолжение, а бабы‑то через то и бегают за ними как оглашенные, и вы как хотите, но это уж у меня вообще в голове не помещается!
А Лола глядела иа этого скота, словно и наглядеться досыта на него не может, и оторваться от него тоже, или словно его сию минуту у нее отнимут; и глаза у нее были влажные и такие удивленные – ну прямо ангел ей с неба спустился! И ведь что вы думаете, этот олух стоит столбом, руки по швам и смотрит себе куда‑то вдаль, ровно и не с ним все это происходит. Да если б это со мной было – мать честная!.. А Лола еще зовет его «ненаглядный ты мой» и другими словами на кастильском, потому что она всегда на нем говорит. И не так, как, скажем, Зад – назад, которая была модисткой в Падерне и там заимела эту блажь говорить по – кастрацки, после чего и начала сбиваться с пути истинного. Или, скажем, другие, что идут по песо, которые говорят по – кастильски, – а пришепетывают по – нашему, – лишь бы разыгрывать из себя благородных мадридских барышень, чтобы на них лучше клевали наши барчуки. Нет, у Лолочки сразу было видно, что это ее природная речь – ведь сказывают, что родилась она в хорошей семье, и ходит даже слух, что она – дочь одного полковника из Эль – Ферроля, от которого, говорят, сбежала жена, а потом, понемногу, и дети, потому как был он большой кутила и игрок; ну, люди ведь никогда не устанут распускать всякие сплетни, поди разберись – быль это или небылица…
А Ноно, стало быть, развалилась в кресле около жаровни. В углу рта, как всегда, сигара, ноги здоровые, как тележные оси, а рожа вся побита оспой и толстенная – шире, чем у любого честного христианина, как ты его ни раскорми, а снизу еще два или три подбородка, рыхлые и волосатые, и вроде бы они и не ее вовсе, а так, подвешены… На жаровне у нее стоял кувшинчик вина, и время от времени она протягивала к нему руку, отводя в сторону свою необъятную грудь, чтобы не застила, и отпивала долгими глотками, не переводя дыхания. И после каждого глотка отдувалась, как архиерей, и говорила сама себе, не теряя серьезности: «На здоровьичко, Ноно, пусть эго и будет та хворь, от которой тебе помереть, и пусть весь мир катится к чертям собачьим!..», потому как женщина опа была с большим гонором.
– Видишь, ненаглядный ты мой, – мурлыкала тем временем Лола, ласкаясь к нашему пентюху, – видишь, как тебе хорошо было бы здесь со мной, и ни в чем‑то тебе не было бы отказа… Где ж ты шлялся?..
– Слушай, Лола, ты же знаешь, как я тебя люблю, но чтоб меня держали на привязи – это уж ни под каким видом, как говорят…
– Ладно, ладно, негодный, ведь я уже две недели тебя не Вижу, я же тебе за это время кучу записок послала… И с кем ты только путаешься!..
Окурок поначалу все глазел на них с этой своей усмешечкой, от которой просто с души воротит, – она у него означает, что ои или издевается над людьми, или ему заранее все ясно. Но в конце концов перестал обращать на них внимание и пристроился к хозяйке и стал нашептывать ей что‑то такое, от чего она захихикала, не забывая, однако, при этом перемешивать лопаточкой уголья в жаровне.
Из‑за двери было слышно, как в гостиной гуляют клиенты с девицами и как они пляшут под гитару слепого Кудейро, который сиплым голосом пел по – кастрацки всякие там мазурки:
###
Ах, кто бы по морю мостки проложил —
Я б тотчас в Бразилью к тебе поспешил!
Но нет через море мостов, ни перил.
И свет мне не мил…
Ах, нет!
Потом стали щелкать кастаньетами и звенеть бубенцами, да посильнее, чтобы шуму побольше. Слышно было, как двое – не иначе Хименес и Кинтела, это они обычно доставляют всем такое удовольствие, – пустились вприсядку под общий хохот, лихо отбивая каблуками по деревянному помосту, который ухал что твой барабан:
Спляшем с носочка, Спляшем с каблучка.
Эх, да два шажочка, Эх, да два скачка!
С самого носка!..
Окурок и Ноно сплетничали себе потихоньку, отпивая из носика кувшина, и когда она говорила, то дым струился у нее изо рта вместе с дыханием. И казалось, что ее голос и дым были одно и то же и что каждое ее слово дымом повисало и медленно расплывалось в воздухе.
А Вигезка тем временем уводила своего дружка все дальше и дальше от лампы. Наконец она усадила его на диван – у них стоит там такой, с соломенным тюфяком, в темном углу комнаты. Здесь она стала к нему ласкаться, и легонько целовать в шею, и покусывать уши, а этот наглец натянулся весь и смотрит куда‑то поверх ее головы, а руки запустил под ремень и прижал к животу и не полапает ее ну самую малость – я от одного этого начал беситься.
А раз Ноно нам уже подпустила между прочим, что вот, мол, «пришли клиенты и гуляют всухую…», то мы потребовали пару бутылок анисовой и еще пару – кофейного ликера: желудки у нас за день так настрадались, что принимали теперь только что помягче да послаще… Попозже послали Фанни, горничную, в трактир Шенеросы за горшком требухи, да побольше, но мы к этому и не прикоснулись…
И тут из двери, что ведет в спальни, появилась Колючка, оправляя волосы, а за ней – Пепе Ефрейтор собственной персоной! Зовут его так, кстати сказать, с тех пор, когда он и вправду служил ефрейтором саперов. Этот вот самый Пепе хоть и всего‑то сын сапожника Аржимиро по прозвищу Холера, чья лавка у Нового Моста, а строит из себя ваше благородие, потому как, изволите видеть, служит писарем в городской управе. Короче, этот парень – из тех хлыщей, у кого пуговица в кармане да вошь на аркане, а всего благородства – что носят плащ и шапокляк да водят знакомство с образованными господами, потому, мол, все они республиканцы или черт их разберет и собираются на Прошпекте говорить речи, которых никто не понимает, пока не придет полиция и не вытолкает их в три шеи. Но странно было вдруг увидеть его здесь, у Ноно; а я‑то всегда думал, что он клиентом ну хотя бы в доме Каридад или Монфортины, где, как вы сами понимаете, а я уже о том говорил, меньше чем за пять песет и не думай…
Правда, на «добрый вечер» его все же хватило, по с такой постной рожей – видно, и впрямь заело, что мы его видели. И тут же шмыг в заднюю дверь, а через нее здесь входят – выходят все, кто свой человек у хозяйки, и мы тоже через нее зашли. Однако же, выходя, он еще бросил искоса взгляд на Клешню; а тот ничего и не заметил, потому что вообще вел себя как последний дурак.
Колючка вышла проводить клиента, а когда вернулась, то сразу же подбежала ко мне, клюнула в щеку и прижалась, будто ей холодно.
У меня с ней уже бывали дела, и частенько. Конечно, она и не больно смазливая, и не очень в теле, но зато, люди говорят, опрятная, и от нее, мол, ничего не подцепишь, и уж если что делает, то делает хорошо. И честно говоря, так оно и есть… Она много раз мне предлагала, чтобы мы стали полюбовниками, чтобы мне, значит, не платить. Тут, понимаете, так припято: кто у них в полюбовниках, может оставаться ночевать с воскресенья на по– педельник и не платить ни шиша. Но если разобраться, то все это одна слава: те деньги, что ты не платишь за любовные дела, у тебя все едино уходят на ужин и выпивку, да еще давай на чай слепому Кудейро…
– Ах ты солнышко мое, – говорила мне Колючка, а сама тем временем щипала меня за ляжку, – вот уж кто мужик так мужик: десяти баб ему мало!.. Ну‑ка, поди‑ка сюда, бездельник!
– Оставь, глупая, у меня душа не лежит. Устал очень… И потом, ты же знаешь, что мне противно бывает заниматься этим с женщиной, которая только что была с другим.
– С каким другим? С этим‑то?! Ну уж, ты скажешь! Столько возни, и так ему, и этак, и оттуда зайди, и отсюда зайди, и вылези вся из кожи вон, и такое делает, что тошно вспоминать, и в конце концов… пшик, и чувствуешь себя до того противпо… Идем, что ли? Слушай, Сибран, после этого придурка ну просто позарез хочется мужчину твоего склада, который берется за дело без выкрутасов, а ты еще ломаешься… Идем?
– Денег нет, – сказал я, чтобы отбить у нее охоту.
– Да, ну и что с того? Заплатишь мне в другой раз; я же знаю, ты – мужик что надо.
– Нет, детка, нет…
– Ну, давай же, парень! – И, понизив голос, добавила, бормоча мне прямо в ухо: – Когда сделаем дело, выйдешь один через парадную дверь, и без липших слов. Не надо, чтоб тебя видели с ними… Пойдем, я тебе сразу все расскажу, потом, может, и времени не будет…
– Оставь парня в покое, – сказала Ноно, приподымаясь, этим своим мужским голосом, который рокотал откуда‑то из глубины и один мог нагнать страху, хоть она и говорила почти всегда вполголоса. – А вы, ребята, давайте‑ка отсюда, мне тут скандалы не нужны. Теперь, когда вас видел Ефрейтор, вам же лучше будет взять ноги в руки, – закончила она, говоря в сторону Клешни. А потом спросила Колючку: – Он тебе ничего не сказал?
– А что он должен был мне сказать? – ответила та, ста раясь говорить как ни в чем не бывало, но видно было: что‑то ее грызет изнутри…
– Ну, короче: проваливайте, и весь сказ. Этот субчик на вас донесет. Он давно на меня волком смотрит: знает, что я его хочу отсюда выставить раз и навсегда. Он мне тут девок не тому учит…
– А донесет‑то он о чем? – Окурок аж взвился на месте.
– Да ладно, нечего трепаться, еще им рассказывай то, что они знают лучше меня. Пошли вон, и все!
Тут Клешня отбросил от себя Вигезку одним толчком, вскочил на ноги и пнул ногой кувшин, стоявший на жаровне; вино разлилось и зашипело в огне. Ноно метнулась к двери, словно гора сдвинулась с места, и исчезла в мгновение ока.
– Ты что делаешь, паршивый черт, подонок?! – заверещала Колючка и бросилась на нашего Шанчика. – И это мы, дуры, виноваты, что впускаем сюда бандитов! Нет, виновата эта дрянь, что бегает за ним хвостом…
Тут и Окурок вскочил и вцепился ей в волосы, а Клешня врезал ей с размаху по лицу так, что она отлетела и упала навзничь всем телом. Лола рванулась к ней, занеся над головой стул, и в этот момент вновь появилась Ноно, с лицом багровым и почти черным от злости, а в руке – огромная дубина, которой она вращала над головой и крушила все на своем пути.
– Вон отсюда, мерзавцы! – ревела она, и голосище ее ударял раскатами, как гром небесный. Какой же силы были ее удары, если одним из них она разнесла столешницу!.. А тут еще распахнулась дверь залы, и все девки и их клиенты, что там гуляли, разом полезли сюда, собираясь, ясное дело, навалиться на нас всем миром. Мы бросились к задней двери и вылетели один за другим, как пробки из бутылки… А за нашей спиной громыхал голос махины – бабы, от которого ходила ходуном вся площадь Святой Троицы:
– Бродяги, воры, бандиты!.. Хватайте их!..
Дождь совсем перестал, но дул порывистый ледяной ветер, от которого спирало дыхание. Луна, огромная и ослепительная, будто опускалась на нас сквозь просветы в легких, вытянувшихся в струнку облаках. На улицах не было видно живой души. Когда мы добежали до площади Коррехидора и остановились, то услышали, как куранты собора бьют полночь. Тогда мы взяли вверх по переулку, чтобы таким манером дойти до дома, где живет семья Окурка, – а стоит этот дом на улице, которую у нас зовут Задобойная, потому что она крутая и вся ступеньками. Ноги нас едва держали – боком нам выходили, как вы сами понимаете, эти предательские сладенькие ликеры.
– Теперь нам крышка! – заявил Клешня, останавливаясь в подворотне Окуркова дома. – Идите куда хотите, а я ни в этот, ни в какой другой дом больше не полезу. Не ровен час…
– Я тебя не брошу, – ответил Окурок, хватая его за руку, с такой решимостью в голосе, что и меня проняло.
И тогда Клешня, у которого всегда все сразу – и понимать серьезные вещи, и плевать на них с высокой колокольни, – предложил:
– Надо кончать с деньгами, что еще остались. Плохая примета – пускаться в загул, а потом возвращаться домой хоть с мелочью в кармане. Так что гуляй, ребята!
– Слышь… Я бы пошел с вами, – сказал я, – но нет больше сил терпеть эту резь в ногах, а с холодом она воротилась. Все кругом закрыто, а так вот шататься по улицам я больше не могу… Так что вы уж меня простите, но здесь два шага до материна дома, и я потопал…
– Ну, как знаешь, – сказал мне па это Клешня, – но я тебе говорю, что тебя там возьмут за задницу… Все уже разнеслось по городу, в этом я уверен, и так или иначе… А вот если хотите, то пошли в трактир Рыжего – у него как раз и собирается такая шушера, которой нечего терять. И почти все – приезжие, вы же знаете. Нынче ночыо будет полно народу: завтра ярмарка, а накануне торговцы и погонщики всегда режутся в карты до утра… Если выиграем, то прыгаем на пятичасовой поезд, – я знаю место подальше от станции, где он замедляет ход, и там никто нас не заметит – и едем в Монфорте. Пересидим несколько деньков, пока здесь шум не уляжется. Я ведь и в худшие переделки попадал, и всегда так бывало: пошумят– пошумят – и забудут… Так что решаем?
Я еще немного подумал. Конечно, Клешня был нрав. Я с ними был одной веревочкой связан – во всяком случае, до тех пор, пока не смогу объяспить, как все произошло. Я это сейчас и делаю – и ведь сразу же видно, что я ни в чем не виноват! А кроме того, я знал, что, как только останусь один, на меня сразу нахлынет «задумка» и мне с ней не справиться – слишком уж много всего на меня навалилось.
– Ну что, решил? Не дрейфь, парень… Когда ты с друзьями, надо идти с ними до конца, – сказал Аладио, кладя мне руку на плечо.
– Ну, вам видней! Мне‑то всего и нужно, что оказаться в тепле и скинуть башмаки. Что ж, пошли.
Говорить я это говорил, но это была не вся правда. А по правде‑то, у меня было неспокойпо на душе – и хотелось пойти туда, где люди, где суматоха, где весело, и пить, пить – пусть все нутро полыхает, – лишь бы не росло и дальше это чувство.
– Не стоит идти, покамест кабак не полон – а люди там начинают собираться, когда уже за полночь. Еще часок потянем. Потерпи, может быть, найдем какую‑нибудь дыру, где бы перепадать.
Уверенность, с которой говорил Клешня, – а у него иначе не бывает – придала мне сил, и мы двинулись вниз по улице Форнос. Небо совсем очистилось, и холод пробирал до костей – видно было, что к утру ударит сильный мороз. В самом конце улицы мы прошли мимо пекарни Паррокьи; дверь была открыта. Окурок сделал нам знак идти дальше, а сам набросил покрывало на голову, зашел и через минуту верпулся с парой бутылок самогона. Потом мы забежали в ворота одного дома, чтобы не попадаться на глаза прохожим, которые шли навстречу по улице Эстрела. Глядя в щель ворот, мы видели, как несколько человек выходили из пекарни и показывали руками в ту сторону, куда, по их разумению, убежал Окурок. Все шло как‑то не так… Когда и те и другие, наконец, убрались, мы прибавили шагу и пошли по улице Теселап, такой темной, что не знаю, горел ли там хоть один фонарь. Тут мы и сделали по глотку из первой бутылки, и глоток вышел такой, что бутылка вдруг опустела. И самое время было: я уже разваливался на ходу. Со мной всегда так: едва подступит тоска – и я уже пи на что не гожусь и хочу только одного: пристроиться где‑нибудь, где ни одна яшвая душа меня не увидит, и сжать зубы, и кусать себе костяшки пальцев до крови – именно до крови, потому что боли я никогда не чувствую…
– Да, сеньор, это точно; не надо мне верить… Но знаете, когда я начинаю говорить об этом несчастье, что только со мной происходит, а больше ни с кем…
– Ну а как выпили, так у меня все и отшибло, как всегда бывает… вроде ты связан – и вот развязался… Именно так! А в этот раз мне вдруг захотелось смеяться, без всякой причины. Другие двое, не понимая, что со мной, тоже захихикали, и через минуту мы трое гоготали так, что не могли устоять на ногах. Пришлось идти взявшись за руки, но, вместо того чтобы идти вперед, мы ходили кругами, и чувство было такое, как будто мы катимся куда‑то, хотя и стоим на ногах, – занятная, доложу я вам, вещь.
И от этого развлечения мы ощутили вдруг такую легкость во всем теле, что даже не соображали, что мы такое делаем, пока нас не окатили водой сверху из одного дома. Только тогда мы сообразили, что шумим больше, чем надо бы, а поскольку перестать смеяться никак не могли, то стали затыкать друг другу рот, отчего на нас напал еще больший смех, и мы уж не знали, что с ним поделать… Как вдруг Клешня, который, как самый бывалый в такого рода проказах, никогда не забывал посматривать по сторонам, сказал, что не мешало бы идти поскорей, только не бежать: кто‑то, кажется, высматривает нас, прячась в темных закоулках, – может, кто‑нибудь из пекарни… Еще он говорил, что надо бы подождать их и набить им морду, но я заставил его выкинуть это из головы – не тот был случай, чтобы искать на свою голову новых приключений.
А потом, неизвестно как, мы вдруг оказались на улице Семинарии. Вдали было видно, как по самой середине улицы навстречу нам неспешным шагом идет полицейский. Было светло от луны, и у нас никак не получалось перейти улицу, чтобы он нас не заметил. Поэтому мы пошли вперед потихоньку друг за другом по темной стороне улицы, прижимаясь к домам, и когда дошли до портика церкви Святой Евфимии и увидели, что дверь в церковь открыта, то прошмыгнули туда, как крысы…
А там внутри алтарь так и сиял от множества зажженных свечей, и меня очень удивило, что может быть служба в такой поздний час. Перед алтарем стояло двадцать, а может, тридцать человек – одни мужчины, и все на коленях, – и слышался неясный гул: все молились, тихо, но в один голос и без передышки. Видно, читали литанию, то ли просительную, то ли благодарственную… Я прямо‑таки не знал, как мне ступать, чтобы мои проклятые кованые башмаки не стучали по плитам. Один из этих господ, вероятно, что‑то услышал: он поднял голову и огляделся по сторонам, но мы были уже за колоннами, около исповедальни.
В это самое мгновение тихонечко скрипнула дверь, и мы увидели, как полицейский – ну ясно, не кто иной, как кум Сардина, – просунул в щель свое нюхало, но дальше не пошел. Увидеть нас он не мог: мы уже проскочили в исповедальню, но в тот же момент нас снова стал мучигь этот гадский смех. Сардина пошарил немного глазами и отчалил, прикрыв за собой дверь. Мы еще немного посидели, чтобы он ушел подальше – он ведь мог вернуться и снова сунуть нос, с него станется, – а тем временем почали вторую бутылку, которая пошла так же легко, как и первая, и тоже была, наверное, с каким‑то секретом – иначе от чего бы нам каждый раз становилось так легко на душе?
– Это у них называется «полночная ектенья» – так молятся только ночью, – сказал Окурок, который всегда все знал.
Мы еще подождали, а потом высунули головы посмотреть, можно ли выходить. И вот тут‑то растреклятый смех совсем нас одолел, но в этот раз ведь была причина: мы увидели, что эти господа уже не стояли на коленях, а почти лежали, упираясь головой в пол и задрав кверху задницы, и выводили все вместе какое‑то песнопение, будто мычали хором себе под нос.








