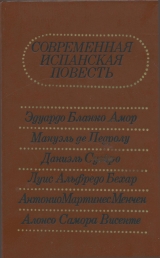
Текст книги "Современная испанская повесть"
Автор книги: Алонсо Самоа Висенте
Соавторы: Эдуардо Бланко-Амор,Луис Альфредо Бехар,Мануэль де Педролу,Антонио Мартинес Менчен,Даниель Суэйро
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 34 страниц)
ВТОРНИК, 4 НОЯБРЯ
Вчерашняя ночь была длинной – об этом пишут газеты, это подтверждают и наши сонные глаза. Глаза, перед которыми стоят свободные и прекрасные птицы далеких краев, журавли, летящие из нашего заповедника в Донья– пе в холодпые белые земли, где их счастливые, беззаботные и чистые сердцем дети будут наслаждаться фантастическим танцем. Но нас нельзя назвать ни счастливыми, ни чистыми сердцем. Мы бодрствуем не для того, чтобы увидеть этот медленный, торжественный ритуальный танец, этот магический балет полярной ночи. Мы бодрствуем перед телевизорами в ожидании другого танца – мрачного и зловещего танца смерти.
Телевидение вело передачи всю ночь, а вместе с ним не спали многие испанцы. И мы, дети ненависти, с нетерпением смотрели на маленький экран, где царила прекрасная животная жизнь, дожидаясь появления высокопоставленного лица, которое с печальным видом сообщит стране фатальную и неизбежную новость. Но это сообщение еще раз было отложено. И снова мы, дети ненависти, с покрасневшими от бессонной ночи глазами, собираемся в баре, чтобы обсудить то, что кажется невероятным: несмотря ни на что, он еще жив…
Он еще жив… Разве возможно, чтобы старик выдержал такую операцию, какая была сделана ему?.. Разве возможно, чтобы человек, которому за восемьдесят, с больным сердцем, жизнь которого в течение двадцати дней поддерживают искусственно, перенес операцию желудка и, несмотря ни на что, остался жив? «Не надейтесь, – говорит Хулио, – здесь не обошлось без чуда».
Вчера, после нескольких дней затишья, обычный медицинский бюллетень оказался сладостно – мрачным. Общее состояние Его превосходительства Главы государства вследствие неожиданного и значительного желудочного кровотечения сильно ухудшилось и стало критическим… Кровотечение… Критическое состояние… Конец близок. Капут!
Уже без двадцати двенадцать ночи. Испанское телевидение объявляет, что сегодня будет вести свои передачи дольше обычного, до очередного медицинского бюллетеня. Вместо этого бюллетеня может прозвучать сообщение о его смерти. Моя жена ушла спать, а я по – прежнему сижу у телевизора. За неимением ничего другого телевидение заполняет наше ожидание старыми документальными фильмами, извлеченными ради этого из архивов, – и на экране проходит перед нами прекрасная в своей невинности жизнь животных.
Почему танцуют журавли? Почему я, пока вся моя семья спит, бодрствую, дожидаясь сообщения о смерти одного человека? Только человек может ждать, желать смерти другого человеческого существа!.. А журавли все выделывают свои замысловатые па… Медленно и торжественно они двигают крыльями, поднимаются, кружат в воздухе, а потом резко опускаются на землю. Каков смысл этого таинственного, необыкновенного танца? Я представляю, как воздух, потревоженный взмахом журавлипых крыльев, обволакивает невесомые бестелесные существа, которые, как ворох осенних листьев, уносит ледяной ветер. Почему танцуют журавли? Почему их движения вызывают у меня мысль о смерти?
Холодной северной ночью танцуют журавли, и их дзи– жения вызывают в моем сознании мысль о смерти… Двадцать минут третьего ночи… На экране появляется диктор. Траурного галстука на нем нет. Торжественно, серьезным и напряженным голосом диктор читает медицинский бюллетень, который мы все ожидаем: «3 ноября в три часа дня состояние Его превосходительства Главы государства характеризовалось беспокойством, бледностью кожных покровов, острой гипотонией, резкими болями в межлопаточной области, нарушением дыхания. Электрокардиографические исследования выявили коронарную недостаточность. Начинается желудочное кровотечение, следствием которого стала обильная кровопотеря. Поскольку применявшееся консервативное лечение оказалось неэффективным, было принято решение о хирургическом вмешательстве.
В 21.30 в специально оборудованном помещении в Пардо, где раньше располагалась личная охрана, Его превосходительство Глава государства был прооперирован профессором Идальго Уэртой при участии врачей Кабреро Гомеса и Артеро Гуирао. В бригаду анестезиологов и реаниматоров входили врачи Лаурадо, Мариа Пас Санчес и Фернандес Хусто.
Во время операции обнаружена язва в состоянии обострения рядом с диафрагмой в верхней части желудка, в начальной области дна. Язва, соприкасаясь с левой гастро– эпиплоидной артерией, была причиной внутреннего кровотечения. В ходе операции были также обнаружены два эрозийных образования на слизистой желудка на уровне свода. На кровоточащую язву и примыкающую артерию были наложены швы в целях прекращения кровотечения. Швы были также наложены на две обнаруженные эрозии.
Операция в целом перенесена хорошо, хотя отмечались нарушения сердечной деятельности. За работой сердца постоянно следила группа кардиологов, присутствовавшая на операции. Больному перелито 7,5 литра крови. Операция закончилась в 00.30 утра.
К моменту составления настоящего бюллетеня, к 1 ча-
су утра 4 ноября, жизненно важные показатели состояния Его превосходительства нормализовались.
Дальнейшие прогнозы крайне тяжелые.
Подписано: медицинская комиссия.
Дворец Пардо, 4 ноября 1975 года».
Вот и все. Ожидание окончилось. Телевидение прекращает работу, и я могу идти спать. Восьмидесятилетнему старику, который агонизирует уже в течение трех недель, в операционной, расположившейся в казарме, была сделана операция, которой не выдержала бы и лошадь. Но «жизненно важные показатели состояния Его превосходительства генералиссимуса нормализовались». Несмотря на все предсказания, эта ночь кончилась, а он все еще жив…
– Да какое это имеет значение, чудак, – говорит Хулито. – Все равно с франкизмом покончено, это ни для кого не секрет. Посмотри, как уже сейчас все поднимают Хуана Карлоса, вокруг него увивается даже Ориоль[62]62
Антонио Мариа де Ориоль – и-Уркихо (р. 1913) – крупный политический деятель, с 1965 г. – министр юстиции; был председателем Государственного совета, членом Совета Королевства
[Закрыть]. Поездка Хуана Карлоса в Сахару – это решающий момент. То, что Франко якобы продолжает быть действенным Главой государства, а Хуан Карлос только временно исполняет эти обязанности, – фикция: с тридцать первого настоящий Глава государства – Хуан Карлос, и первыми поняли это самые оголтелые фашисты. Недаром Педроса Латас[63]63
Антонио Педроса Латас (р. 1916) – один из наиболее последовательных сподвижников Франко; с 1935 г. занимал крупные посты в фаланге.
[Закрыть], придя в кортесы в голубой рубашке фалангистов, обрушился там на предателей и оппортунистов.
– Конечно, – вставляет Карлос, – некоторые думают, что еще смогут выкрутиться, и торопятся удрать с тонущего корабля. Но у таких, как Педроса Латас, выхода нет. Единственно возможная для них система – франкизм, и ему они останутся верными до конца.
– Ну, это понятно, – говорит Хулито, вытирая с подбородка белую пивную иену, – даже Ариас[64]64
Карлос Ариас Наварро (р. 1908) – политический деятель, с 1957 г. – руководитель Генерального управления безопасности, с 1965 – алькальд Мадрида. Затем министр внутренних дел. В 1974 г. после убийства Карреро Бланко занял пост премьер – министра.
[Закрыть] бросается из крайности в крайность: из Пардо мчится во дворец Сарсуэлы[65]65
Резиденция Хуана Карлоса в Мадриде.
[Закрыть], стараясь угодить одновременно двум господам, хотя я думаю, ничего у него из этого не получится. Те кто поумнее, сориентировались еще раньше: ведь давно было ясно, что у франкизма нет будущего.
– Посмотрите, что творится на бирже, – вставляет Луис.
– Конечно, капиталисты знают, что делают. После процесса в Бургосе франкизм исчерпал себя, Хуан Карлос для них – единственный достойный выход. За покойника судорожно цепляются только те, кто знает: у них выбора нет, – партийные бюрократы, капиталисты, нажившиеся на спекуляциях и связанные с фамильным кланом…
– Да, конечно, – перебивает Карлос рассуждения Хулито, – что такое Вильяверде[66]66
Маркиз де Вильяверде – испанский аристократ; зять Франко; в семейном клане играл видную роль. Врач по профессии, он сделал все, чтобы искусственно продлить агонию каудильо.
[Закрыть] после смерти Франко?
– Ничто. Потому‑то маркиз монополизировал его и держит ситуацию в своих руках, не давая никому вмешаться, стараясь любыми способами поддержать жизнь и старикане. Пока он жив – пусть это просто растительное существование, – у маркиза еще есть власть, но когда Франко опустят под могильную плиту – все, прекрасная жизнь Вильяверде кончилась. Если б он мог, он бы набальзамировал Франко или заморозил бы его, чтобы бесконечно тянуть с этой чепухой о временно исполняющем главе государства. Нет, серьезно, – все больше воодушевляется Хулито, – иногда мне даже жаль этого коротышку. Разве можно обращаться с человеком так, как поступают с пим? Да это просто преступление! В какой цивилизованной стране допустили бы такую операцию, какую сделали вчера ему? Ведь это все равно что оперировать покойника! Только напрасно мучают человеческое существо, у которого нет ни малейшей возможности выжить, как будто им доставляет удовольствие, пользуясь беззащитностью, заставлять его страдать – и все только чтобы продлить жизнь на день, от силы – на неделю. Чем, скажите, пожалуйста, это отличается от экспериментов на людях в немецких лагерях смерти?..
Когда мы возвращаемся из кафе, в мой кабинет заходит Хоакин. Да, он совсем не то, что Карлос, Луис или Хулито… Это благонамеренный консерватор, причем худшего толка. Типичный законопослушный гражданин, по клонник «тацитов»[67]67
Представители реформистской католической группы в анти– франкистской оппозиции, появившиеся в начале 70–х гг. Свое название группа получила из‑за псевдонима «Тацит», которым ее члены подписывали статьи в газете «Йа», часто вызывавшие широкие отклики.
[Закрыть]. Ему бы хотелось, чтобы все оставалось как есть, совершенно без изменений, но только чтобы не было этого старика, который таким людям, как Хоакин, уже кажется неудобным. Покончив с делом, которое его привело, Хоакин заводит разговор о статье Хуана Луиса Себриана[68]68
Хуан Луис Себриан – испанский журналист, выступавший с критикой франкизма. Главный редактор независимой либеральной газеты «Эль пайс» с момента ее основания (1976 г.).
[Закрыть] в утреннем выпуске «Йа».
– Честно говоря, – поддразниваю я его, – я не очень понял, к чему он клонит.
– Ну знаешь, – говорит он, то ли удивляясь, то ли принимая мои слова как должное, – лично мне все кажется очень ясным. Речь идет о правительстве Национального единства.
– Вот это‑то как раз я и не понял. О каком единстве речь?
– Конечно, о единстве всех реальных политических сил…
– А что под этим понимать?.. Коктейль из фалангистов, правых католиков, Кантареро дель Кастильо, Антонио Гарсиа Лопеса[69]69
Мануэль Кантареро дель Кастильо (р. 1920) – политический и общественный деятель; начинал свою карьеру как журналист и литературный критик, сотрудничал в наиболее реакционных органах печати. Антонио Гарсиа Лопес – видный экономист, Генеральный секретарь социал – демократической партии Испании, впоследствии самораспустившейся.
[Закрыть]?..
– Ну да, конечно, не обязательно именно эти люди, но, во всяком случае, силы, которые они представляют…
– Ты что же, всерьез думаешь, – перебиваю я его, – что в это правительство Национального единства может войти кто‑нибудь из руководства находящейся вне закона социалистической партии, ну хотя бы тот, о чьем аресте сообщили сегодняшние газеты?..
– Ну зачем же такие крайности! Конечно, это пока невозможно.
– Что ж, если в этом правительстве Национального единства не могут быть представлены реальные политические силы, то, мне кажется, оно вообще ни к чему. Гораздо лучше, чтобы все оставалось как есть.
– Но, – настаивает он, – следует продвигаться понемногу, постепенно, шаг за шагом.
– Да зачем? Через несколько дней у нас уже не будет этой неестественной обстановки. Это пока мы занимаемся политической фантастикой. У нас сейчас временно исполняющий обязанности глава государства и этот же человек через неделю будет полноправным главой. Но уже сейчас он представляет нас на международной арене: отправляется в Сахару, обращается к войскам, встречается с премьер – министром Марокко. Но принимать окончательные решения он не властен, потому что существует другой глава государства, который уже ничего не в состоянии решить, но пост этот еще занимает… И естественно, раз есть каудильо, мы имеем и все то, что с ним связано: французские деятели культуры протестуют против недавних расстрелов – наши газеты поливают их грязью, как в пору расцвета франкизма; продолжаются аресты членов ЭТА, ФРАП[70]70
ФРАП (Френте де аксьон популар) – левоэкстремистская организация середины 70–х гг.
[Закрыть] нелегальной социалистической партии – только что не членов Ассоциации за Библию в стихах. Как в худшие времена, в тюрьмы бросают адвокатов, руководителей студенческого движения, рабочих, непокорных и не в меру поумневших. На священников, которые слишком далеко зашли в своих проповедях, налагают штраф, изымают из продажи журналы, позволившие себе непочтительность. И хотя его репрессивный аппарат работает в полную силу, он сам вот – вот дух испустит. Ну и для чего нам в такой ситуации твое правительство Национального единства или вообще какое‑нибудь правительство?..
– Именно для того, чтобы покончить с такой ситуацией, добиваться постепенно все больших свобод, измениться внешне. И тогда его смерть будет воспринята спокойнее, а у короля в распоряжении будет умеренное правительство, что позволит ему осуществить постепенный переход к демократии.
– Но как только он умрет, сразу же начнется так называемая операция «Лусеро»[71]71
С целью предотвращения волнений в стране и выступления прогрессивных сил сразу же после смерти Франко предполагалось принятие ряда превентивных мер, гарантом которых выступала армия. Этот план имел кодовое название «Лусеро» («Светоч»).
[Закрыть], а она придумана вовсе не для того, чтобы организовать пышные похороны, а чтобы поменьше было волнений, которых ты так боишься. Не знаю, в чем главная задача операции – то ли контролировать действия излишне нетерпеливых патриотов (они, воспользовавшись печальными обстоятельствами, могут на– начать охоту за красными), то ли сами участники операции займутся такой превентивной охотой. Наверное, и то и ДРУгое сразу. Правда, не думаю, что дело дойдет до крайностей, но, поверь, в Мадриде из страха перед тем, что может случиться, многие предпочтут ночевать не дома. Но вот в чем я уверен, так это в том, что нынешнее правительство в момент, когда это произойдет, ничего не будет решать, а король спустя некоторое время после официальных церемоний сформирует свое собственное правительство. Оно‑то и осуществит переход к демократии.
– Не уверен. Не думаю, чтобы у короля, по крайней мере вначале, была большая свобода действий, ведь ему придется действовать в рамках существующей законности. Вот я и думаю, нужно постараться, чтобы эти законные рамки были пошире, более благоприятными для него.
– Нет, я не согласен. Существующая законность – пустая бумага, и король, очутившись на троне, начнет действовать, как сочтет нужным.
– Какой ты оптимист.
– Да нет, просто я уверен, что эта своеобразная форма правления, какой является франкизм, умрет вместе с Франко. У нас может быть демократия или диктатура, но только но органическая демократия[72]72
Псевдодемократическая система государственности, созданная Франко в 50–е годы.
[Закрыть]. Если будет демократия, то настоящая: с парламентом, с политическими партиями…
– Да, – перебивает меня он, – конечно. Но включение партий в политическую жизнь должно идти постепенно. Сначала это будут группы и ассоциации, к которым сейчас относятся терпимо или смотрят сквозь пальцы. Затем эти рамки немного расширят, со временем даже социалистическая партия может быть легализована.
– И даже коммунистическая.
– Ну, это ты хватил! Никогда!
– А ты что, всерьез веришь в существование недиктаторского режима, который не признавал бы коммунистическую партию, когда эта партия, как в нашей стране, руководит рабочими комиссиями? Ты что, не понимаешь, что если оставить вне игры коммунистическую партию, то могут возникнуть такие конфликты, что жизнь в стране станет невозможной? И в этой ситуации перед правительством встанет дилемма: допустить, чтобы коммунисты принимали участие в политической жизни, или пустить в ход такие репрессивные меры, что никто в демократию не поверит. А поскольку я думаю, что король предпочтет первый вариант, то, значит, через несколько лет будут при– знапы все партии, в том числе и коммунистическая.
Хоакин еще немного спорит со мной, выражает надежду, что все случится именно так, как я говорю, и уходит. В глубине души он напуган. Все этн новоявленные демократы боятся того, что может произойти. Мысль, что в нашей стране левые силы получат возможность выйти на улицу и начать открытую пропаганду, и даже оказаться в правительстве, вызывает у них настоящий ужас. Им бы хотелось, чтобы все оставалось по – прежнему: чтобы левые не смели поднимать головы, а демократия была бы игрой, в которой принимали участие только разные группы правых. И пусть все будет как в цивилизованной стране, без насилия, расстрелов, без всей этой мерзости, из‑за которой в Западной Европе перед нами закрывают двери министерства иностранных дел. Они мечтают о покорных левых, которые в обмен на разрешение существовать полулегально – постыдно, но без угрозы пыток, тюрем, страшных пробуждений среди ночи, массовых репрессий – сами бы отказались от открытого участия в политической игре. У них не было бьгнеобходимости скрываться, носить чужое имя, и время от времени они даже могли бы высказывать свои взгляды – конечно, между строк – в журналах, рассчитанных на узкий круг читателей, в статьях, изобилующих намеками, понятными лишь посвященным. Да, этим людям хотелось бы вот таких левых – лояльных спутников франкизма в белых перчатках. Но в глубине души они понимают, что это утопия. Они знают, что таких левых не будет, как не будет и франкизма в белых перчатках, что франкизм – это железная рука, обагренная кровью, если исчезнет жесткость в этой руке, грязный цвет запекшейся крови – исчезнет и сам франкизм. И страх перед этим их парализует.
Режим, с самого начала державшийся на страхе, умирая, оставляет после себя только страх. Все кровоточащие проблемы, все противоречия, существовавшие, когда он пришел к власти, и которые он собирался решить, к моменту его смерти стали еще острее, чем были, когда он появился. И, как последний след его, остается только все-
общее чувство страха. Мы все боимся: те, кто его любит, и те, кто ненавидит, те, кто за него, и те, кто против. Одни боятся потерять власть, данную им диктатурой, привилегии, основанные на коррупции, которую поощряла диктатура. Другие боятся нового фашистского взрыва, волны репрессий, возврата к ужасам тридцать шестого года. Но большинство испытывает пной страх – страх перед неизвестным, страх перед тем, что нарушится их рутинное существование, страх нового, страх перемен.
Несколько дней назад я столкнулся с этим страхом. Я встретил давнишнего знакомого, несчастного человека, страдающего депрессивным неврозом. Как и все в этидпи, мы заговорили о смерти диктатора. И я вдруг понял – он надеется, что Франко выкарабкается, справится с болезнью, несмотря ни на что. А когда я стал уверять его, что это невозможно, что смерть эта – вопрос дней, тот раздраженно воздел руки и воскликнул: «Господи, что же будет с нами!» Я, оправившись от изумления, сказал, что пи– когда не предполагал увидеть в нем ярого франкиста… «Нет, нет, – возразил он, – я, конечно, не франкист. Я вообще не разбираюсь в политике. Но с Франко нам жилось так спокойно…» – «Спокойно? Что ты имеешь в виду? Что ты понимаешь под спокойствием?» – «Знаешь, – ответил оп, – плохо ли, хорошо ли действовал Франко, но нам не надо было ни о чем беспокоиться. Он делал все. А когда его не станет, брать на себя ответственность придется нам и нам придется беспокоиться обо всем, принимать решения… Представляешь, как это будет ужасно?»
Века тирании превратили нас в народ, напоминающий запуганного ребенка, который, чтобы облегчить гнет этой тирании, защищается, отождествляя себя с тем, кто его угнетает, и этот механизм психологической защиты объясняет тревогу моего несчастного знакомого и чувства многих людей, страдающих таким же неврозом. Эта свобода, в течение стольких лет недоступная нам, не придавит ли она нас своим бременем, когда мы, наконец, получим ее? Что мы будем делать с этой свободой? Как поведет себя в условиях свободы человек, у которого никогда ее не было, как она отразится на его образе мыслей? Какая ужасная пустота остается, когда умирает идол, даже если он – не более чем проекция наших собственных призраков, наших неудач и нашей ненависти, даже если этот бог – всего лишь обычный старик, который заживо разлагается в бесконечной агонии!
СУББОТА, 15
Я устал и думаю, что устали мы все: журналисты, политические деятели, врачи, фанатики, оппозиция, даже те, кому все равно… Все мы чувствуем себя побежденными. Все. Но не он.
Я давно знал, что напишу о смерти Франко. Но я никогда не мог предположить, что эта смерть будет такой. Не знаю почему, но мне всегда казалось, что конец придет внезаппо, что известие о его смерти застанет меня врасплох, настолько врасплох, что я буду почти бояться поверить этому, пока известие не сразу, но все же подтвердится. Вот если бы сведения Карлоса тогда, почти месяц назад, оказались правдой, я мог бы написать что– нибудь напряженное, живое… Его внезапная смерть заставила бы содрогнуться всех, как землетрясение, и целая страна в течение иескольких дней переживала бы ее. Но эта бесконечно тянущаяся агония ни у кого уже не вызывает ни волнения, ни сострадания, а лишь усталое безразличие. Невозможно долго жить в напряжении. Невозможно даже просто сохранять интерес к гротескному действу, которым сопровождается это бескопечное умирание. Оно длится столько времени, что надоело все, даже анекдоты на эту тему.
В понедельник зашел Хосе Мари. Он рассказал, что творится в высших министерских сферах: «Вы не поверите, – сказал он, – надо быть там и видеть это собственными глазами… Я был в кабинете директора вместе с первым заместителем, открылась дверь, и, как циклон, как смерч, влетел сам министр… Он возбужденно размахивает руками, глаза блестят, лицо багровое – как будто его сейчас хватит апоплексический удар. Мы все застыли, удивленные неожиданным появлением. Генеральный директор встал и пошел ему навстречу. А министр в свою очередь с широко раскрытыми руками подошел к нему, прижал к груди и хриплым от волнения голосом воскликнул: «Ему лучше, Антонио, лучше!» Антонио, когда министр выпустил его из своих объятий, смотрел на шефа пораженный, не зная, как вести себя. Он лихорадочно соображал, какие слова, какой жест будут наиболее уместными в таких необыкновенных обстоятельствах, никогда еще не случавшихся в нашей обычной министерской рутине. Хосе Антонио и я все это время скромно стоим в стороне, смотрим на начальство удивленно и смущенно. Но министр уже справился с волнением. Он подошел к столу, энергично нажал кнопку звонка. Дверь тут же открылась, и появился секретарь. «Хулио, – приказал министр, – принеси шампанское. Сегодня я всех угощаю». Хулио вышел и тут же вернулся, толкая перед собой столик на колесиках; на нем стояло несколько бокалов и две бутылки шампанского в ведерке со льдом. Наверное, они были приготовлены заранее, и министр обходил всех руководителей. Я, как скромный служащий, хотел незаметно улизнуть, но министр повелительно остановил меня: «Пожалуйста, оставайтесь!.. Это касается нас всех, абсолютно всех, значит, мы все вместе должны отпраздновать это событие». И мне пришлось выпить бокал шампанского за предполагаемое улучшение. А при этом я думал, что в моем холодильнике почти месяц ждет своего часа бутылка шампанского, купленная, чтобы выпить ее по случаю смерти Франко. Когда министр ушел поздравлять других, я взглянул на директора и увидел, что министр заразил его своей эйфорией – а может, причиной ее было шампанское: он подхватил ту же песенку о чудесном выздоровлении. Я перебил его: «Да перестань ты, Антонио, вы что, с ума все посходили?» – «Но послушай, Хосе Мари…» – «Ну давай посмотрим: во – первых, ты никогда не был ни франкистом, ни антифранкистом. Ты просто специалист, никакой идеологии ты не придерживаешься, и никакие перемены в политической жизни страны тебя не затронут, а поэтому, рассуждая логически, какое тебе дело, лучше старику или нет? С другой стороны, кто, будучи в здравом уме, может предположить, что Франко выпутается из этой переделки? Я, как и ты, как любой испанец, за эти дни говорил, и не раз, с кем‑нибудь из знакомых врачей – а такой есть у каждого из нас, – и ответ всегда был один: положение безнадежное, с такой клинической картиной и в его возрасте можно поддерживать жизнь еще несколько дней, ну пусть – предположим невозможное – месяца два, но конец все равно неизбежен. И даже если предположить, что произойдет чудо и он выживет, разве он сможет управлять страной, как считает этот идиот? Он надеется, что Франко вернется в Пардо и по – прежнему будет вести заседания Совета министров, все будет так же, как было до его болезни, у нас по – прежнему будет франкизм, а он останется в своем удобном министерском кресле – ведь это единственное, что его волнует. Нет, Антонио, если Франко каким‑то чудом и выжил бы, то все будет так, как теперь:
у него отовсюду будут торчать трубки, он будет подключен к десяткам новейших аппаратов и будет лежать без сознания, как живой, но неодушевленный предмет или персонаж из фильма «Джони взял свое ружье», который, кстати, советую себе посмотреть – ты ведь, кажется, еще не видел. Так, и только так, может быть, если он чудом останется жив. И это только бы осложнило все, потому что рано или поздно надо будет искать выход из такого положения. Исполняющий обязанности главы государства – это уже сейчас звучит смешно, но несколько педель еще куда ни шло. Но скажи мне, положа руку на сердце, ты действительно думаешь, что эта ситуация, когда есть два главы государства – один временно исполняющий обязанности, а другой весь в трубках, – может тянуться целый год? Поверь, этого не будет: старик больше недели не протянет; но если он чудом продержится еще с месяц, то кто– нибудь наверняка отключит его от аппаратов…»
Да, Хосе Мари прав. Вся страна, за исключением камарильи, хочет, чтобы это поскорее кончилось. Забавно наблюдать, что происходит на бирже каждый раз, когда развязка кажется близкой. С самого первого дня болезни акции поднимаются и поднимаются. Тот, кто столько лет служил большому капиталу, теперь мешает и ему, и они тоже бросают его, предают и отрекаются, как все сейчас… Да, никто, даже он, не в силах избежать самого тягостного из одиночеств: одиночества смерти.
Я думаю об ужасной психической агонии приговоренных к смерти. Меня всегда завораживало это долгое, бесконечное ожидание тех, над кем тяготеет смертный приговор. Сколько десятков, сотен тысяч испанцев прошли через это ужасное испытание в первые послевоенные годы? Скольким из моих знакомых, тем, кому сейчас около шестидесяти, довелось пройти через это? Их количество вернее любой статистики говорит нам о том, каков был размах репрессий. Интересно послушать, как они вспоминают об этом. Все кажется таким далеким, таким чужим… Когда меня приговорили к смертной казни, говорят они, как будто речь идет о чем‑то обыденном, как будто этот приговор не был ужасом, отпечаток которого наложился на всю их последующую жизнь. Разве время в состоянии стереть в памяти тот момент, когда был зачитан этот приговор? Разве можно с течением времени забыть, как ночью выводили на расстрелы, как медленно, с паузами, усиливавшими трагическую напряженность ожидания, зачитывались списки тех, чей черед выпал сегодня? Может, от многократного повторения все это стало обыденным? Чем иначе объясняется манера разговаривать об этом как о самой тривиальной вещи?
Когда вы приехали повидать отца в Порльер, ему уже был вынесен смертный приговор, хотя вы еще не знали этого. Среди толпы женщин и детей, громко кричавших, чтобы там, за железной решеткой, их услышали отцы и мужья, стояли и вы: «Папа, когда ты вернешься?» – кричали вы. «Скоро, скоро мы будем вместе», – отвечал он. «Приезжай поскорее, папа, – кричали вы на прощанье, – поскорее…»
Иногда я думаю, что твой отец был наивным человеком и никогда до конца не представлял, как далеко может зайти месть победителей…
Состоялся суд, он вынес смертный приговор. У меня сохранилась копия для защитника – одного из тех защитников, которые назначались официально и даже оскорбляли своих подзащитных во время процесса, – и я знаю, из чего исходили трибуналы победителей, вынося смертные приговоры. Я слышал, хотя утверждать достоверность этого не могу, что поводом для такого приговора могла стать укрепившаяся за человеком слава «опасного кантианца». Опасны были кантианец и краузист[73]73
Философское течение, в основе которого работы немецкого философа Карла Христиана Фридриха Краузе (1781–1832); разновидность объективного идеализма. Краузизм оказал огромное влияние на духовную жизнь Испании в конце XIX – начале XX в.
[Закрыть], какая разница! – ведь, в конце концов, и то и другое было следствием нечестивой привычки мыслить, которая, как того и хотели просвещенные ученые из университета Сервера, нам совсем не свойственна. Почему бы подобному обвинению не стать основанием для смертного приговора? И хотя утверждать этого я не могу, но, исходя из простой логики, мы не вправе и отрицать это, поскольку сохранилось обвинение судьи, выдвинутое против Хулиана Бестейро[74]74
Хулиан Бестейро (1870–1940) – профессор Мадридского университета, один из основателей и лидеров испанской социалистической рабочей партии; с 1925 по 1931 г. – ее председатель; позже – руководитель ее умеренного крыла. Пытался, вопреки своей партии и другим левым силам, безуспешно договориться о мире с Франко в 1939 г. После окончания гражданской войны остался в Испании и был расстрелян.
[Закрыть]: «Я допус каю, – говорил его бывший ученик, судья Фелипе Аседо, – что он не повинен в кровавых преступлениях, но я требую смертного приговора за его идеи…» Идеи… кантианские, гегельянские, краузистские, марксистские… все нечестивые, все достойные осуждения, все подрывные, все заслуживающие высшего наказания… Иметь идеи было опасно, это считалось преступлением, которое каралось смертью. Никогда еще великий фарс, который мы зовем правосудием, не отрицал самое себя с таким цинизмом, как это было еде лано в судебном обвинении, предъявленном Хулиану Бестейро, опасному краузисту, опасному человеку, у которого были идеи и который поэтому был недостоин жить…
Разве не лишен смысла любой жест перед лицом смерти? Занимать целый этаж большой больницы, располагать многочисленным штатом выдающихся врачей и новейшей аппаратурой, подвергаться бесконечным и бессмысленным операциям – разве это не то же самое, что отчаянный жест ребенка, старающегося руками заслониться от мчащегося на него огромного грузовика? И я невольно поддаюсь хитросплетениям средневекового танца Смерти, которая лишь на первый взгляд всех уравнивает.
Я знаю, что это казуистика. Я не могу и не должен забывать, кто он. И все же мне с каждым разом все труднее сохранять первоначальную ясность: образ диктатора постепенно вытесняется образом умирающего старика.
Когда в пятницу, седьмого числа, его перевезли в клинику «Ла – Пас», чтобы произвести иссечения множественных язвенных образований, я на несколько мгновений перенес на Франко те чувства, что вызывает у меня эта больница. Он вдруг привиделся мне как один из больных, умирающих в страданиях и безвестности. Но мой рассудок тут же запротестовал. Конечно, когда из одиночества дворца его перевели в большую больницу, то образ того, кто в течение стольких лет ничего общего не имел с гу'– манностью, будучи выше нее, стал более человечным. Там, во дворце, под защитой своей гвардии, окруженный представителями прессы, которые не имели к нему доступа, посещаемый только самыми близкими, он был мифом, недоступным диктатором, существом высшего порядка. Он распоряжался нашими судьбами, и за его агонией мы на блюдали со стороны, как наблюдают необычное зрелище. Цо начиная с седьмого числа, он из хозяина пышного уединенного дворца превратился в одного из пациентов многочисленных корпусов, где страдают столько женщип, мужчин и детей. И от этого стал нам ближе, стал больше похож на обычное человеческое существо: его судьба смешалась со столькими безымянными судьбами, а величественное зрелище, в которое превратили его умирание, потускнело в потоке простых людей, которые приходят сюда навестить своих родных и, поглощенные собственной трагедией, даже не задерживаются, чтобы взглянуть на полицейских, журналистов, кинокамеры, телевидение, которые толпятся у главного входа, подстерегая великое событие. Его агония смешивалась с бессмысленными агониями других и из гиньоля превращалась в простую и торжественную обычную человеческую агонию.








