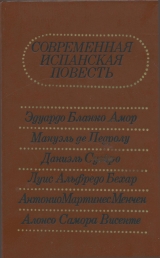
Текст книги "Современная испанская повесть"
Автор книги: Алонсо Самоа Висенте
Соавторы: Эдуардо Бланко-Амор,Луис Альфредо Бехар,Мануэль де Педролу,Антонио Мартинес Менчен,Даниель Суэйро
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 34 страниц)
Но мой разум заставляет меня подавить чувства, которые внушает мне эта больница, заставляет меня увидеть, сколько фальши в этой кажущейся гуманизации. Он остался таким же… Даже в больнице условия у него были особые. Специально для него освобожден целый этаж всегда переполненной больницы, где вечно не хватает коек… И гам, на этом этаже, он лежит совершенно один, общаясь только с приближенными и родными, которые распоряжаются им, и с многочисленными врачами, которые обращаются с ним покорно – почтительно. Поэтому между ним и всеми, кто страдает и ждет конца в этой огромной больнице, которую он распорядился построить согласно своим представлениям о монументальной архитектуре, – стена… Он по – прежнему отделен от всех этих женщин и мужчин, что бьются над своими проблемами рядом с ним. Он отделен и от своих последователей, которые молятся теперь не у дворца Пардо, а у здания больницы, отделен от рабочего, который, чтобы спасти его, предлагает отдать одну из своих почек, отделен от тех, кто любит его, и от тех, кто ненавидит.
Одинокий, далекий от всех, в холодной пустоте, в которой он жил. И единственно, что в нем есть человеческого, – это тот по – детски бессмысленный жест, который все мы делаем перед лицом смерти…
Я вспоминаю другой случай из твоего детства. К тому времени твой отец наверняка уже знал о приговоре, а вы еще были в том монастыре неподалеку от Порльера. Однажды одна из монахинь позвала тебя с собой просить милостыню.
Девочки, ходившие с монахинями по домам просить милостыню, не носили той формы, что привычно ассоциировалась с платным обучением, доступным детям из обеспеченных семей, девочкам, из которых должны были вырасти настоящие хозяйки семейного очага. Одежда этих девочек вызывала ассоциации с сиротским приютом или тюрьмой. Когда я был студентом, мне иногда приходилось открывать дверь монашкам, которые просили милостыню на обучение бедных детей. Рядом с ними униженно, молча и застенчиво всегда стояла девочка в серой форме, вызывающей мысль об исправительном доме или приюте. В такие минуты я ненавидел и монахинь, и девочек нз монастырских школ, которые вовсе не нуждались в подаянии, и само христианское милосердие. Я думал о том, что нельзя подвергать человеческое существо такому унижению, как просить подаяние, и считал, что девочка так же возмущается монахиней, как и я, что ее молчаливая скромность скрывает глубокую ненависть к спутнице и возможным благодетелям.
Мне никогда не приходило в голову, что девочка могла пойти с ней по доброй воле и даже с удовольствием. Я никогда не думал, что воспитанница, стоя рядом с монахиней, не только не чувствует себя несчастной, но, напротив, счастлива; что монахиня хотела не унизить девочку, а облагодетельствовать. Ты, одна из девочек, сопровождавших монахинь в поисках милостыни, заставила меня увидеть эту ситуацию другими глазами, глазами ребенка.
Это ты объяснила, что значила эта возможность для вас, с какой радостью соглашались вы ходить с монахиней из дома в дом за подаянием. Мне бы никогда это не пришло в голову, потому что я и представить себе не мог, каково жить в полном заточении, потому что никогда не знал, что значит в восемь, девять или десять лет сидеть все время взаперти. Сидеть месяцами в мрачном монастыре и не видеть такого чуда, как улицы, тротуары, трамваи, такси, пешеходы, здания, магазины, не иметь возможности наслаждаться чудесами, которые мы замечаем, только когда лишаемся их. Какое вам было дело до того, что скажет монахиня, что подумает человек, открывший дверь, что вам было до презрения привратниц!.. О каком унижении могла идти речь, если вы уже перешагнули черту всех возможных унижений… Гордость, унижение, достоинство– эти слова не имели смысла для вас. Вам были знакомы только простые и осязаемые вещи, то, что составляет суть жизни, без которых существование делается реально пе– возмояшым: кусок хлеба, необходимый, чтобы утолить голод; воздух, наполняющий легкие; луч солнца, ласкающий кожу… В поисках этого вы и стремились попасть за стены монастыря. Когда вы поднимались на лифте, вам казалось, что вы катаетесь на самой чудесной карусели; витрины превращались в сказочное видение, а ходить по улицам Мадрида – глухого и разрушенного войной – было все равно что попасть в самый необыкновенный город из «Тысяча и одной ночи». Вот потому отправиться просить милостыню было благодатью, прекрасным даром нескольких часов жизни и свободы.
Как узнал об этом твой отец, кто рассказал ему там, в отрезанном от мира Порльере? Кто‑то, кто знал вас в лицо, кто видел вас у одного из этих домов с большими подъездами, куда обычно заходили монахини просить милостыню. Этот кто‑то с возмущением и негодованием рассказал все вашему отцу. Наверное, при этом было сказано что‑то вроде: «Они не только сажают нас в тюрьмы и убивают, они доставляют себе удовольствие унижать нас». И твой отец там, в Порльере, почувствовал стыд и унижение. Он отнесся к этому как к последней ране, нанесенной в тот момент, когда он думал, что уже ничто не может задеть его… На какое‑то время он увидел себя таким, каким был всего лишь несколько лет назад. Он увидел своих дочерей, какими они были в то время, казавшееся теперь таким далеким, – этих счастливых и избалованных девочек, – и он не мог представить, чтобы одна из этих девочек ходила из дома в дом с монахиней и просила милостыню. И он тоже повторил: «Они не только сажают нас в тюрьмы и убивают, они еще доставляют себе удовольствие унижать нас…» На какое‑то время он забыл, где находится и каково было его реальное положение: политзаключенный во франкистской тюрьме, приговоренный к смертной казни. Он значил меньше, чем собака, меньше, чем отбросы, как образно выразился начальник одной из тюрем, которых тогда было полно в Испании. Он забыл об этом и увидел себя, каким был недавно, и это вернуло ему ощущение собственного достоинства. И так же, как я, открывая дверь монахине, приписывал собственные чувства стоящей рядом с ней девочке в форме, вызывающей мысль об исправительном доме или приюте, с головой, склоненной заученным движением, так и он собственные чувства оскорбленного достоинства и ненависти приписал этой девочке, что была его дочерью. И когда жена приехала повидаться с ним, этот человек, которому был вынесен смертный приговор, думал только о последнем оскорблении, которое ему нанесли, унизив дочь, и просил жену поговорить с монахинями, чтобы это больше не повторялось…
Он не знал, не мог знать, что на самом деле означала для его дочери возможность пойти за подаянием. Думая о них, он вспоминал девочек, которых ласкал и баловал, и не знал, что они стали совсем другими. Он забывал, что теперь эти девочки были, как и он, заключенными, что, как и он, они жаждали света и свободы, что, как и он, они так привыкли к угнетению, что слова «унижение» и «гордость» потеряли для них смысл; что бедность они принимали как нечто естественное и обыденное, как воздух, которым они дышат, – они принимали ее без всяких чувств, без возмущения или стыда; но, находясь под властью далеких образов прошлого, он не мог понять, что жизнь изменила вас…
Этот отчаянный и беспомощный порыв отца, продиктованный любовью, лишил вас единственной возможности хотя бы несколько часов наслаждаться светом и свободой…
Нет, не необходимость просить милостыню наполнила твою детскую душу ненавистью и несмываемым стыдом, а гораздо более бесчеловечная и унизительная просьба, с которой однажды пришлось обратиться. Воспоминание об этом связано с дворцом, куда, согласно слухам, просочившимся на днях в печать, скоро перевезут Франко, чтобы дать ему спокойно умереть.
Сегодня в баре мы говорили об этих слухах, о том, что последние дни его наполнили ненужными мучениями: пе– ритональный гемодиализ, иссечения множественных язвенных образований, искусственная почка, дыхательная трубка и, наконец, снова операция – еще одна, – чтобы наложить швы на разошедшиеся ткани. Мы говорили о несчастном теле, которое призывает смерть, о разлагающемся организме, об апофеозе загнивания, отказывающихся функционировать органах… И о безумном упорстве, с которым стараются продлить его умирание; об ультра, избивающих демократически настроенных адвокатов; о полицейских, ранивших активиста, когда он распространял материалы своей партии; о статье в «Нуэво диарио», посвященной вспышке профашистских настроений, в результате чего «марксистскими предателями» порой объявляются даже представители традиционно правых сил. Мы говорили о безумии, вызванном страхом, что конец системы повлечет за собой и их гибель; о тех, кто призывает раз и навсегда покончить с режимом, завершающим свое существование при полной международной изоляции и осуждении, сопровождающихся шумными протестами и демонстрациями, отзывом послов и закрытием посольств, о трагическом «зеленом марше», в результате которого Марокко будут переданы последние смехотворные остатки наших колониальных завоеваний в Африке. Мы говорили и о том, что крупный капитал уже думает о будущем и что любое ухудшение в состоянии именитого больного вызывает резкий подъем биржевого курса, что банкиры ждут его смерти, потому что он давно стал помехой и его смерть ничего не изменит для них: ведь Антонио Гарригес Уолкер[75]75
Антонио Гарригес Уолкер (р. 1934) – влиятельный мадридский промышленник, член крупного семейного клана, игравшего заметную роль в политической жизни при Франко и после его смерти.
[Закрыть] заверил калифорнийских миллионеров – а заодно и наших, – что, по всей видимости, в ближайший год или два определяющую роль в стране будут играть силы, охраняющие старый порядок, и только лет через десять можно будет говорить о демократии. Рассуждая обо всем этом, мы понимали, что еще несколько дней – и эта вездесущая тема превратится в воспоминание. В этом‑то разговоре и всплыло имя Кармен, когда кто‑то сказал, что дочь Франко выступила против всего семейного клана, старающегося ценой любых усилий поддержать жизнь кау– дильо, и повела себя более человечно, потребовав, чтобы прекратили истязать его и вернули в Пардо, где бы он мог умереть спокойно.
Ее поведение, такое естественное и понятное в любой женщине, переживающей близящуюся смерть отца, напомнило мне тот эпизод твоего детства, наполнивший тебя стыдом и ненавистью, и это воспоминание мешает мне увидеть в поведении дочери Франко достоинство и гуманность – именно так изображает ее в эти дни наша пресса. Я не могу в это поверить, потому что, перекрывая и заслоняя образ страдающей женщины, требующей, что бы положили конец мучениям ее отца, встает перед моими глазами сцена, о которой ты однажды рассказала мне. Она сильнее, чем мысль о том, чём была все эти годы дочь Франко и кого она представляла. И пока ты говорила, ты испытывала ту же ненависть и стыд, что в те далекие годы, – время оказалось бессильным стереть их.
Да, однажды ты вышла из монастыря, чтобы просить, но на сей раз ты была не одна – рядом шли твои сестры. В тот день на вас не было формы, вызывающей мысль о приюте или тюрьме, формы, которая не только отделяла вас от девочек из платных учебных заведений, но и вызывала сострадание у стыдливых добропорядочных людей. В тот день на вас были элегантные платьица, которые должны были гармонировать с той обстановкой, где вам предстояло очутиться, с ожидавшим вас специально нанятым роскошным автомобилем и с тремя огромными букетами цветов – за них были заплачены деньги, на которые ваша семья могла бы кормиться целый месяц. Все это было делом рук сестры твоего отца, той самой сестры, которая после войны ничего не сделала для вас и не сделает ничего после того, как сыграет свою роль в устроенном ею же печальном представлении. В представлении, где гротескное не могло скрыть трагизма; представлении, которое было точным отражением образа мыслей правых, неспособных спустить с пьедестала существо, состоящее из ненависти и пролитой крови, существо, которому они поклонялись даже тогда, когда, как в этом случае, оно питалось их собственной кровью. Они были неспособны хоть самую малость уклониться от ритуала покорности и лести, входившего в его культ. Они были неспособны понять, что любое человеческое чувство, любое проявление чувствительности – а это было неотъемлемой частью идеальной модели человеческих отношений в их мелкобуржуазном мире – противоположны воздвигнутому и прославляемому ими Молоху, который, как им казалось, выражал их интересы. Только полное непонимание подлинной природы божка, объекта их поклонения, могло продиктовать сцену, как будто позаимствованную из нравоучительных книг, которые читали девочки их круга. Эти книги, кроме всех прочих недостатков, были удивительно фальшивы – ведь в окружавшем вас ужасном и жестоком мире, основой которого было полное отрицание благопристойных человеческих чувств, составлявших идеал их мелкобуржуазного сознания, не было места подобным поучительным и счаст ливым развязкам… Только такое сознание могло продиктовать тяжелую и бессмысленную сцену, в которой, как будто в насмешку, главные роли были не выдуманы, а трагически пережиты. Только подобное сознание могло вообразить, что от бессмысленного уния «ения, наполнившего тебя ненавистью и стыдом, может быть польза…
Вы сняли ваши повседневные жалкие платья, оделись как девочки из благополучных семей – такими вы были когда‑то, давным – давно, – сели в нанятый роскошный автомобиль, в «роллс – ройс» двадцатых годов, резко контрастирующий с убожеством Мадрида сорок второго года и с вашей собственной нищетой, и поехали в этот дворец, который так любил дон Мануэль Асанья[76]76
Мануэль Асанья (1880–1940) – президент Испанской республики с апреля 1936 до конца 1939 г. Умер в изгнании.
[Закрыть], во дворец, где хозяином был теперь тот, кто изгнал дона Мануэля Аса– нью, тот, кто разрушил все, о чем дои Мануэль и те, кто разделял его взгляды, когда‑то мечтали… Автомобиль остановился у дверей дворца, и вы, следом за тетей, прошли мимо гвардейцев – мавров[77]77
Личная гвардия Фрапко до конца 50–х гг. состояла из солдат – марокканцев.
[Закрыть], в окружении которых кау– дильо так любил появляться, прошли через коридоры и залы, увешанные гобеленами и картинами, являвшимися собственностью Управления охраны архитектурных памятников, – прошли, поглощенные собственным горем, смущением и позором, вы не взглянули на них, даже не посмотрели. Как во сне, вошли вы в комнату, где увидели девочку, только на первый взгляд такую же, как вы, – за внешностью обычной девочки скрывалось существо сверхъестественное, всемогущий ангел. Пресвятая Дева, дарующая прощение грешникам и покой скорбящим, небесная заступница за простых смертных перед своим всемогущим отцом, обитающим на небесах… И так же, как в молельне вы преклоняли колени перед образом Пресвятой Девы, опустились вы на колени перед этой девочкой, отдали ей ваши букеты и, рыдая, стали просить, чтобы ее всемогущий отец простил вашего папу, чтобы он не казнил вашего папу, чтобы он даровал ему жизнь и не оставлял вас сиротами. Потом, как во сне, вы вышли из этой комнаты и, пройдя через коридоры, увешанные коврами и картинами, мимо гвардейцев – марокканцев, снова сели в «роллс– ройс», выйдя из которого вы окунулись в ту боль, отчаяние и нищету, что отныне составляли вашу жизнь…
Я знаю, какой след оставила эта сцена в тебе. Но та девочка – что почувствовала она? Что чувствует, о чем думает девочка, глядя, как ее сверстницы, стоя перед ней на коленях и протягивая цветы, рыдая, умоляют ее заступиться и спасти жизнь их отцу? Потом, когда слуги выкинут цветы, за которые заплачены деньги, способные в течение месяца спасать от голода целую семью, и всемогущая девочка, покончив с тягостными обязанностями, возвращается к своим играм, вспоминает ли она, хоть на одну минуту, рыдающих, умоляющих девочек; пытается ли хоть на одно мгновение представить, что испытывает девочка, отца которой должны убить; занимает ли ее, пусть на секунду, в которой умещается только вздох или быстро перечеркнувшая небо молния, мысль, что она могла бы вступиться, попросить своего всемогущего отца спасти одну жизнь, избавить от боли и горя сверстниц, со слезами умоляющих ее о помощи, таких же девочек, как она?.. Нет, она не может думать об этом, не может разделять их чувства, не может переносить свои чувства на этих девочек и не может представить себя на их месте… Это всего лишь неприятная обязанность, которую ей иногда приходится выполнять, один из тягостных ритуалов протокола, к которым обязывает ее положение… И пока мусорные ящики дворца наполняются букетами цветов, пока перед ней проходят вереницы девочек, падающих на колени, – девочек, чьих лиц она не видит, чьих рыданий не слышит, чьих слов не слушает, постепенно воздвигается стена, отделяющая ее от преследующих и подступающих со всех сторон боли, страданий, крови, нищеты, – стена не дает им коснуться ее, она изолирует, отделяя ее чувства от чувств и страданий других людей; эта стена навсегда отделяет ее от любого человеческого существа, способного чувствовать и мыслить…
Такая же стена встает сейчас передо мной, мешая увидеть в этой женщине дочь, страдания которой при виде умирающего отца вполне понятны; эта стена мешает мне понять и пожалеть ее… Потому что сейчас я вижу, я имею право видеть только ваши цветы, сотни букетов цветов, которые были положены около ее ног в те далекие дни. Я вижу, я имею право видеть только сотни девочек, стоящих перед ней на коленях и с рыданиями умоляющих пощадить их родителей. Я вижу, могу видеть только маленького бесчеловечного идола, перед которым бессмысленно плакать и умолять, идола, который никогда не за думается о том, что значат эти просьбы и эти слезы, идола, который до сих пор не представлял, как это тяжело – умирать[78]78
В один из дней агонии Франко, придя в сознание, произнес фразу: «Я не думал, что умирать так тяжело».
[Закрыть].
ЧЕТВЕРГ, 20
Меня будит телефонный звонок. В полусне я долго шарю рукой по стене, пытаясь найти трубку висящего рядом с постелью аппарата. Дору плохо слышно, как будто голос ее пробивается из мира, бесконечно далекого от моей полутемной комнаты. «Прости, что я в такую рань, Антонио, но только что по радио передали, что он умер. Это официальное сообщение». Прерывая поток извинений за ранний звонок, я благодарю Дору и вешаю трубку.
Смотрю на часы – двадцать минут седьмого. Рядом спит жена – будить ее или нет? Если не разбудить, то она встанет как обычно, в семь, чтобы успеть собрать девочек в колехио и без десяти восемь проводить их до автобуса. Лучше сказать сейчас, пусть не поднимается так рано, и я тихонько трясу ее за плечо. Она просыпается как всегда – внезапно, с застывшим в глазах ужасом, корни которого где‑то далеко в прошлом; наверное, ей жутко возвращаться из глубокого сна, где она нашла себе убежище, в мир, полный жестокости и горя. «Что, что такое?» – вздрагивает она. «Да ничего, не пугайся. Просто сегодня не надо рано вставать – у девочек и у нас каникулы. Только что звонила Дора и сказала, что по радио уже передали официальное сообщение…» – «Ну наконец‑то! И надо было ей будить тебя в такую рань!..» – «Ничего, сегодня можно отсыпаться сколько угодно». – «А ты уверен, что на работу идти пе надо?» – «Конечно, они сразу же объявят национальный траур. Си себе спокойно», – «Да нет, я, пожалуй, встану. Пойду сварю кофе и послушаю радио. Надо позвонить маме». Она встает, надевает халат и выходит из комнаты, а я гашу свет и собираюсь еще поспать. Безусловно, Дора могла бы и подождать со своей новостью, потому что после стольких дней ожидания все это меня совершенно не трогает.
Вчера, ложась спать, я уже знал, что сегодня сообщат о его смерти. Мы все это знали после утреннего бюллетеня. Телевидение изменило свою программу и вместо не в меру веселого Хулио Иглесиаса показало фильм о войне – так, не сознавая того, они попрощались с ним, когда национальный траур еще не был объявлен. Я включил радио, думая услышать классическую музыку, но там шли обычные передачи. Любопытно, что и радио, и телевидение до последней минуты избегали символических выражений горя и уважения, которые еще несколько лет назад были у нас настолько распространены, что даже Страстная неделя превращалась в музыкальную передышку среди пошлых повседневных передач нашего радио в пятидесятые годы. Но в этот раз ничего подобного не было, скорее наоборот – шли обычные радио– и телепрограммы, как будто всячески старались избежать какого‑либо напоминания о том, что всех нас волновало, – исключение составляли только медицинские бюллетени, – как будто все старались подчеркнуть, что ничего необычного не происходит, что в нашей жизни ничего не изменится. Это была еще одна попытка, замолчав факты, исказить их.
После передачи «В объективе Бирма» в вечернем выпуске новостей министр информации прочитал скупую медицинскую сводку:
«После последнего медицинского бюллетеня в клиническом состоянии Его превосходительства Главы государства существенных изменений не произошло.
Прогнозы продолжают оставаться критическими. Следующий медицинский бюллетень будет передан 20 числа в обычное время».»
И мы все поняли, что следующего медицинского бюллетеня не будет. Вместо него будет сообщение о смерти.
В кухне жена разговаривает по телефону с матерью. Сузи уже сказала ей. Какие мысли, какие чувства вызывает у этой старой женщины известие о смерти человека, который был причиной всех ее бед, о смерти того, кто, не зная ее, доставил столько страданий? Что почувствуют все эти старики и старухи, которые, как моя теща, столько вынесли по вине этого человека? Сколько людей годами мечтали об этой минуте и умерли, не дождавшись ее!
Я думаю о живых и о мертвых, о молодых людях, расстрелянных лишь месяц назад; об этих юношах, чьи жизни могла бы спасти любая проволочка в ходе процесса. Я думаю о тех, других, кому тоже угрожает расстрел, от которого спасет их смерть этого человека. Знают ли они уже о ней, дошла ли до них туда, в глухое одиночество камер, весть о событии, благодаря которому они будут спа сены, просочилась ли уже эта новость сквозь толстые стены испанских тюрем?
Два дня назад арестовали Армандо. Наверное, как всегда, они пришли в этот ужасный предрассветный час, – они всегда приходили за людьми в это время, в это время они расстреливали у кладбищенских стен, рядом с канавой или глубокой ямой, которую сразу же поспешно забрасывали заранее приготовленными землей и камнями, чтобы в следа не осталось на земле от их жертв. Да, наверное, они пришли в этот час, когда человек еще спит глубоким сном. Резкий, бесстрастный звонок в дверь – начало длинной садистской процедуры, ставшей целью и символом этого режима, – неожиданно вырывает человека из объятий сна. Они пришли в этот печально известный предрассветный час, чтобы произвести арест, бессмысленный и абсурдный. Какой теперь смысл арестовывать Армандо, Симона, этих старых коммунистов, которые половину своей жизни провели во франкистских тюрьмах и стали уже неотъемлемой частью нашей действительности, живым свидетельством того, что в нашем обществе есть оппозиция и упорное сопротивление? Армандо, должно быть, терпеливо, с привычным внешним спокойствием, за которым угадывается раздражение, сказал пришедшим – он давно знал их в лицо и по именам, – чтобы они были столь любезны немного подождать в его скромной гостиной, пока он оденется в спальне, а Тереса приготовит чистую рубашку и носовые платки – как будто она собирает муя «а в неожиданную поездку. И еще раз этот тихий человек, единственное преступление которого в том, что он отказался от спокойствия, благополучия, тихого семейного очага, от литературы – от всего, о чем мечтал когда‑то, ради беззаветной борьбы за свои идеалы, за мечту о лучшем мире, который вполне может оказаться утопией. Еще раз этого человека проведут мрачными коридорами Генерального управления безопасности, он еще раз пройдет через обряд бюрократических процедур; ему придется выдержать еще один бесконечно длинный допрос. А потом Армандо посадят в одну из хорошо знакомых ему камер и судья, ознакомившись со всеми обстоятельствами, решит, что да, вполне достаточно оснований, чтобы открыть дело. И Армандо переведут в тюрьму Карабанчель, где в шестой галерее он встретит друзей и знакомых, которых уже видел тут во время своего предыдущего ареста. И это все происходит как раз тогда, когда другой человек, вопло щающий идеалы, противоположные тем, за которые всю жизнь боролся Армандо, наконец умирает. Армандо арестовывают как раз в тот момент, когда у него появляется надежда, что смерть этого человека будет первым шагом по длинной дороге, ведущей в землю обетованную, о которой он мечтал всю жизнь и на которую, как и Моисей, он никогда не ступит. Его арестовывают, когда он надеется, что после смерти этого человека к нему не будут больше приходить, что не будет людей, которые целый день ходят за ним по пятам, не будет неожиданных звонков в дверь, вырывающих его из сна, звонков, за которыми следуют бесконечные допросы и грязные подземелья Генерального управления безопасности. Армандо думает об этом, пока говорит с возбужденно обступившими его людьми – он уже видел их во время своего предыдущего ареста, – а они жадно расспрашивают его о том, что творится там, на воле, что, по мнению товарищей, должно произойти, когда Франко умрет. И пока они разговаривают, всех их в последний раз охватывает страх, хотя никто не признается в этом вслух. Они боятся, что в момент его смерти по стране прокатится жестокая и слепая волна мести, что в порыве экзальтации и безумия кто‑нибудь решит принести в жертву покойному его врагов – тех, кто, сидя за решеткой, надеется, что эта смерть станет началом их свободы.
Я думаю о противоречивых чувствах, переполняющих его врагов – тех, что в тюрьме, и тех, что на свободе, – о противоречивых чувствах, где радость перемешана со страхом, а надежда с опасениями. Тень смерти, покрывшая всю Испанию в тот день, когда он начал борьбу за власть, нависает над страной и сейчас, когда его режим умирает. Это ее символ.
Тень смерти… Для вас она приняла облик женщины в белой токе и темно – синем монашеском одеянии, которая однажды легкими, неслышными шагами подошла к вам и приказала идти за ней в часовню. И вы, совсем маленькие, молча шли за бесшумно шагавшей монахиней по безмолвным переходам, длинным коридорам, выложенным белыми и черными плитами, где всегда царит тяжелый печальный полумрак. Вы шли, тесно прижавшись друг к другу, как будто спасались от смутной опасности, как будто предчувствовали нависшую над вами ужасную угрозу;
шли по этим пустынным коридорам как воплощение беззащитности. Вот и часовня. Там было темно, и только красный огонек лампадки перед бледным и призрачным образом возвещал, что это холодное и печальное помещение – Дом Божий. Следом за монахиней вы подошли к первой скамье возле алтаря и встали на нее на колени. Монахиня закрыла лицо руками и какое‑то время оставалась так, только губы ее беззвучно шевелились. Вы неподвижно стояли рядом, чувствуя коленками, какая жесткая скамейка, слушая бормотанье монахини и слабое потрескиванье масла в лампадке возле дарохранительницы. Было холодно, и от этого молчанья, тоскливого полумрака и терпкого запаха свечей у вас, и без того замерзших в форменных платьях из грубой материи, по телу побежали мурашки. Когда вы начали дрожать, монахиня, отнимая руки от лица, произнесла слова, которые уже ни одна из вас никогда не забудет: «А сейчас вы вместе со мной помолитесь за вашего папу, которого казнят через семь дней». Вы стояли в полумраке пустой часовни, перед распятием, глядя на лампадку возле дарохранительницы, где лежали маленькие облатки пресного белого хлеба, символизирующие Тело Господне. И именно там, в месте, которое монахиня считала святым, перед распятием, напоминающим о страданиях Сына Божия, перед Святыми Дарами, которые, как она верила, были воплощением Тела Господня, именно там эта женщина, посвятившая себя служению Богу, эта мистическая Христова невеста, холодным и бесстрастным тоном, в котором не было и намека на сострадание или нежность, сообщила трем девочкам, трем беззащитным созданиям, у которых украли детство, разлучили с семьей и родным домом, что через семь дней их отца казнят.
Разве могу я хотя бы представить, что вы почувствовали в ту минуту? Разве можно писать об этом, не пережив? Какими бесполезными и холодными оказываются в таких случаях слова, какими бессильными и пустыми!.. Сколько лет прошло с той минуты, сколько часов, наполненных болью, тоской, унынием и забвением; сколько часов поглотили время, привычка и рутина, сколько – затягивающая повседневность, это медленное умирание, униженное и безрадостное существование… Но, несмотря ни на что, та минута еще живет в вас; она неожиданно сдавливает грудь резкой беспричинной болью, врывается в ваш сон сумбурным кошмаром, из‑за которого вы просыпаетесь с ужасом в глазах; и причина его не смутные и нелепые образы сновидения, а та далекая минута, что вы когда‑то пережили в полумраке монастырской часовни, где лампадка перед дарохранительницей бросала кровавые блики. Слова, произнесенные в ту минуту женщиной, кроткой и мистической Христовой невестой, посеяли в ваших душах такую глубокую горечь, что она, прочно укоренившись во всем вашем существе, войдя в вашу кровь, будет всю жизнь, постоянно давать о себе знать – ни время, ни забвение не будут властны над ней… Вы стояли на коленях перед алтарем в полумраке часовни, и слабо мерцал огонек лампадки как символ кровавой агонии… Прямо перед вами был мертвенно – бледный образ Христа, а рядом – медленно ронявшая слова молитвы монахиня. Вы не могли сдержать неудержимо рвавшихся рыданий, заглушавших ваши собственные молитвы и холодное, металлическое бормотанье монахини… Безграничная боль, обрушившаяся на вас, сжимала горло, произнесенные слова – слишком страшные, чтобы быть правдой, – наводили ужас, и что‑то в глубине души кричало: все это происходит не наяву, с вами не могло случиться ничего подобного, никто – никто! – не может сознательно и безжалостно убить нашего папу… II в самой глубине души, откуда‑то из‑под мешавших молиться рыданий, рвалась настоящая молитва. Это не были обычные слова, заученные фразы безжизненной литургии – нет, это был крик, отчаянная мольба, безнадежный вопль. Вы молились, чтобы Всемогущий, который, как вас учили, был там, в алтаре, отвратил эту страшную угрозу, не дал ей осуществиться, чтобы она развеялась, подобно дурному сну, как только вы выйдете из часовни…
Но кошмар продолжался… Целую неделю повторялся этот мучительный обряд, целую неделю, пока вы заученно повторяли слова молитвы, к распятию рвалась ваша отчаянная мольба; целую неделю продолжался этот садистский ритуал, который придумала для вас добрая монахиня, прикрывая свою жестокость – уже не в первый раз – лицемерной маской христианского милосердия… Этот ритуал нельзя объяснить только тайным желанием отомстить за кровавые потери во время войны; его даже нельзя объяснить желанием выместить на беззащитных детях боль, которую, возможно, испытала она сама, потеряв отца или брата… Ни ненависть, ни жажда мести, ни жестокость не могут быть причиной утонченного садизма, с которым трех детей заставляли переживать агонию последней недели приговоренного к смерти… Каждый день вы отправлялись часовню… каждый день вы молились за вашего папу, потому что осталось только шесть дней… пять… только два дня до того, как его убьют… Ваше отчаянье раздували изо дня в день, наполняя вашу жизнь безысходной горечью, каждый день превращая в агонию, и объяснить это можно только особенностями религии, презирающей жизнь и создающей трагический и тоскливый культ вокруг смерти…








