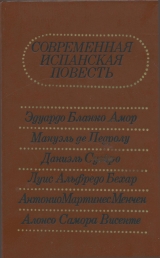
Текст книги "Современная испанская повесть"
Автор книги: Алонсо Самоа Висенте
Соавторы: Эдуардо Бланко-Амор,Луис Альфредо Бехар,Мануэль де Педролу,Антонио Мартинес Менчен,Даниель Суэйро
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 34 страниц)
Антонио Мартинес Менчен
PRO PATRIA MORI (Перевод с испанского H. Матяш, Редактор Хуан Кобо)
Antonio Martinez Menchen
PRO PATRIA MORI
ПЯТНИЦА, 17
«Он умер», – сказал я… Ты помолчала, потом недоверчиво улыбнулась. Я стал уверять – это правда, на этот раз не слухи, он действительно умер… Ты сидела и шила, и я напрасно искал на твоем лице следы каких‑либо чувств. Оно не выражало ничего – ни радости, ни нетерпения, ни ненависти… Только глухое безразличие…
И я вспомнил, как около года назад глубоко потрясло меня то, что ты рассказала. Я тогда взял у приятеля моего брата пластинку «Испанская гражданская война», выпущенную в Париже, и принес домой, чтобы переписать на магнитофон. Я поставил пластинку на проигрыватель и включил запись. Ты сидела рядом, слушала стихи, песни, выступления – они возрождали в памяти далекую трагедию. Под звуки Второй сюиты Баха мужской голос читал стихи тех лет. Эти стихи могли появиться только в те дни, и смысл их был понятен только тем, кто те дни пережил.
Я смотрел на тебя – ты плакала. Слезы катились по щекам, губы искривились, как от боли. Я мягко пожурил тебя. Потом, приласкав, посмеялся над твоей чрезмерной впечатлительностью. Тогда‑то ты и сказала – и эти слова я вспоминаю сейчас, глядя, как ты шьешь, безучастная к новости, которую я только что тебе сообщил: «Ты этого не знал, – сказала ты, – ты не можешь понять, что эти воспоминания значат для меня, просто не можешь себе представить… Я так и вижу, как стою в очереди с двумя сестренками, а они такие маленькие…» Ты снова разрыдалась. Я гладил тебя по голове, не находя слов… «Знаешь, – продолжала ты, немного успокоившись, – когда я жила в интернате, по ночам мне снилось, что я убиваю Франко. Потом, днем, я продолжала думать об этом, мечтать. Я грезила наяву, что прорываю подземный ход до самого Пардо, подкладываю туда бомбу. Иногда я мечтала, что по этому подземному ходу пробираюсь в комнату Франко и… И все в таком роде, совершенно безумные и несбыточные мечты… но они всегда сводились к одному: в мыслях я каждый раз убивала его… Это длилось годами… Теперь ты понимаешь, почему я не могу, почему я не хочу слышать этих стихов?..»
Сколько лет было тебе в ту пору? Восемь, девять? Откуда в девочке восьми – девяти лет взялось столько ненависти, что она изо дня в день мечтает, как убьет человека, и эта мечта становится навязчивой идеей? И тогда я подумал, что, если девочка испытывает такие чувства, значит, она уже не ребенок, значит, ее жестоко лишили детства. Украденное детство – может ли быть большая трагедия, большая боль для человеческого существа? Если нет детства – к чему жизнь? А у тебя украли детство; и теперь ни я, ни твои дети, никто и ничто в мире не восполнит этой потери…
Но это случилось не только с тобой. Твоих сестер и еще многих, многих детей, сотни тысяч, раз и навсегда лишили детства. Вместо прекрасного волшебного мира им досталось горькое бремя ненависти, отчаянной и бессильной ненависти, заставлявшей их долгими ночами мечтать о смерти человека, который, как уверял меня сегодня Карлос, только что умер…
Это было в машине, когда мы возвращались с работы. Мы проезжали мимо биологического факультета, и Карлос неожиданно сказал: «У меня есть одна новость, ты не поверишь». Я взглянул на него, он несколько мгновений молчал, разжигая мое любопытство. «Мне самому только что рассказали, – продолжал он, – когда ты зашел, я как раз положил телефонную трубку». – «Ладно, не тяни, что случилось?» – «Ты не поверишь, но это действительно так, я узнал из совершенно достоверного источника – он умер!»
Имени Карлос мог не называть: только одна смерть могла быть Событием, только о ней можно было так говорить. Сколько людей ждали эту смерть, ждали годами, но ничего не происходило… Хотя за это время то один, то другой приятель ошеломлял тебя потрясающей новостью, уверяя, что источнику информации вполне можно доверять, в результате все оказывалось выдумкой, и никто не знал, откуда взялись эти слухи. И только один раз, когда он тяжело заболел тромбофлебитом, слухи эти казались близкими к правде. А я был в отпуске и узнал обо всем только по телевизору…
По телу побежали мурашки, и меня охватило чувство, которое трудно определить. Помолчав, я недоверчиво смотрю на Карлоса. «Эго неправда». – «Да нет, – говорит он, – думаю, что правда. Наверняка утверждать не могу, но случилось что‑то серьезное». – «Так тебе сказали, что он умер, или нет?» Карлос колеблется: человек, сообщивший ему эту повость, сам не уверен. Он знал только, что Франко болен, состояние его ухудшилось и после гриппа – я вспоминаю: действительно несколько дней назад газеты писали о гриппе – у него был тяжелый сердечный приступ. Короче говоря, утверждать наверняка Карлос не мог, но по суматохе, которая поднялась в тех сферах, где он вращается, – а это очень высокие сферы, – можно предположить, что Франко уже нет.
Приехав домой, я усаживаюсь перед телевизором. Но они, конечно, ничего не говорят, нет даже такого косвенного подтверждения, как бесконечные программы классической музыки. Выпуск новостей передается в полоненное время, в нем много говорится о конфликте вокруг Испанской Сахары, но нет никакого упоминания о Его превосходительстве. Прослушав до конца выпуск, я звоню Андресу. Услышав новость, он смеется, говорит, что это беспочвенные слухи, но все же обещает связаться со своими друзьями – иностранными корреспондентами, а потом перезвонить мне. Повесив трубку, я думаю, к каким предосторожностям прибегнет Андрес, чтобы рассказать мне то, что узнает: эта привычка – следствие многих лет полулегального существования. Я не нахожу себе места и звоню еще четырем – пяти приятелям – никто ничего не слышал. Теперь уже ясно, что это просто беспочвенные слухи.
Но когда я собираюсь поехать за дочерьми в колехио, в тот самый момент, когда я открываю дверь квартиры, звонит телефон. И Луис, напряженным голосом, нервно посмеиваясь от возбуждения, подтверждает, что да, действительно, он умер. На какую‑то секунду мне приходит в голову мысль, что это – «испорченный телефон»: Карлос позвонил Луису, а тот сейчас просто передает мне новость, услышанную от Карлоса, и теперь она выглядит еще более убедительной – ведь я слышу ее второй раз. Я спрашиваю Луиса, откуда он это узнал, и выясняю, что не от Карлоса. Ему только что позвонил один из знакомых журналистов – теперь уже нет сомнений, это правда, – и сказал, что в редакции не знают, что делать… У них царит полная неразбериха, все совсем потеряли голову, ждут официального подтверждения, распоряжения об экстренном выпус – ке, который без специального разрешения сверху, конечно, никто не осмелится печатать. А сотрудники архива тем временем уже подбирают материал для некролога…
Как сомнамбула я вешаю трубку. Да, теперь сомнений нет, это правда. Я закуриваю сигарету, чтобы успокоиться, и иду рассказать эту новость жене.
Спокойный осенний вечер, светит солнце, и, пойа мы медленно продвигаемся по кольцевой дороге, я, даже сидя в машине, чувствую, как оно печет. Когда проезжаешь съезд на Энтревиас, по обе стороны дороги видишь ветхие домишки. Они появились здесь давно, еще до того, как проложили шоссе, по которому сейчас медленной процессией тянутся машины, до того, как построили дешевые блочные дома на въезде в Вальекас…
Сколько времени прошло с тех пор? Я был ребенком, и меня везли в Андалусию, к родителям отца… Всего лишь несколько лет назад гражданская война кончилась. Многое изменилось с тех пор, но упрямые развалюхи тех лет все еще тут. Они смотрят на поток машин, и, как всегда, возле них играют рахитичные дети и сидят тощие собаки. Эти лачуги стоят тут как будто в насмешку, как доказательство человеческого безумия, как обвинение нашему уродливому технократическому развитию; перед некоторыми из них – старые, полуразвалившиеся машины. Проезжая, я вижу кое – где самодельную электропроводку – могу поспорить, что внутри – телевизор…
И я вспоминаю историю, которую слышал, еще когда учился в университете; была ли в ней доля правды, не знаю. Вдоль шоссе, которое вело от Мадрида к только что открывшемуся тогда аэропорту Барахас, был пустырь, усеянный ветхими домишками. И тогда кто‑то – неизвестно, кто именно, но ведь только один человек мог принимать решения, – устыдившись, что наши важные гости увидят эти свидетельства нищеты, воздвиг вдоль шоссе длинную стену, чтобы не ранить чувствительность досточтимых гостей подобным зрелищем. Я не знаю, до какой степени эта история была правдой, но она отражала самую суть режима – режима, который сегодня, кажется, кончился. Это был режим лжи, режим, боявшийся правды, стыдливо стремившийся скрыть свои недостатки, режим с лицемерной моралью разорившегося идальго, который посыпает одежду хлебными крошками, чтобы никто не дога дался, как он голоден. Высшей ценностью этого режима стала грубая посредственность провинциальной мелкой буржуазии (служащие в нарукавниках, владелицы табачных лавочек, хозяйки пансионов, бакалейщики) с их неизменными креслами – диванами, сплетнями и игрой в карты; на этот класс опирался режим, чтобы сохранить привилегии олигархии. И единственной наградой, которой олигархия и власть имущие удостоили этот касс, была сомнительная привилегия видеть ступенькой ниже себя на социальной лестнице рабочих – их мелкие буржуа презирали и боялись: ведь в глубине души они знали, что рабочие лишь еще победнее да еще более угнетены. Мелкая буржуазия получила жалкую привилегию считать народ ниже себя, – народ был таким нищим, что по сравнению с ним собственная бедность казалась мелкой буржуазии почти роскошью. Эта жалкая привилегия позволяла ей гордо поддерживать миф о своем достатке и воздвигать стены, которые скрывали бы от постороннего глаза бедность…
И все это ни к чему не привело – ведь, несмотря ни на что, мир изменился. Мелкие буржуа опустили мосты через ров, и по ним хлынули толпы выскочек, наводнившие их бывшую вотчину: мелкие служащие, среднее управленческое звено, коммивояжеры и продавцы и даже квалифицированные рабочие. Эти люди унаследовали мораль мелких буржуа, но настроены они были более агрессивно и не очень уважали устоявшиеся ценности, которые не считали своими. Эти люди из кожи вон лезли, работали по двенадцать часов в сутки, мчались с одной работы на другую, йе успев взглянуть на своих детей, – и все только для того, чтобы купить автомобиль, холодильник или стиральную машину, чтобы позволить себе поехать отдохнуть на субботу и воскресенье, чтобы иметь возможность провести две недели отпуска на кишащем людьми, но модном пляже…
И вот эти люди едут сейчас рядом со мной, их машины медленно ползут бесконечной цепочкой по шоссе. Возможно, и сегодня они, как всегда, направляются на вторую службу. Я вижу, как они сидят внутри металлической коробки, где проводят большую часть жизни и где нередко находят свою смерть. Я смотрю на их лица – и вижу только усталость и безразличие… Сегодня пятница, и я еду в ко– лехио за дочерьми, которые в этот день не возвращаются автобусом… И вот он умер. Меня охватывает желание остановиться, выйти из машины и крикнуть этим усталым лю дям, которые, выжав сцепление и нажав на тормоза, обреченно дожидаются, пока вереница машин продвинется на несколько сантиметров, и тогда они включат первую скорость и еще проедут чуть – чуть вперед, – мне хочется закричать, чтобы эти грустные и безразличные люди узнали то, что знаю я и о чем они пока не подозревают… Крикнуть им: куда вы? Разве вы не знаете, что случилось?.. Разве вы не знаете, что после сегодняшнего дня ваша жизнь изменится?.. Нажимайте на сигналы! Оглушите весь город! Сигнальте, сигнальте, пока не сядут аккумуляторы, – ведь сегодня необыкновенный, единственный в своем роде день! Сегодня кончается целая эпоха, кончается сорок лет нашей истории. Сегодня он наконец умер.
Сорок лет… Это почти вся моя жизнь, сложившаяся так, а не иначе из‑за человека, который сегодня, кажется, умер. Если бы он не существовал, я был бы другим. Каким – не знаю, и даже представить не могу; но моя жизнь, детство, образование, общество, в котором я сформировался, были бы другими, а значит, был бы другим и я, из меня вырос бы совсем не такой человек, каким я стал.
И сегодня тот, чье существование обусловило мое существование, чья личность сформировала мою личность, перестал существовать. А внешне ничего не заметно… Кажется, что сегодня такой же день, как любой другой. Как всегда по пятницам, я, миновав пробку на мосту, быстро еду в колехио, чтобы забрать дочерей. По дороге я думаю, что для них, когда им будет столько лет, сколько мне сегодня, этот человек не будет значить ничего, совершенно ничего. В лучшем случае – еще одно имя в учебнике по истории, что‑то из времен очень далеких и потому не имеющих реального смысла, как не имеет его имя готского короля или какого‑нибудь короля времен реконкисты. В их памяти имя этого человека будет где‑то в одном ряду с Сигизмундом[43]43
Сигизмунд (? —523) – король бургундцев (516–523); первый из бургундских королей обращен в католицизм. Убит по приказу орлеанского короля Хлодомира.
[Закрыть] или Альфонсо I Воителем[44]44
Альфонсо I Вопитель – король Арагона (1104–1134), благодаря его успешным действиям в ходе реконкисты границы недавно возникшего королевства Арагон значительно расширились и его столицей стала Сарагоса, отвоеванная у мавров.
[Закрыть]. У них будет о нем – если будет вообще – весьма смутное представление. Человек, который был стержнем моей жизни, центром, вокруг которого вращались судьбы всех людей моего поколения, личность которого наложила отпечаток на наше существование, – этот человек для наших детей пе будет означать ничего, абсолютно ничего.
Об этом я думаю уже на обратном пути, пока девочки, как всегда по пятницам, возятся на заднем сиденье, смеются и болтают о своих делах… Дорога поворачивает, и садящееся солнце бьет в глаза, ослепляя меня наготой ржавых крыш, – кажется, горит само небо…
Привезя детей домой, я бегу в киоск и покупаю все дневные выпуски газет… Заголовки по – прежнему кричат о Сахаре. В углу первой полосы сообщается, что состоялось заседание Совета министров, на котором председательствовал Его превосходительство Глава государства. Основным вопросом повестки дня была проблема Испанской Сахары, и заседание оказалось недолгим.
Больше ничего. И хотя наверняка, случись что‑нибудь, газеты сразу не сообщат, все же теперь я твердо уверен: это лишь слухи, он жив, ничего не произошло.
Унылый и опустошенный, я медленно возвращаюсь домой…
ВТОРНИК, 21
Сегодня, да, сегодня наконец можно сказать, что в слухах, которые поползли в пятницу, было немало правды… Умереть он не умер, но болен серьезно.
Ну что ж, посмотрим… Эта смерть, которая, казалось, не наступит никогда, теперь с каждым днем становится все более реальной. В пятницу, когда я ездил за дочерьми в колехио, я был уверен, что он уже мертв. Но после вечернего выпуска газет от моей уверенности ничего не осталось. А в субботу позвонил мой брат. Он поговорил со своим приятелем Карлом, немецким корреспондентом, и теперь бравировал своей осведомленностью. «Слухи, пустая болтовня! – смеялся он по телефону. – Люди верят в то, во что им хочется верить. А это – грипп, самый обычный грипп, хотя на заседании Совета министров, куда он пошел несмотря на запрещение врачей, он потерял сознание, узнав о «зеленом марше»[45]45
В октябре 1975 г. король Хасан II, развивая экспансию Марокко в Сахаре, стал требовать отказа Испании от ее владений в этом районе Африки. В частности, он организовал вторжение десятков тысяч безоружных марокканцев в Испанскую Сахару, которое заставило Мадрид отступить. Участники этого марша, мусульмане, шли под зеленым флагом; отсюда и название – «зеленый марш».
[Закрыть]. Но ничего серьезного не случилось, так что не волнуйся, – смеялся Андрес, – Франко еще побудет с нами…»
В тоне Андреса, в этой кажущейся веселости, вместо которой должно бы быть огорчение, есть нечто большее, чем просто мазохизм. Страх… Страх перемен, страх перед неизвестным… Да и у других за внешней эйфорией разве не прячется изрядная доля страха перед тем, что наступит после? Человек привыкает ко всему… к страху, преследованиям, полулегальному существованию – это становится повседневностью, превращается в удобную привычку. Но что будет, когда все изменится, когда ситуация в стране, та ситуация, к которой мы столько лет приноравливались, станет другой? Пролито столько крови, столько смертей позади… И сегодня нет ужасной угрозы смерти, по крайней мере она не висит над тем, кто придерживается умеренно оппозиционных взглядов и отрицает насилие. Людям моего поколения эти чувства старших не понятны. Да, мы знаем, что такое тюрьма, подвалы охранки – многое, но не смерть. Нам не знаком страх умереть только потому, что мы придерживаемся не тех взглядов, или потому, что у нас в кармане билет оппозиционной партии, или просто из‑за смутных подозрений привратника. Но когда его не будет, ситуация может измениться к худшему. Его внезапная смерть – и все может взлететь на воздух, и снова будет литься кровь…
Ночь длинных ножей…[46]46
Такое название получила осуществлённая в мае 1934 г. акция, когда в Мюнхене, Берлине и ряде других городов Германии были физически уничтожены руководители штурмовых отрядов, многие ветераны национал – социалпстской партии – так Гитлер расправился с внутренней оппозицией.
[Закрыть] В день, когда был убит Карреро[47]47
Луис Карреро Бланко (1903–1973) – один из ближайших сподвижников Франко, игравший большую роль во внутриполитической жизни Испании. С 1967 г. – заместитель Франко на посту председателя Совета министров, а в июне 1973 г. сменил его на этом посту. 20 декабря 1973 г. убит в результате террористического покушения.
[Закрыть], волна паники охватила город. Вернувшись домой, я увидел бледного, взволнованного брата. Он оставил у меня свой паспорт, чтобы я спрятал его у верного человека, который был бы не слишком на виду. Звонить по телефону из дома Андрес не хотел и стал искать монетки для автомата. Я предложил ему переночевать у друзей, живущих неподалеку. «Ну, посмотрим, – ответил он, – пока я пойду позвоню, а если у меня ничего не выйдет, ты что– нибудь придумаешь». Через несколько минут он вернулся. «Все в порядке, только'отвези меня на машине до Пу– эрта – дель – Соль». Пока мы ехали, он напряженно молчал. В городе все было как всегда, только меньше людей на улицах да движение потише. Затормозив у светофора, я взглянул на освещенный циферблат часов на здании Министерства внутренних дел. «Высадить тебя здесь? – улыбнулся я. – Тут и двенадцать виноградин съесть можно»[48]48
В Испании существует обычай: под Новый год, в полночь, с каждым ударом часов съедать по виноградине. Многие мадридцы собираются у часов на Пуэрта – дель – Соль, которые считаются главными часами страны. В этом же здании расположено Генеральное управление безопасности.
[Закрыть]. – «Ну и шутки у тебя, – засмеялся Андрес, – давай проезжай быстрее». Но за его смехом чувствовался ужас при одном лишь напоминании о страшных подземельях Генерального управления безопасности. На Каррера‑де– Сан – Хероннмо, напротив улицы Эспос – и-Мины[49]49
Франсиско Эспос – и-Мина (1781–1836) – один из руководителей партизанского движения во время наполеоновского нашествия.
[Закрыть], он попросил меня остановиться и вышел…
Сколько людей, подобно Андресу, провели ту ночь не дома?.. И сколько людей в ночь его смерти будут ночевать у друзей? Страх ареста, страх полиции, страх перед стихийными расправами, страх ужасной ночи длинных ножей, которая вполне реальна… Все, кто состоит или раньше состоял в какой‑нибудь оппозиционной партии; все, кто значится – или думает, что значится, – в картотеке Генерального управления безопасности; все, кто хотя бы однажды подписал воззвание против репрессий и пыток; все, кто в университете или на фабрике выделялся своими взглядами, – у всех у них в эту ночь будет основание чувствовать себя под угрозой… И не только у них, но и у тех, кто уже прошел через тюрьму, уже понес наказание за то, что когда‑то выступал против, – такое не забывается и не списывается, несмотря на давность лет… У этих загнанных преследованиями людей достаточно поводов для страха: ведь никто не знает, что может произойти. Точно же они знают только одно: в их памяти сохранился тот страшный июльский день, когда, ошеломленно глядя в дула винтовок, люди, прежде чем упасть замертво, спрашивали себя: за что, за что?..
Порльер… Еще несколько лет назад я не знал этого слова, по однажды оно обрушилось на меня и перевернуло всю мою жизнь.
Порльер – это был монастырь. Нам говорили, что его разграбили «марксистские орды». Они разрушали, грабили, жгли церкви и монастыри – это мы выучили твердо: ведь детям годами без устали вдалбливали это в головы в колехио… Но нам никто не сказал, никто не заставил нас запомнить, что в сороковые годы монастыри превратились в тюрьмы. В Испании в сороковые годы не хватало тюрем для такого количества заключенных. Но это не имело значения, ведь оставались монастыри, оставался Порльер…
Порльер… Папа был в Порльере… Вы были в монастыре, а папа – в Порльере, Порльер ведь тоже был монастырем… Сколько людей в те годы прошли через Порльер, сколько остались там навсегда? Но вы сначала ничего не знали об этом… Знали только, что папа тоже был в монастыре… в Порльере.
При монастыре, где жили вы, был сад, маленький, чахлый садик. Тля побила все розовые кусты, и давным – давно умолкло журчанье фонтана. В его круглой чаше стояла зеленая вода, грустная и зловещая; дно затянуло белесым илом, а на поверхности покачивались водоросли, похожие на струпья прокаженного. Но, несмотря ни на что, гулять в саду было радостью. Иногда солнечным утром тебе удавалось устроиться рядом с матерью Пилар. Ты вынимала коробочку с акварельными красками и начинала делать набросок сада, а монахиня, любившая живопись, смотрела на тебя с удовлетворением. Рисовал ли папа там, в Порльере?..
Вам тогда было по семь, восемь, девять, десять лет… Но многие из вас уже стали сиротами… Вы жили при монастыре… Папа тоже был в монастыре… в Порльере…
Замечательная, потрясающая новость, которую я узнал в пятницу, в воскресенье оказалась всего лишь пустым слухом. Уже никто больше не говорил об этом, и я поста рался заставить себя отвлечься – по телевизору передавали встречу между «Барселоной» и мадридским «Атлетико».
А в понедельник, когда я прочитал отчеты спортивных комментаторов об этом матче, у меня внутри стало нарастать то нетерпеливое напряжение, что проснулось во мне, когда Карлос в пятницу поделился со мной своей информацией.
У фашизма много определений, и одно из них может быть таким: фашизм – это магия, это форма донаучного мышления, неожиданно и резко, как вулкан, взрывающаяся в мире, убаюканном верой в позитивизм и логическое мышление. Наиболее характерной особенностью мифологического мышления является отрицание им временной категории. Не помню, где я это прочитал, да это и не имеет значения. Но утверждение, что в мифологическом сознании основной категорией является пространство, а время не принимается в расчет, кажется мне очень точным. Основой мифологическо – магического мышления являются пространственные отношения, отношения смежности, вытесняющие временную протяженность. Фашизм отрицает процесс становления, потому что он отрицает время. Когда провозглашают единство исторической судьбы во вселенском масштабе, то в первую очередь отрицают возможность каких‑либо изменений, историю превращают в нечто застывшее, сведя ее к неизменности судьбы. Родина, начиная с какого‑то момента в ее истории, воспринимается как понятие пространственное, географическое, ее судьбу определяют раз и навсегда, и изменить эту судьбу течение времени не властно. Таким образом, отрицается история, возможность эволюции и утверждается, что определенные ценности и структуры не подвержены модификациям, являются абсолютным целым. Они становятся священными, а потому любая попытка изменить их рассматривается как самое страшное преступление.
Да, фашизм – это магия. С мифологическим мышлением его сближает стремление опереться на законы пространственной протяженности, схожести и аналогии. Только при помощи этой логики можно объяснить ряд характерных для фашизма отношений, и только внутри нее они имеют смысл. Наиболее показательным является перенос на слова качеств явлений.
Это наполняет особым смыслом миссию цензуры, задача которой не только утаить информацию или исказить ее. Исходя из логики пространственной протяженности, цензура отождествляет явление и обозначающий его знак и меняет последний, считая, что тогда изменится и само обозначаемое явление. Слово отождествляется с вещью, имя – с человеком; к этому старому фокусу неизменно прибегают современные диктатуры.
Происходит, таким образом, разделение всего существующего на категории желательного и нежелательного, и тогда, согласно этим категориям, начинают манипулировать словесными знаками, полагая, что таким образом можно изменить саму действительность. Там, где нельзя изменить объективные факты – меняют обозначающие их словесные знаки: вычеркивают их, искажают либо переносят в другой контекст.
Конечно, вычеркивание, замалчивание фактов – наиболее распространенная форма цензуры, но далеко не самая изощренная. Самым тонким фокусом является изменение, а точнее, использование обозначающих, смысл которых прямо противоположен обозначаемым, т. е. определенным реальным фактам. Путем подобных манипуляций явление не просто отрицается, а превращается в свою противоположность: то, что таило опасность, система обращает себе на пользу.
Там же, где этот метод не годится, прибегают к системе переноса: вписывают синтагмы в другой контекст, прямо противоположный тому, который хотят сохранить. Таким образом, собственные неудачи приписывают идейному противнику, и создается новый код, своеобразие которого в том, что передающий старается сохранить его в тайне. В самом деле, для подавляющей массы воспринимающих так и происходит: они получают искаженную информацию потому, что видят связь не между обозначаемым и идеологическими детерминантами, а между обозначаемым и реальной действительностью. Но часто воспринимающие понимают, что действия передающего подчиняются странной логике мифологического мышления, и, владея ключом тайного кода, способны угадать подлинный смысл информации.
Читатель, владеющий этим кодом, понимает: передающий исходит из того, что в государстве, руководимом харизматическим лидером[50]50
Современный социологический термин; вожак с сильной волей и способностью сильного эмоционального воздействия на массы или на определенные круги общества.
[Закрыть], а таким является наше государство, наибольшее из зол – нарушение социального или общественного порядка – невозможно в принципе. Поэтому настойчивость, с которой средства массовой информации пишут о подобных явлениях в странах с демократическим строем, позволяет внимательному человеку правильно прочесть это сообщение: используя обычный прием, наших идейных противников обвинили в том, что, будучи в нашем государстве невозможным de jure, все же произошло de facto.
Точно так же читатель, владеющий кодом, понимает, что повышенный интерес средств массовой информации к футбольному матчу, повседневному явлению при жизни Его превосходительства, – этот пафос обыденности свидетельствует о стремлении скрыть какие‑то изменения.
После обеда снова звонит Луис: парижское радио со ссылкой на американское агентство передало сообщение с смерти Франко. На работе все утро только и разговоров что о сердечном приступе. Значит, грипп, о котором стыдливо и осторожно писали газеты, оказался сердечным приступом – всегда цензура, всегда ложь, до последнего момента, до самого конца.
Моя сестра в Париже знает гораздо больше, чем я. По крайней мере ее информация получена по обычным каналам: она узнает новости из газет, радио, телевидения, Здесь – другое дело: здесь все средства информации молчат, а вместо них – слухи, шушуканье по углам, сплетни… Здесь узнают новости из сомнительного, а то и вовсе неизвестного источника и шепотом передают их друг другу, так что уверенности в том, что они достоверны, не может быть ни у кого…
У себя в министерстве мы провели все ^утро около телефона. Звонили знакомым в секретариат заместителя министра, в генеральную техническую дирекцию, в другие министерства – тем, кто больше соприкасается с сильными мира сего и поэтому может быть лучше осведомлен. Не никто ничего не знал… Ни заместители министров, ни министры… Они нервничали, были раздражены, но ничего конкретного сказать не могли… Как и мы, они без конца звонили по телефону, надеясь что‑нибудь выяснить, и так же, как мы, вынуждены довольствоваться неподтвержденными слухами…
Но как бы там ни было, сегодня, 21 октября, во вторник, никто уже не сомневается, что конец близок. И вот вечером, сидя в комнате, которая служит мне одновременно спальней, библиотекой и кабинетом, я кручу ручку приемника, пытаясь на коротких волнах найти подтверждение слухам, которые весь день давали повод бесконечным разговорам и телефонным звонкам, – подтверждение, что он при смерти. Сквозь помехи и свист до меня долетают отдельные, еле различимые слова. Я узнаю диктора «Пиринайки»[51]51
Подпольная радиостанция Коммунистической партии Испании. Несмотря на противодействие франкизма, ее передачи широко слушались в Испании.
[Закрыть], но ничего разобрать не могу: до последнего момента исполнительные чиновники будут глушить передачу. Тогда я ловлю Би – би – си. Бьет Большой Бен. Выпуск начинается с главной новости…
Би – би – си передает, что сегодня утром одна из американских телекомпаний распространила сообщение о смерти генерала Франсиско Франко, но пока оно не подтвердилось. В ответ на это сообщение гражданский секретариат главы испанского государства сделал официальное заявление, в котором признается, что грипп, перенесенный Франко, действительно осложнился сердечным приступом. Но критическое состояние миновало, и в настоящее время Его превосходительство поправляется и частично вернулся к нормальной деятельности. Сегодня Его превосходительство принял в своем кабинете председателя Совета министров, с которым беседовал в течение сорока пяти минут…
Ложь, снова ложь, и так до самого конца… Кажется, что даже Би – би – си не очень верит этому заявлению, которое расценивают как «успокаивающее». Напротив, радиостанция подчеркивает крайнее беспокойство, охватившее официальные круги Испании, где предполагают, что генерал Франко серьезно болен. Это беспокойство усугубляется событиями в Марокко. А затем следует подробное описание приготовлений к «зеленому маршу», который король Хасан собирается провести в Испанской Сахаре.
Я думаю об этом конфликте с Марокко, о том, что в организованном ими мирном походе с целью символически занять испанские территории есть что‑то карнавальное; думаю о растерянности и пассивности политиков и о негодовании военных. Это последний смертельный удар, это конец… По иронии судьбы история совершила круг: то, что началось в Марокко, там же может и закончиться. Сорок лет назад агонизирующий сейчас человек пересек пролив во главе армии иностранных наемников и отрядов мавров из варварских племен и после кровавой войны и еще более кровавых репрессий в течение сорока лет был полновластным хозяином нашей страны. А сегодня фанатичные дети тех самых мавров, бросая вызов оружию Испанского легиона, идут грандиозной мирной манифестацией, чтобы, действуя столь необычным, но эффективным образом, символически занять последние укрепления, уцелевшие от нашей гротескной и кровавой колониальной авантюры… Все возвращается на круги своя… Усмотрит ли, подобно мне, этот умирающий сейчас человек в том круговороте, которым оканчивается его жизнь, знак своего исторического поражения, ноль, символ пустоты?








