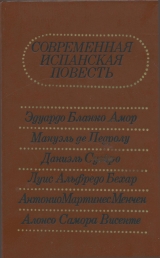
Текст книги "Современная испанская повесть"
Автор книги: Алонсо Самоа Висенте
Соавторы: Эдуардо Бланко-Амор,Луис Альфредо Бехар,Мануэль де Педролу,Антонио Мартинес Менчен,Даниель Суэйро
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 34 страниц)
ГЛАВА II
—
– Почему, господин начальник?
–
– Изоляция? А это еще что такое?
–
– Оно, может быть, так и положено, раз уж вы это говорите… Но все же кому, скажите, было бы плохо, если бы она сама меня и кормила тем, что мне приносит?
– Ну, не знаю, не знаю… Что же теперь делать бедной старухе? Раз уж она здесь… Обнять бы ее только, чтобы успокоить и чтобы она знала, что я ничего плохого не сделал, и здесь я только даю показания, и никто не сможет свалить на меня то, чего я не делал… А еще я хотел узнать, как там Балаболка и малыш. Я так думаю, что человек имеет право узнать что‑нибудь о своих.
– Нет, сеньор, она ведь такая глухая, что прозалиться мне на месте, если здесь не будет слышно все, что я ей скажу. Да мы, может быть, и двух слов друг другу не скажем, вот только спрошу ее о Балаболке и мальчишке. Бедная старуха уже несколько лет как устала со мной говорить – будь проклят тот день, когда она меня родила на свет, лучше бы мне было родиться в свином хлеву, извините за выражение! Теперь она со мною и не говорит, только смотрит молча и слезы катятся – от них у нее уже борозды по щекам пролегли. Так, знаете, смотрят на неисправимых, уж лучше б она меня изругала в хвост и в гриву… Теперь она только говорит мпе: «Одумайся, сынок, одумайся… Когда же ты наконец одумаешься, сыночек?»
– Ладно, пусть будет как вы говорите, в законах этих я все равно ничего не понимаю, да и нужды нет… но пусть там, на небе, смилуются над вами над всеми…
– Так, ничего. Это я сам с собой говорил. Проститб.
– Да, конечно… Так вот, как я вам уже говорил.;, лило как из худого ведра…
– Эх, сеньор, это, наверное, вам так кажется!.. А я вам говорю, что дождь во многом виноват… Если бы не этот холодина, который меня пробрал, не успел я выйти от Балаболки, и если бы не этот дождь стеной и без передышки, под которым ты словно в кошмарном сне, когда ищешь выхода и не находишь… если бы не это, то многих вещей бы не случилось, а я пошел бы себе на работу и не посмотрел бы ни на кого, вот вам мое слово… Потому что одно дело – тратить свое, заработанное, и совсем другое – когда ты просто лодырь и не знаешь, па что себя употребить в этой жизни, или хочешь прожить ее захребетником. Что я работяга, это все на свете знают, и что никогда на боку не лежу, разве когда уж вовсе работы нет. И работать готов и зимой, и летом, и по хорошей погоде, и по плохой; и скажу вам даже, что в такие вот зимние дни, когда стоит сухой морозец, так прямо в охотку бывает повкалывать. Вы этого, может, и не знаете, да и не обязательно вам это знать, потому как вы больше по письменной части. Ну так я вам говорю, что иногда, бывает, придешь, весь закоченев, да снимешь куртку, да поплюешь на руки, да как вдаришь по камню, и еще, и еще, пока от него мелкий щебень не останется, – тут‑то и почувствуешь, что кровь у тебя согревается и что тебя так и распирает изнутри желание петь!.. И я уж не говорю, когда вдруг солнце покажется из‑за гор… Ну да чего уж теперь, когда все накрылось!..
Так о чем я бишь… значит, добрели мы до Бурги[6]6
Так называется в Аурии место, где бьют из‑под земли горячие ключи и где городские власти устроили бассейны для стирки белья. – Прим. автора.
[Закрыть] и остановились возле большой трубы. Там нашли здоровый ящик, разломали его на щепки и сделали костер, чтобы обсушиться, а заодно и изжарить хорошо приправленный кусок свиного филея, что Окурок унес из трактира тетки Эскилачи – и это он тоже…
Они таки добрались до оставшейся водки, а когда поели, снова легли вздремнуть – не понимаю, как это неко торые люди могут спать как по заказу… А я опять стал думать и думать, как делаю всегда, когда меня оставляет в покое «задумка». Потому что иметь «задумку» – это совсем не то же, что «думать». Когда я думаю, то я хозяин, но когда найдет на меня «задумка», то я становлюсь совсем другой, будто и не я это вовсе… Я стал думать о Балаболке, которая, наверное, в этот самый распроклятый дождь понесла мне обед на стройку, как мы договорились и как она всегда делала, когда у нас с ней было хорошо; и приходила такая веселая и улыбчивая, а в хорошую погоду приводила еще и мальчонку, и мы садились все вместе под земляничными деревьями… А потом подумал о матери, которая себя вконец заездила работой… И еще я стал думать о том, каким, интересно, был мой отец, которого я никогда не видел, хотя, судя по тому, что о нем говорят, я не много потерял. И подумал о своем брате, о котором ничего толком не было известно: ушел куда‑то, да так и не вернулся; и о сестре со всеми ее хворостями, от которых она, бывало, лежит часами, не шевелясь и без кровиночки в лице, так что лучше бы уж бог ее совсем прибрал… а говорят, что все это у нее от той болезни, что отец подцепил в Кадисе, где он в молодости служил дворником… А потом я стал думать о других вещах: тех, что были и что еще не были; это у меня блажь такая – думать и думать, и не только о том, что произошло, но и о том, что может произойти – а я могу это увидеть, как будто оно уже было… Если бы я не думал, говорил я себе, то был бы как эти обалдуи – вон, валяются мордой в грязи, набив брюхо едой и налившись вином, и отсыпаются, словно детишки, от одной проказы до другой. Но – и это‑то самое дрянное – когда я сижу вот так и думаю, то понемногу перехожу от вещей, которые есть, к тем, которых нет, а после этого всегда приходит мысль о смерти, и тут уж я перестаю соображать: тут находит на меня «задумка», и я больше не могу перебирать в голове вещи одну за другой, так, чтобы у каждой было свое имя и свое лицо… «Задумка» – это когда ты думаешь о чем‑то весь, всем телом, и все видится таким запутанным и страшным, что если бы это длилось подольше, то уже и делать бы ничего не оставалось – только ложись и помирай… Когда оно тебя совсем забирает, то чувствуешь, как что‑то такое в тебе растет, что не ты сам; и все жилы натянуты как струны, и какая‑то сила распирает грудь – сейчас взорвется и разнесет тебя в клочки… А иной раз оно приходит ко мне мягко этак и ласково – как будто ты устал и засыпаешь, – и начинаешь погружаться, погружаться… И вот тогда‑то бывает всего страшней, и я просыпаюсь сразу, как от удара, потому что мне начинает казаться, что так вот, мягко утопая, и не заметишь, как окажется, что ты уже умер… Может быть, сама смерть тут и ходит вокруг, чтобы унести тебя с собою незаметно и без боли, будто ты просто уснул… Часто я бросаюсь к вину, чтобы избавиться от этого наваждения, хотя бы и было мне в этот момент не до гулянок: виио ведь единственное, что прогоняет у меня «задумку», что прерывает это мое погружение куда‑то, все глубже и глубже – не иначе как прямо к смерти… Не знаю, понимаете ли вы меня, но по крайней мере теперь вы это знаете.
– А я, знаете, как раз и собирался, но не мог продол– я «ать, пока не сниму с души эту тяжесть. Но зато теперь вы меня поймете, когда я буду рассказывать дальше…
Так вот, дождь все так же моросил, и от него был еще гуще туман, что поднимался от горячей воды в большой портомойне Бурги. А в воздухе стоял крепкий запашище белья и мыла – и еще, извините за выражение, дерьма, которым несло от одного из бассейнов внизу, где торговки опорожняли и мыли требуху да там же еще ощипывали петухов и кур. Так они и трудились, бедняжки, накрыв головы фартуками: сверху – холодный воздух, снизу – кипящая вода, дождь стекает по мокрым прядям волос за шиворот, а они все щиплют курочек для хозяев. Жалкие вы мои! А некоторые еще и поют… «Собачья жизнь трудящего человека», как говорит плотник Серантес…
Когда эти боровы проснулись, то я попытался их убедить, что самое лучшее сейчас – податься каждому до дому. Но они не захотели. Сказать по правде, у меня тоже не было большой охоты. Потом поговорили о том, что теперь делать, и я предложил пойти обедать в трактир. Они переглянулись с загадочным видом, и я не понял, к чему бы это… И тут Окурок сказал, что знает, где мы можем провести приятный вечерок, в тепле и с хорошей выпивкой, единственно, что туда не надо идти порожняком, и если мы ему дадим денег, то он пойдет на рынок и поищет чего бы пожрать на обед. Деньги, конечно, нашлись У Клешни, который прямо‑таки сорил ими, и Окурок без лишних слов набросил покрывало на голову, засучил шта – пы и пошел по дождю своим мелким шажочком, переваливаясь с боку на бок, как куропатка.
И довольно быстро вернулся с цельным мешком всякой всячины… Клешня, наверное, знал, куда мы направляемся, потому что не спросил его ни слова, когда мы двинулись в сторону мостков через реку. По дороге Окурок мне сказал, что идем мы к одному его родственнику – винокуру, который гонит водку из фруктового жмыха, что получает от хозяев Кастело, и что мы порезвимся от души в его погребке, у очага – чего – чего, а уж водки можно будет пить сколько влезет. Я еще поворчал, что очень это далеко и что мы дойдем мокрые как цуцики, но что верно, то верно: день был как раз такой, чтобы залезть в какую– нибудь щель, хотя бы и пришлось для этого подвигать ногами; а еще ясно было видно, что эти друзья, неизвестно почему, хотят убраться из города куда угодно, ну хоть в одно из мест, где мы обычно устраивали наши гулянки, лишь бы только не увидел их кто знакомый.
Когда переходили Барбанью, нам пришлось смотреть в оба: вода поднялась и мостки едва – едва не заливало, а до моста Пеламиос идти было далеко. Затем мы решили срезать угол и двинуть через Собачий водопад, вверх по берегу. У меня так болели ноги, что я в конце концов решился снять эти распроклятые башмаки. Парни бежали рысцой впереди меня, набросив на голову покрывала, не давая мне передышки. Время от времени я слышал, как они охали, или хохотали, или матерились – это они налетали на камни на дороге.
Пока мы поднимались по берегу, ветер и потоки воды хлестали нас все крепче и яростней, налетая порывами с северо – востока; косой дождь прохватывал все тело, бил по лицу так, что больно было, и затекал под одежду, пока наконец не пробрал меня до костей. Земля на полях по сторонам дороги превратилась в жидкую грязь, борозды были все в воде, и когда мы брали напрямки, чтобы сократить путь, то утопали в этой грязи по колено.
Так мы и дошли до холма, где начиналось большое имение Кастело, и остановились передохнуть у ограды в кипарисовой рощице, которая черт меня побери если от чего‑нибудь нас прикрыла. Мы так вымокли, что не было никакой возможности свернуть цигарку. Книжки папиросной бумаги у нас размокли в кашу, клей растекся, и даже в кисетах с табаком была вода. Меня начал уже бить озноб – и не знаю от чего; то ли от боли, то ли от голода, то ли от простуды; а содранные водяные пузыри резали ноги так, будто я ходил но битому стеклу.
– Ну, и что теперь? – спросил Шанчик – Клешня, с угрюмым видом встряхивая свою овчину.
– Родственничка‑то мы не предупредили, – сказал Окурок. – Но все едино. Пошли со мной.
Еще несколько шагов – и мы добрели до ворот.
– Переждите пока под тем навесом, а я с ним переговорю.
Мы вошли, крадучись за какими‑то возами, чтобы нас не увидели из господского дома. Дом стоял по другую сторону двора, огромного, как базарная площадь, а рядом громоздились навесы, доверху набитые инструментом для полевых работ. По всему было видно, что здесь живут в достатке. На перилах лестниц и галерей, выходивших во двор, сплошным желтым одеялом висели густо нанизанные связки кукурузных початков, блестевшие от дождя.
Через пару минут Окурок снова появился в дверях, махнул рукой, и мы пошли. За дверью нас уже ожидал родственничек – по виду чистый бездельник и прохвост, и рожа наглая – сил нет. От огня, что горел тут же, он был весь багровый, а глаза веселые и хмельные. Только он заговорил, я сразу же скумекал, что это мой знакомый по прозвищу Сорока, которого я видел не так давно. Он был не из нашего города, но мы вместе гуляли на Святого Иакова в Калдасе и Санта – Ане три не то четыре года тому назад.
Что‑что, а погулять он умел. Оно и понятно: у них в области Густей, в горах, парни все такие. Шляются по игрищам и посиделкам почти всю зиму, а летом и сам бог велел: что ни день, то праздник. Правда, этот пришел в город совсем мальчишкой – обучиться ремеслу, уж не знаю какому; но все, чему он выучился, – это плутовать да шаромыжничать, точь – в-точь как наша аурийская шпана. Из деревенских‑то, когда они пооботрутся, выходят прощелыги еще почище нашего… Когда он все это мне напомнил, то я вспомнил и другое: что видел его как‑то в городе Туй, где я служил королю и отечеству. Он там ходил с точильным кругом на плече и колодой карт в кармане, да не один, а с толпой торговцев, холостильщиков, мошенников, бродяг и воров – все из Моуры и Других тамошних мест, и все ребята хоть куда. Смышленые – палец в рот не клади, это уж точно, и работу меняют по обстоятельствам. А в Туй они слетались как воронья стая:
облапошивать португальцев, которые па престольные праздники приходят туда толпами… А еще он мне сказал, что теперь, когда перевалило за двадцать пять, пришла и ему пора перебеситься и взяться за ум, тем более что родитель его прихворнул и, хочешь не хочешь, надо осваивать перегонный куб, а это – серьезное занятие…
Внизу, в винном погребке, любому бы стало ясно: в этом доме всего вдоволь. Было тут и выпить, и закусить: с потолка свисали колбасы, окорока и целые свиные туши, – не знаю, чего это Окурку взбрело в голову тащить жратву с собой, разве для приличия… А вдоль стен стояли огромные бочки, едва не касавшиеся потолочных брусьев.
Тут Сорока, не тратя времени, начал подносить нам в белых глиняных чашках – из таких у нас обычно пьют молодое вино – свою свежевыгнанную водку – да какую! Просто как дар небесный было ощущать, как она переливается тебе в глотку, почти незаметно… ну, сироп, сладенький и тепленький сиропчик, да и только!
Клешня с того самого момента, как мы пришли, молчал и в разговоры не лез, все о чем‑то думал. Даже спасибо не сказал винокуру и не похвалил то, что пил, а знай себе опрокидывал да протягивал, не говоря ни слова, пустую чашку хозяину, словно за все вперед заплачено и ему здесь прямо‑таки обязаны наливать – мне уж тошно было от этой его манеры. С самого утра на него это находило: молчит угрюмо, лицо злое, и не подступишься к нему спросить, что происходит. Нрава он всегда был дикого, но уж когда мы гуляли, тут он и веселился, и бузил, и озорничал вовсю, а если и рассердится, то ненадолго. А вот сегодня…
После третьей чашки, что он опрокинул, как бы даже не заметив, лицо у него побагровело и глаза засверкали – а они у него были голубые, открытые и чистые, как у ребенка, хотя и слегка притененные веками, которые он всегда щурил, будто не очень хорошо видит, и бровями, темными и густыми… И вдруг он как проспулся: поворачивается ко мне и говорит, словно продолжает какой‑то начатый разговор:
– …Так вот, я тебе еще раз говорю, что это такая женщина, что боже ты мой… Прямо из головы у меня не выходит, мать – перемать!.. А ты, Хряк, что скажешь?
Пока он говорил, Окурок, который все ходил и как будто что‑то вынюхивал, вдруг остановился и сказал, обра щаясь к винокуру, но похоже, чтобы увести разговор в другую сторону:
– И что, никто сюда не влезет? Как бы тебя потом не оговорили…
– Можете располагаться здесь с удобствами, и не о чем беспокоиться. Сейчас нет никого, кто распоряжается в имении, и дом наш на всю ночь… Господа в городе: у хозяйки мать очень больна, говорят даже, что не выживет. А дон Марсиаль уехал верхами очень рано куда‑то в Пинь– ор, собирать арендную плату…
– Кто это – дон Марсиаль?
– Палка – в-колесах, то есть местный управляющий. Нравом злей, чем сам дьявол, который его и породил!
– А другие люди в имении?
– В такую‑то погоду, да еще когда нет Палки – в-колесах, они все у огонька: пьют да набивают зоб, раз уж так повелось, что здесь никто этого не считает. Дом‑то ведь – полная чаша!.. Но что правда, то правда: сюда, в погребок, им входить запрещено. Они тебе такое устроят! Отец мне рассказывал, чтобы и меня предостеречь, что как‑то в рождественскую ночь, когда господа уехали в город провести праздник со своей родней, дворня тут тоже отпраздновала Рождество – так, что хоть святых выноси… Сначала нажрались как свиньи – уж больше не лезло – и налакались до посинения. А тогда в них ровно бес вселился: обрядились с головы до ног в господскую одёжу, напялили эти сюртуки да фраки и пошли плясать в Зеркальном зале, а Слюнявого и Лысую Швабру – ну, это самые старые слуги в доме – посадили на возвышении, чтобы они изображали господ, хотя старик со старухой уже упились так, что были как деревянные истуканы, которых носят на карнавале, и, говорят, на другой день ничегошеньки не помнили. Когда наутро приехали господа, то увидели, что по дому как погром прошел, и многие еще валялись и отсыпались там, где их развезло, – даже в господских постелях и кроватках их детей, и это– то, кажется, больше всего хозяев и заело… И хотя они у нас добрые что твои ангелы, но в тот раз выкинули всех к чертовой матери, кроме стариков. Из молодых слуг никто не остался, хотя и прощения просили, и старались удержаться как могли… И болтают даже, что две девчонки из Райро, которые ходили сюда подрабатывать шитьем, после этого забрюхатели, хотя люди – они могут и зря языком молоть… Но так или иначе, а с тех самых пор никто не смеет входить в погреб без разрешения, особливо когДа винокур на месте, потому что, как видно, когда все шло как бог на душу положит, то все так и бегали сюда – якобы попробовать, доспела ли водка, – а присасывались так, что…
Сорока был пустобрех, каких поискать, и когда давал себе волю, то молол и молол, не останавливаясь даже дух перевести. У меня не было никакой охоты с ним толковать, и, как я заметил, другие тоже давали ему чесать языком сколько душе угодно и не очень‑то принимали на веру его болтовню.
Клешня притулился у огня, рядом со мной. Оба мы очень устали; а тут еще одёжа облепила нас точно вторая шкура и, высыхая, съеживалась, отчего у нас чесалось все тело. Окурок, которому всегда все нипочем, сновал туда – сюда, напевал и говорил, что пора готовить еду – ему вечно надо было что‑то делать. Когда он вывалил из мешка всю снедь, что накупил на рынке, то вдруг оттуда выпало несколько монет, восемь или десять песо, и они покатились по крышке желоба, у которого он возился. И тут он покраснел.
– Откуда эти деньги? – спросил Клешня, подняв брови.
– Ах, да откуда я знаю! – ответил Окурок этим своим голоском, ласковым и насквозь лживым. – Наверное, выпали из сумочки у тетки Дельфины, когда я покупал у нее окорок, разрази меня гром, она же страшно рассеянная. Ах ты бедняжка! Воображаю, что с ней будет, когда недосчитается! – И, сказав это, пустил свой обычный смешочек откуда‑то из носу. Другие двое тоже засмеялись, поняв, что где‑то кого‑то объегорили. Но я‑то не смеялся, потому что пусть я и вправду такой – сякой, но в мошенничестве я ничего смешного не вижу; и одно дело быть гулякой, а совсем другое – быть вором. Хотя многие любят прикрываться тем, что они‑де не подумали, или вовремя не спохватились, или что они пьяные, и при этом нарочно делать всякие гадости, к которым у них лежит душа…
А я уже давно чихал, и похоже было, что у меня начинается насморк. И тут Окурок сказал:
– Раздевайтесь и сушитесь. Если так и будете сидеть во всем мокром, то как пить дать схватите лихорадку. – И, сказав это, сам начал сдирать куртку с Клешни, который его отбросил от себя одним толчком.
– И то верно, – вставил Сорока. – Можете располагаться здесь, как захотите – я уж сказал вам, что никто не войдет.
Тогда Клешня стал понемногу раздеваться, пока не остался в одних подштанниках. Потом он и их спустил и стал развязывать шнурки ботинок и в конце концов остался в чем мать родила.
– Ты тоже давай раздевайся, – с угрозой в голосе сказал он Окурку, раскладывая с угрюмым видом свою одежду поверх перегонного куба. Тело у него было белое и крепкое, весь он был волосатый и жилистый и сейчас казался гораздо более сильным мужиком, чем в одежде. На груди у него виднелась неглубокая рана, почти царапина, которая тянулась до плеча. Видно было, что рана свежая, потому что когда он стал сдирать ногтем болячку, то из– под нее пошла кровь. Потом он взял щепотку золы и стал втирать ее в края пореза, и жутко было видеть, как он это делает, не моргнув глазом, будто вовсе и не в своем теле ковыряется.
– Ну, так и что это было, парень? – спросил я его.
– А это его приласкали, – встрял Окурок. – Любит он лезть куда не след – и вот, извольте…
– Ты заткнешься, наконец? – взревел Клешня, направляясь прямо к нему.
Тот бросился бежать и присел за бочкой, а Шанчик сказал нам:
– Так, ничего особенного. Перемолвился парой слов с Бальбино Луковой Головкой, и он вытащил нож. Это на меня‑то с ножом! Ну, он свое получил… Когда с голыми руками, то я – пожалуйста, все что угодно, но не могу видеть, как у меня машут оружием перед носом… Не выношу!..
Сорока слушал внимательно, не глядя на него, а потом спросил, с тревогой в голосе, как бы придавая особую важность своим словам:
– Это было вчера вечером, в трактире Репейника?
– Да, а что? – ответил Клешня, подозрительно уставившись на него.
Тот не ответил, хотя Клешня повторил свой вопрос, и видно было, что‑то у него внутри осталось, о чем он не сказал. Потом он стал говорить, что, когда дождь перестанет, нам надо будет как‑то уходить, а то глядишь – и ночь настанет, а мы здесь, и всякие другие слова в том же духе, ни к селу ни к городу, из чего ясно было только, что ему неспокойно видеть нас у себя после того, что рассказал ему Шан.
Тем временем я чувствовал, как проклятая одежда съеживается и липнет к телу, и оно у меня чесалось так, будто я вконец завшивел. Ну и раз уж тут были одни мужики, то в конце концов я тоже разделся и разложил одежду у огня. Подошел и Окурок, тоже полуголый. Так же расторопно, как он всегда все делал, вытянул откуда‑то веревку и стал развешивать и растягивать одежду, свою и нашу. К поясу он подвязал себе что‑то вроде фартука из тряпок, который прикрывал его спереди, а сзади открывал всему свету его толстые ягодицы, дрожащие и в складочках, как у детей. Кожа у него была белесая и вся в синяках от недавних тумаков, а тело пухлое, в округлостях и ямках, как будто весь он был вылеплен из сливочного масла – и никаких там сухожилий, как у других людей. На груди – ни волоска, и когда он ходил, то сиськи так и мотались, словно и не мужик вовсе, а баба, черт бы его побрал! Сорока как увидел его в таком виде, то прямо взорвался от хохота – я было подумал, не задохнулся бы, а сам я, когда Окурок проходил мимо, шлепнул его по заду, и прозвучало так, будто шутиха взорвалась.
– А иди ты!.. – вскинулся Окурок. – Придержи руки, понял! А ты там кончай гоготать, я тебе не шут гороховый. – И забегал дальше, готовя ужин, мурлыкая себе под нос и виляя на ходу бедрами, и я уж не мог понять, противно мне смотреть на него или смешно.
Клешня походил немного туда – сюда, потягиваясь, потом снова присел на корточки рядом со мной и замер, уставившись в огонь и не мигая.
– Ну, так что с тобой, о чем задумался? Не в твоем это характере, когда мы гуляем. Что‑то, брат, с тобой творится…
– Просто с ума можно сойти, какая женщина, – пробормотал он вполголоса, будто говоря сам с собою.
Дружок его расхаживал тут же, держа ушки на макушке, явно желая разнюхать, о чем тут у нас речь.
– Да, и у мепя не идет она из головы. Действительно, с ума сойти.
– Да брось ты, ядрена вошь! – влез Окурок. – Подумаешь, большое дело! Может, еще окажется, что и приворожили вас, как в сказках у старух, – И, говоря это, он продолжал взбивать яйца в глиняной миске.
– О какой это женщине вы говорите, позвольте узнать? – спросил Сорока. Мы трое переглянулись и ничего не ответили, словно у нас был уговор хранить что‑то в секрете. Тогда он спросил еще раз, и Окурок ответил ему небрежно, как о пустячке:
– А, чего там, парни дурью маются! Как налакаются, так думают, что и впрямь все было, что им привиделось. Не обращай на них внимания… где у тебя лук?
А дождь все хлестал, и слышно было, как струи воды падают с деревьев, разбиваются о виноградные лозы в саду и журчат в дорожных колеях, которые растекались ручьями. Я утопил ступни ног в золе, надеясь, что хоть так пройдет у меня эта боль пополам с чесоткой, которая становилась уже невыносимой, и слегка забылся. Погода не менялась, и громыхало по – прежнему, хотя ветер дул уже с севера; стало так темно, что нам пришлось зажечь масляную лампу – похоже было, что и ночь наступала. Как хорошо было сидеть в тепле, у камелька, и потягивать понемногу эту ласковую водочку – так, чтобы чувствовать удовольствие всем телом, – и при этом слышать, i®k снаружи ветер воет в закоулках дома и треплет ветви жимолости, что виднелась из окна, выходившего во двор!.. Если бы не запахи еды, которую готовил Окурок, то я как был голый, так бы и заснул спокойненько, уткнув голову в колепи, слыша, как трещит огонь под перегонным кубом, и чувствуя, что наконец‑то освободился от «задумки»…
Наелись мы, как архиереи, и напились до невозможности – лучшего вина старого урожая. Сорока таскал нам его большой глиняной миской из той бочки, что для господ. Так вот, этих мисок мы опорожнили с полдюжины, не меньше, и даже не заметили как – не только потому, что еды было сколько влезет, но и вино‑то было особенное: такое густое и в то же время мягкое, как оливковое масло. Рядом с ним молодые вина – это просто жиденькая бурда: пьешь их пьешь, как лимонад, и напиться не можешь… Потом снова налегли на водку, но уже другую – пережженную с коричневым сахаром… Как же было хорошо, господи боже мой, в тепле этого сытого погреба, и лень было даже думать, что еще чуть – чуть – и все это кончится и нужно будет выходить, чтобы на тебя сразу обрушились и дождь, и ветер, и все остальное, чем полон этот трепаный мир!..
Пока я об этом размышлял, все прочие пели, плясали и ходили на голове. И каких только глупостей они не выдумывали! Окурок повесил себе на шею несколько связок чеснока, навроде бус, и стал изображать этих вертихвосток из кафешантана, тряся своим передником ну как последняя шлюха, извините за выражение. Потом парни сделали с ним по нескольку кругов в обнимку, и всякий раз, как Клешня перехватывал пару у Сороки, он делал это так грубо, будто вызывал того на драку. У меня не было охоты с ними резвиться, даже смотреть было противно, как выкамаривают этаким манером мужик с мужиком. Окурок, однако же, и надо мной начал издеваться, обзывал невинным младенцем, а потом вытащил из огня головешку и попытался поджарить меня в том самом месте, откуда ноги растут. И я все терпел до тех самых пор, когда он вдруг возьми да и скажи:
– Посмотрите‑ка, что у него там, у этого остолопа, – ну пи дать пи взять как у осла нашего соседа Серральей– раса! Не знаю, как Балаболка это терпит…
И вот тут‑то я перестал соображать и вцепился в него с такой злостью, что едва не свалил в огонь, даже не чувствуя при этом, как молотили меня двое других, чтобы я его выпустил. А Окурок верещал, как недорезанный поросепок, только непонятно было, что это за вопли такие – не то жалобные, не то радостные, а похоже‑то было сразу и на плач, и на хохот. И это меня еще больше распалило, и метелил я его как мог, а я не из тех, что когда дерутся, то только для виду… Наконец они меня оттащили, но как я был еще очень злой и хотел бить его дальше, то Сорока выплеснул на меня целую миску вина, чтобы утихомирить, и было утихомирил. Но тут Клешня решил драться со мной, да и у меня на него зуб имелся. А когда мы сцепились, Сорока пошел орать всякие ругательства и замахиваться на меня оглоблей; Окурок тем временем визжал так, что уши резало; а мы, размякнув от выпивки, уже и драться не могли и стали швырять друг в друга всем, что ни попадало под руку; тарелки, кастрюли с едой, стаканы… Я, когда уж нечем было бросить – а тут еще Клешня сбил меня с ног табуреткой, – взял и метнул в него лампой, да так неудачно, что она полетела и разбилась о стену и подожгла несколько связок соломы и хвороста – а их там была навалена целая куча: поддерживать огонь под перегонным кубом. Огонь занялся мгновенно, и когда мы пытались его погасить, то вдруг открылось окно, какой‑то мальчишка просунул голову и сказал:
– Приехал Палка – в-колесах! – И тут же понесся по двору с воплем: «Пожар, пожар, пожар!»
Мы кое‑как похватали одежду – и не успели еще натянуть штаны, как отворилась дверь, и появился высокий господин в крагах и с хлыстом в руке. Мы попятились назад и выпрыгнули в низкое оконце, выходившее на дорогу. И вот так, полураздетые, бросились тикать вниз по склону горы и не остановились до самой каштановой рощи, где наскоро оделись, а потом скатились чуть не кубарем к новой дороге. Там наконец перевели дух и еще довольно долго приходили в себя. А затем, сделав крюк, добрели до квартала Посио, что у моста Бурги. Когда мы проходили по мосту, у перил стояла куча народу, и все смотрели куда‑то вдаль. Я слышал, как кто‑то в толпе сказал:
– А загорелось, видать, в имении Кастело… Горит‑то, горит, как свечка!








