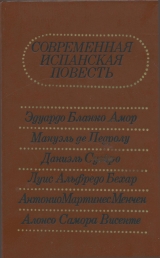
Текст книги "Современная испанская повесть"
Автор книги: Алонсо Самоа Висенте
Соавторы: Эдуардо Бланко-Амор,Луис Альфредо Бехар,Мануэль де Педролу,Антонио Мартинес Менчен,Даниель Суэйро
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 34 страниц)
– Дон Карлос, мне сказали, вы не хотите, чтобы мы воздали должное вашим заслугам, то есть чтобы по окончании банкета…
– Нет – нет, ни в коем случае. Могло бы показаться, что это подмазка, а сейчас газетам только дай повод, ставят все с ног на голову, всячески изощряются, подают событие либо в виде катастрофы, либо в виде триумфа, в зависимости от того, какой ветер подует и как им выгодно, но только не в том ясном и простом виде, как обычно бывает в действительности. Грустно, дети мои, очень грустно. Нет, будет только моя речь, а если появятся журналисты, мы их выставим. Я им потом передам резюме своего выступления, а если понадобится, вручу весь текст целиком…
– Вы всегда проявляете такую скромность, дон Карлос Луис, удивительно… Подарить им речь…
– Дон Карлос, большое спасибо за книгу, потрясающая книга, я уже знаю. Читал рецензию Риуса в «АБЦ»[105]105
Испанская газета консервативного направления.
[Закрыть].
– Ия тоже очень вам благодарен, дон Карлос!..
– Ия!
– Ия!
– Эта новая книга, должно быть, потрясающая, дон Карлос! Большущее спасибо!..
– Большое спасибо!..
* * *
Вся эта орава здесь, за столом, – сборище ненасытных проныр, сплошные нули, и приходится терпеть их до бесконечности, все мне чем‑то обязаны, и немалым, взять хотя бы ту размалеванную золотушницу, похожую на гватемальского кетцаля[106]106
Небольшая среднеамериканская птица с зеленой спинкой, алой грудью, черными хвостовыми и белыми рулевыми перьями, с изогнутым клювом, большим хохолком и длинным хвостом, изображается на гватемальских монетах.
[Закрыть], ее любимый муженек держится на плаву, потому что я одолжил ему деньги, которые ему понадобились во время махинации с недвижимостью, и с моей помощью он вышел из положения, кретин, каких мало не знает, где у него правая рука, теперь он надолго в моей власти, этот от меня не уйдет, а тот, подслеповатый вечно клянчит у меня что‑нибудь для своих деток – похоже, их целый полк: тому протекцию, тому местечко, тому стипендию, того устроить в интернат, того – в летний лагерь или что‑то по медицинской части – они у него, видно, гнилые с рождения, и, пока он всех не пристроит, будет пакостить каждому встречному – поперечному, а хуже всего, что он хочет пропихнуть их к себе, нечто по административно – преподавательско – исследовательско – болтологической части, где сам он копошится уже сорок лет, ничего себе срок, мелкий честолюбец, презирает даже тех, кто были его истинными учителями и наставниками, от своей людоедской деятельности отчищается, плодя слезливые одиннадцатисложные вирши, толкующие про чистоту, порядочность, справедливость и кучу разных добродетелей более или менее домашнего происхождения, и вечно впрягает в этот поэтический воз господа бога; не очень‑то сладко мне приходится, когда обстоятельства вынуждают меня напомнить ему, что он– претенциозное ничтожество, потому что вот уж кто все в мире знает и все умеет, наш пострел везде поспел, а здорово он сдрейфил, когда отдал концы сеньор из Пардо, позвонил мне по телефону и спросил, куда ему подаваться, и это называется – совесть, ну конечно, он сделал это, чтобы не оставить в беде своего старого шефа, черт, что за людишки, век будут жрать – не нажрутся, а ты между тем вези воз, как будто мне все давалось даром, я уверен, умри я сейчас – не дай бог, постучим по дереву, – допустим, хлопнись я в обморок, он тотчас же запустит лапы в мое достояние и еще больше обнаглеет, и я подозреваю, что есть у него в запасе отпрыск, который унаследует и его достояние, и чье угодно, ладно, его достояние – пустые слова, да уж, каким ты был, каким ты стал, сын распроэтакой матери, черт с тобой, а взять этого дерьмового профессоришку, пускай у него стаж – пятьдесят тысяч лет, но, если бы не моя дружба с министром, он гнил бы себе в провинции, сей гений, в захолустье, которому он поет такие хва-
лы… Всю плешь нам проел – ах, эти улицы, мощенные плитами и безмолвные, ах эта соборная церковь, ах, этот мост, построенный еще римлянами… столько красот, но ему не выжить там и жалкого получаса в обществе неотесанных мужланов, ну да, он может требовать с полным правом, не спорю, но в этой стране, когда у вас только и есть что полное право, вы будете сидеть на бобах, любопытно, как повернут это дело социалисты, нынешние, сдается мне, останутся при своих благих намерениях, сами приспособятся к системе, оно и проще, и выгодней, ого, мне ли не знать, вон он сидит, бедняга, скучный, брюзгливый, раздраженный, проклинает меня, ясное дело, приписывает мне ответственность за феноменальную несправедливость, за коррупцию при франкистском режиме и при теперешнем, обвиняет меня исподтишка и с недомолвками в двурушничестве, в продажности, и в том, и в сем, и в пятом – десятом, и, надо думать, тоскует по своему великому труду, коего так и не написал, и ссылается на тиранию Франко и все такое, дабы оправдаться, почему так и не стал славой отечества, лауреатом Нобелевской премии и не прогремел на весь мир, я во всем этом ни шиша не смыслю и смыслить не желаю, обязательно улучит момент и сунется с какой‑нибудь просьбой, не упустит случая, оставь его, ханыгу, взять вон ту крошку, так и льнет ко мне, когда мы остаемся наедине у меня в кабинете, а потом будет говорить, я‑де ее соблазнил, я‑де пользуюсь обстоятельствами, когда на самом деле она на пару со своим женихом душу из меня вынуть готова – и квартирку им, и рекомендацию, чтобы перейти на другую работу, вечно эти рекомендации, каких‑то более достойных форм у нас не существует, кумовство, продажность, застольное панибратство – дерьмо, дерьмо, что за сволочной сброд, а эта девица, стюардесса, на месте ей не сидится, нервничает, выводит меня из себя, меня она не терпит и скрыть этого не в силах, когда на нее ни посмотришь, лицо у нее смутно печальное и какое‑то отрешенное, влюблена, наверное, ну да, ясное дело, как я раньше не сообразил, пари, что сейчас замурлычет себе под нос и запустит на кассетнике какую‑нибудь песенку из времен моей молодости, обычный способ заставить расчувствоваться нужного человечка, тогда можно рассчитывать на то, что успех обеспечен заранее, ну – ну, сладкий яд воспоминаний, так и есть, я как в воду смотрел, естественно, Уже началось, и действительно это танго, что ноет из кас сетника, очень памятно: «Арестуйте меня, сержант, Не боюсь я цепей и плена, я совершил преступление, да про– стит меня бог; я зовусь Альберто Арена», да, вот это жизнь, ты провел свои деньки не худшим образом, когда аргентинская часть программы закончится, она запустит могу присягнуть, что‑нибудь из народных песен моего края, хороводную, либо свадебную, либо песню жнецов, что‑нибудь, что должно взволновать меня до глубины души, пусть это слава всего лишь местного масштаба, как в тех случаях, когда тебя провозглашают почетным гражданином твоего родного селенья, или тебе вручают памятную золотую медаль твоей провинции, или дают твое имя клинике, или чудо – библиотеке, сто томов[107]107
В 1965 г. в Испании была выпущена библиотека, каждый из ста томов которой представлял собой дешевое издание крупнейших произведений мировой классики.
[Закрыть], но ведь правда не в этом, еще чего, правда перехватывает мне горло, словно позыв к тошноте, вот в чем штука, и меня давит ощущение того, что на самом деле я все еще деревенский увалень, мужлан, которому хватило везенья и еще, может, смелости, нахрапистости, но я всего лишь деревенщина; пыль над гумном, запах из навозной ямы, помет на полу голубятни и особый вкус каленых каштанов, отдающий дымком и жаром очага, и режущий ухо треск ракет, когда празднуется окончание сбора винограда, поле под паром, трясина, и даже голод, друзья мои, – видите, как все приукрашивается в воспоминаниях, и как все мешается, а если вы не добились ничего стоящего, валяйтесь в дерьме, и гните шею здесь передо мной, и чествуйте меня, давай – давай, и пускай у вас все потроха ноют от злости, отсюда никто не выйдет с чистыми руками, мы все запачканы – одни грязными делами, а другие завистью и желанием урвать в этих делах свою долю, потому что это и есть единственная причина вашего озлобления против нас, тех, кто выбрался наверх, да, против всех нас: и храбрецов, и слабаков, и дерьмоделов, и бездарностей, что, неправда, что ли, сорок лет процветания, еже– утренних славословий в честь победы, и те, кто треплют про меня языком где попало, рассказывают, что было и чего не было, лишь выдают тайное ощущение собственного провала, оттого что у них‑то нет такого послужного списка, что они не участвовали в дележе добычи, что они не обладают тем, чем обладаешь ты – на самом деле или у них в воображении, вот уж точно – чего только не возникнет у них в воображении, зависть, оголтелая зависть, ей все чужое видится великолепным и недосягаемым, можете сколько вам угодно честить меня хамом, деревенщиной, мужланом, вы‑то сами кто такие? а как следит за мной эта шлюха, которая, чтобы поддеть меня, завела разговор про мою квартирку за городом, где я принимаю кого попало, первых встречных, все потому, что я имел как‑то раз неосторожность позвать ее туда, собралось общество моих друзей по работе и их детей, ее сверстников, она показалась мне такой одинокой, такой изголодавшейся и удрученной, она, видно, думает, я совсем дубина, до трех не могу сосчитать, милая девчурка, небось уже отпустила сострадательную колкость по поводу гвоздики у меня в петлице, порядок, крошка, порядок, я серость неотесанная, а ты откуда взялась, огрызок помойный, если до сих пор говоришь «хочете», «кокрентно» и «ихний»? Могу себе представить, как ты выглядишь по утрам, мартышка паршивая, в шелках, да плешивая, ты, должно быть, похотливей любой курицы, да простят мне это сравнение сеньоры курицы, уже смотрит в другую сторону, что, сосед попался на крючок, сработало? да, я всадил в петлицу эту гвоздику, растак ее, но все без промедления последовали моему примеру – вот в чем секрет моего влияния на весь этот сброд тщеславных полудурков: если я вдел в петлицу гвоздику, все хватают гвоздики, начну ныть или прикинусь огорченным, все тотчас же погружаются в глубочайшее уныние, они реагировали бы с полной естественностью лишь в том случае, если бы я выбросился из окна, с естественностью подонков, я имею в виду; набросились бы друг на друга, отличное развлечение – гадать, с чего они начнут сражение, все эти супруги, тещи – свекрови, сестры – братья, все эти сослуживцы; служащие низшего ранга возглавят распри и раскол и будут кощунствовать и распускать чудовищные сплетни, и никто, никто не выдавит ни словечка оправдания, понимания, а только: «Первостатейный гад освободил место, слава богу, давно пора было, нам самое время избавиться от его диктатуры». И живо за дележ, хватай кто что может, но они не знают, что делить будет нечего, потому что я не оставлю ничего такого, что поддается дележу, разве что сгустки ненависти, застарелую озлобленность да еще дерьмо, в котором они скопом барахтались все эти годы, любители – из любви к искусству, а обойденные – оттого
)
что их обошли, и сами они дерьмо, все – сплошное дерьмо, шлюхи и трутни, ублюдки, порожденье самого паскудного порядка вещей, какой только мы видели, полные злобы и нескрываемого желания обижать и порабощать, ну и людишки, как изящно суют себе в ротик рыбку и знать не знают, откуда она, из моря или из преисподней, как они присматриваются к прогулочкам моей секретарши, ко мне – смеюсь я или вдруг посерьезнел, я утратил право на естественное, неконтролируемое выражение лица, визитер, весь в вашем распоряжении per saecula[108]108
На веки вечные (лат.).
[Закрыть], лицу тоже нельзя давать волю, для того и нужна мне загородная квартирка – а еще для того, чтобы терпеть членов моего фамильного клана, на сегодняшнем занудстве их нет, они не общаются с этими хмырями, с этими отпетыми шлюхами, до того разъевшимися, что груди у них обвисли, а зады раздались шире некуда, что поделаешь, не следует мне расстраиваться, речь моя при мне, каждому из присутствующих уделю несколько словечек и расхвалю до небес, пускай уйдут отсюда довольные, дома будут пересказывать и сравнивать, о ком говорилось теплее либо длиннее, и никто не знает, что плевать я хотел на них на всех, хватит с меня того, что приходится переносить их вид, голоса, оказывать им помощь, выслушивать их бесконечные разглагольствования про всякие горести и неприятности, про хвори отпрысков, прихоти супруг, про скверные известия о старших – не желают учиться, не желают работать, не желают… а чего хотят родители, как деткам быть гениями, если гены у них те же, что у этих безмозглых чурбанов, ясное дело, чего natura non dat, Salamanca non praestat[109]109
Природа не подарит, Саламанка не одолжит (лат.). В испанской традиции город Саламанка – символ учености, ибо там находится один из знаменитейших и старейших в Европе университетов (основан в XIII в.).
[Закрыть] или как там по – латыни, вот он я, глядите, старый эгоист, ископаемое из породы фашиствующих упырей, что отдаст концы не сегодня завтра, и тогда вы поймете, что все изменилось и что политические перемены никого из нас не меняют, даже тех, кто считал себя чистеньким, здесь все нужно начинать заново, а пока суд да дело, будем жить, ибо жизнь коротка, черт возьми, а кто падает, пускай себе падает, этим молодым горлодерам одно нужно – война, уж я‑то знаю – война и всех туда-
fO и расту да, и тогда мы, уцелевшие, сможем снова пустить в ход старый приемчик, опыт как‑никак есть, такая жалость, сколько мы проворонили случаев, когда можно было направить ход событий, как нам нравится и выгодно, теперь нам всем памятники поставили бы в родных краях, пора бы им знать, что я здесь единственный, у кого есть право на что‑то, на то, чтобы горланить, хохотать, ублажать себя, я же шел на риск, шкурой рисковал – и теперь рискую, но им с меня шкуры не снять, чистоплюям, только поглядеть, как уминают мясо, рвут зубами, словно звери, позор, при их‑то жалованье, лучше всего было бы, чтобы их постигла та же участь, что моего коллегу и однокашника, знаменитого писателя, великая была утрата для отчизны, как оке, выразитель ее чаяний и помыслов, бич невежественной буржуазии, как он сам себя окрестил, сыграть в ящик столь нелепым образом, на повороте по дороге в Толедо, небось ехал смотреть развалины, обожал этот вид спорта, пользовался им, чтобы улестить очередную даму сердца, да – с, любезный сеньор окочурился, ну и что? – мертвый в могилку, живой за бутылку, я аж рот разинул, так мгновенно все произошло – и счетец в мою пользу, он одолжил мне деньжат, чтобы оплатить пирушку в том притоне на шоссе, у него и в мыслях не было, что больше ему этих песет не видать, а глядите‑ка, вдовушка сидит как совушка, у нее же в башке пустота, что называется, ничегошеньки, ни дать ни взять – форель в панировке, мать ее, вот уж женщина без обаяния, ни на грош обаяния, он был чокнутый, вечно одна и та же мания – клеймить нравы в статьях, ясное дело, ведь он же кормился за счет этих самых нравов, обличай или восхваляй, а суть‑то одна, прихлебатель, вечно терся при этих самых буржуа, которых ненавидел, чего только не бывает на этом свете, Дульси– нея‑то недолго его оплакивала, кто бы мог подумать, они всегда держались вместе, а теперь… кто это сидит рядом с ней? Физиономия у него как у филина, у ночной птицы, как у акцизного чиновника из третьеразрядного захолустья, отсюда видно, что под ногтями грязь, а зубы? стоит ему засмеяться – ну и сточная яма, но, в конце концов, лучше что‑то, чем ничего, вдовица одна, постель холодна… помнится, в спиче после десерта я ничего не говорю о ее разлюбезном покойничке, а надо что‑то сказать, чертовня, спрошу ее сначала, а то как бы слезки не полились, не испортили нам всю песню, женщины на все спо собны, и эта – не исключение, ну‑ка, ну‑ка, только поглядеть, как она охорашивается, бабенку разбирает, у гнилозубого явно что‑то на уме, а как же, теперь меня фотографирует этот простофиля Хавьерин, вечно одно и то же, небось мои снимки висят у него по всему дому, как только он меня не снимал: анфас, и в профиль, и со спины, во время рукопожатия, за обедом, за выдачей денежных чеков, во время посещения музея, за работой в саду, в момент подписывания бумаг и раздачи дипломов в школе для рабочих и на присуждениях докторской степени honoris causaа[110]110
Honoris causa (лат.) – за заслуги; степень, присуждаемая без защиты диссертации, за совокупность ученых трудов.
[Закрыть]… что, если у него есть какой‑нибудь компрометирующий снимок и он будет искать случая, чтобы шантажировать меня, не следует доверять таким вот скользким типам, особенно если от них за километр шибает пройдохой, как раз его случай, могу себе представить, какие он развесил фотографии у себя в комнате, небось у него на стене висит какой‑нибудь плакат с марксистским лозунгом, и мои фотографии производят особо комический эффект, мелкая месть, вывешенная на стене, он небось пририсовал мне усищи, а около рта – облачко и в нем какое‑нибудь дурацкое изречение, а то, может, сварганил комикс, как теперь обзывают книжки – гармошки в картинках, и держит его у себя в кабинете, любой, кто зайдет, может вписать еще какое‑нибудь оскорбление, он явно любитель строить козни, сразу видно, такой худущий, я‑то вижу его насквозь, ему не купить меня вечными льстивыми фразочками, и тошнотворными комплиментами, и обычаем одаривать всех фотографиями и шуточками, люди польщцены, а в то же время у них есть в запасе какое‑то «но», небось заготовил издевательские момент тальные снимочки, где я застигнут врасплох, ему легко сделать такие, он очень хорошо меня изучил, небось повесил их на стенке под университетским дипломом, дипломы только на то и годятся, в красивой рамочке, может, у него диплом с отличием, университет на такие не скупится, отлично с отличием, черт в стуле, и фига с маслом, чую нутром, что он – шантажист дерьмовый, ладно, его дело, сейчас, когда все повернулось на сто восемьдесят градусов, это такая же профессия, как любая другая, на нее даже монопольное право получить можно, миллионы стоит, так что этот типчик, который, кстати, и воспитан, и неглуп, и не без ловкости, нашел себе дело по душе, ну и дельце, ладно – ладно, порядок, вдовушка процветает, хотя глаза у нее на мокром месте, оно и действеннее, берет за душу, по крайней мере того, кто не прочь с ней спознаться; в небольшом количестве сантименты – подходящая штука на предварительной стадии, но ей надо быть осторожней, а вдруг гнилозубый тип вознамерился всего лишь поквитаться таким манером с покойным за какую– нибудь статью, так сказать, физическая расправа, и тогда… эти две свинюхи снова начали потешаться над гвоздичками, могли бы вести себя не столь вызывающе, придется мне вставить в мою речь что‑нибудь насчет гвоздичек, пусть видят, что меня голыми руками не возьмешь, вот подонок этот официант, снова меня заляпал, настоящий заговор, увальни, мулы галисийские, надо бы записать про гвоздички на салфетке, и еще заметочку, насчет очередных мероприятий социального характера, совсем забыл, ох, уж эта моя голова, о господи, эта голова, если б хоть ноги служили мне получше, а то ноют и не слушаются, везде сплошное нытье – налоги, сверхурочные часы, незамужняя дочка родила, такое чудо, и пойди найди сносного папочку, они стоят бешеных денег, и вдобавок дело еще не поставлено на чисто коммерческую ногу, да – да, все они скопом – вот уродство‑то, вот кислятина – стараются казаться веселенькими, вон они все, рядком, узнаю вас, дон вошь, донья ящерица, дон кролик, донья пиявка, дон бульдог, донья ласка, дон ворон, так вас, так вас, так вас, все сидят с таким видом, будто они императоры, министры, епископы, капиталисты, выучились, наверное, насмотревшись американских фильмов, не фильмы, а сплошное сумасшествие, а они‑то все, прости меня, боже, – просто шелуха, яйца выеденного не стоят, изглоданы завистью, завистью и вековечным голодом, во всем винят Франко, точно так же как Франко и его прихвостни винили во всем республику, а эти служили Франко опорой долгие годы – своим скудоумием, трусостью, бесталанностью и жаждой комфорта, я‑то по крайней мере знал все это и преуспевал, да – с, сеньоры, преуспевал, вот так, кусайте себе локти, кретины, вот я перед вами, Карлос Луис Онтаньон де ла Кальсада и Пиментильо дель Мельгарехо[111]111
Фамилия дона Карлоса Луиса означает приблизительно «шишка на ровном месте и в огороде бузина».
[Закрыть], выходец из сельской глуши, как вас смешит это пасторальное обозначение, злобные твари, но вот все мы здесь, и я – главный, а вы здесь затем, чтобы мне льстить, лизать мне зад, вам всем место в морге, от вас уже разит мертвечиной, у вас не лица, а гнойники, вы похожи на растоптанных жаб, сразу видно, что все вы про себя репетируете просьбы, с которыми обратитесь ко мне через некоторое время, когда десерт и шампанское сделают нас уступчивее… и вы можете снова проголосовать «да» или «нет», референдум, учредительное собрание, в этой стране ничего не произошло, ничего за последние сорок лет, живой – за бутылку, а вы – сами знаете куда… неужели вам хоть раз взбрело на ум, что перемены действительно настанут? Надо быть… ладно – ладно, можете благодарить, ладно…
* * *
– Да вот, я Касильда. Касильда Энерстроса, вдова Федерико Энсинареса…
– A – а, да, уже понял. Знаменитый писатель. Я обратил внимание, каким тоном заговорил с вами только что дон Карлос… Ужасная катастрофа! Я не имел чести быть знакомым с пим…
– Да вот…
– Во всяком случае, сеньора, жизнь так прекрасна, а вы еще так молоды… Полагаю, что…
– Не продолжайте, не продолжайте…
– Вы, вероятно, по – прежнему поддерживаете отношения с друзьями вашего мужа, не так ли?
– Да нет, обычно почти никуда не хожу. Но сегодняшний обед в честь дона Карлоса, почти в домашнем кругу… Я подумала, моя обязанность… Они так дружили!..
– Вы поступили правильно. Незачем ставить на себе крест. Это было бы величайшим грехом. Жизнь требует свое, в ней столько стимулов. Выбраться за покупками, на прогулку, в кафе со старым другом, в кино, в дальнюю поездку на субботу – воскресенье. Ни в коем случае не поддаваться унынию, ни в коем случае. Держитесь! Вы еще сможете взять свое. И я уверен, что немало есть людей, которые желали бы провести в вашем обществе не два часа, а гораздо больше…
– Что за вздор!.. Вы очень любезны, но я не нуждаюсь в том, чтобы мне поднимали настроение столь энер – гичио… Я с мужем много бывала в разных местах, оно понятно, у него была такая профессия, знаете, то коктейль, то цикл лекций, то съезд, то выступление перед читателями в связи с выходом новой книги, то вечеринка у такого– то или у таких‑то… Теперь продолжаю по инерции, хотя, конечно, не так, как раньше, само собою… Да вот…
– Если бы вы оказали мне честь!.. Мы могли бы пойти вместе поужинать сегодня же вечером. Нельзя же без конца предаваться горю. У меня есть ваш телефон, фамилия у вас очень известная… Я знаю одно спокойное уютное местечко, очень подходящее для людей нашего возраста, хорошая музыка, превосходная кухня… Вы не раскаетесь.
– Не знаю, право, как вам ответить, вы ведь меня понимаете? Мне никак не приспособиться к некоторым обычаям… С другой стороны, вы так обходительны! Мы вернемся к этой теме позже, ладно?
* * *
Ну вот, я сижу среди вас на этой пирушке, он так насмехался надо всем этим и все брал на заметку: лица, фразы, наряды, украшения, жесты, мишура – все для него имело тайный смысл, который мне уже недоступен, у меня голос обесцветился и смех тоже, не знаю, как терплю я этого прощелыгу, прелесть какие зубки, что он себе вообразил, у него изо рта пахнет, я уверена, разит за милю, а голый он, должно быть, просто страшилище, наверное, носит бандаж и в постели руководствуется брошюркой, купленной в газетном киоске, господи, что за мысли приходят мне в голову, а все потому, что я не знаю, куда мне смотреть, что делать, слезы у меня накипают, вот – вот хлынут, а к горлу подступает внезапно и неотвратимо плотный ком горечи, подступает, стремится наружу, взрывается приступами кашля и рыданиями, что я здесь делаю, я задаю себе этот вопрос с той минуты, как вышла из дому, но надо жить, как раньше, потому что дети… кто мог бы предположить – и вечные пересуды, и непонимание элементарных вещей; как хорошо он знал все это, знал заранее, всегда потешался, а я: не преувеличивай, люди вовсе не так злы и глупы, как ты упорно изображаешь, – а ведь на самом деле он попадал в точку, я и теперь могла бы повторить его слова со всей точностью и помню, в какой момент они были сказаны, в самый подходящий, уместный, и в каком контексте, я ему все перепечатывала на машинке – а теперь что? – печатать уже не надо и ничего уже не надо – и ждала его за работой, поглядывала в окошко, выходящее на террасу, слышала, как подъезжает машина, как он открывает садовую калитку, сколько раз он это делал, вот он идет ко мне, промелькнул – мгновенно, молнией – за стеклом, постучал по нему пальцами, намек на танцевальный ритм, обманчивая радость – ты одна? – а в комнате рассказал про дорогу, и про людей, и про погоду, и – пошли поедим в городе, или погуляем, или останемся дома, долгая сиеста, я даже не умею вспоминать, я столько раз ждала его, и мне некому все это рассказать, потому что в рассказе будет пустота, вот в чем дело, пустота из‑за отсутствия смысла, столько времени вместе, и вот умереть, наехать на какое‑то дерево, а ведь он так умел смотреть на деревья и угадывать нежность побегов, свободное место для юного листка, который уверенно развернется на ветке, как говорится в чьем‑то стихотворении, он всегда жил среди чужих стихов, цитат, ситуаций, драматических коллизий, славных имен, которые он вплетал в свои статьи, говорил, что это авторитеты с большой буквы, какие слова я сказала бы ему сейчас, если бы он появился, я знаю, что он не придет, это как нескончаемая ссора, смерть – это рассыпавшаяся в прах любовь, оставившая на твоих губах привкус часов счастья и бесконечную скорбь оттого, что их не воссоздать, мне хотелось бы, чтобы сейчас я могла думать, будто он в отъезде, уехал к своим родителям, я бы говорила себе, как тогда, где‑то он сейчас, с кем проведет этот вечер, будет неверен мне, наставит мне рога? – да, он случая не упустит, – но я бы знала, что, когда он вернется, смех его разгонит все тревоги, а то просматриваешь газету в страхе – вдруг самолет разбился, посадка на таком скверном аэродроме, интересно, о чем он будет говорить со своими, я‑то знала: то, что я в нем больше всего любила, то, что теснее всего соединяло нас, он не мог бы рассказать никому, это только для нас двоих, точнее, теперь – только мое, а ощущение отсутствия все усиливается, сейчас я не жду его на террасе, а сижу рядом с этим болваном и не жду его, нет, теперь я знаю, что он не придет и меня не согреют его ласки, такие бурные подчас, что я не успевала перевести дыхание, только открою дверь, он уже обнимал меня, опрокидывал, иногда прямо на пол, подле камина, на коврик или на циновку, и полудетский озноб от страха, что нас застанут, столько раз, ох, какое тайное упоение, а потом, в изнеможении и покое, глядеть, как дрожат на стенах отсветы пламени, считать и пересчитывать углы в комнате и учить наизусть все трещины на потолке, и пятна, и картины на стенах, и складки занавесок – снизу, еще с полу, и наслаждение еще так близко и уже так далеко, а мои пальцы скользят по волосам его, плечам, бокам, а мы смотрим друг на друга, в этом все дело, мы смотрим друг на друга, может ли существовать диалог лучше этого, где, господи боже, если рука моя вдруг потянется искать его… ладно, подкрашусь‑ка немного, нельзя, чтобы заметили, что меня бросает в жар, этот тип подумает, что на меня действуют пошлости, которые он подпускает, уж лучше бы предложил начистоту, без подходцев, а я бы сказала – нет, мне надо засесть за пишущую машинку, повиноваться тайной силе, которая притягивает мои пальцы к клавишам, и стучать, стучать, а локти ноют, что‑то горькое и коварное в этом ощущении, и время от времени посматривать в окно, прислушиваться, не слышно ли машины, может, он вернется к четырем, уйдет с этого собрания, у меня есть кое – какие сомнения, надо бы с ним поконсультироваться, неточно помню, нечеткие буквы, надо бы кое‑что выяснить, и тогда, может быть, мне легче будет принять эту очевидность, чуждую мне, что он не придет сегодня, что он уже по ту сторону забвения, и памяти, и скорби, и все‑таки я здесь, и подкрашиваюсь, и слушаю эту развалину, которая… ладно, он просто пустомеля, ничто не имеет значения, если не видеть мне больше в окошко, как он входит, посвистывая, и не слышать, как подъезжает его машина, и мне его не дозваться, дыхания не хватит… кто бы мог подумать, я соглашаюсь терпеть этого типчика в то время, как ощущаю снова и снова, что голос Феде еще звучит у меня в ушах и волнует меня, и я дрожу оттого, что его нет со мной, как тяжко мне, я как в изгнании – всегда с ним, ушедшим из жизни… А теперь, не знаю почему, такой звон у меня в ушах…








