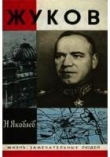Текст книги "Омут памяти"
Автор книги: Александр Яковлев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 45 страниц)
Глава четвертая
Никита Хрущев
Моя работа в ЦК КПСС началась при Хрущеве, в марте 1953 года, сразу же после смерти Сталина.
Мне не было еще и тридцати. Работал инструктором отдела школ. «Курировал», как тогда говорили, 10 областей Центра, Академию педагогических наук, а также преподавание (включая подготовку учебников) истории и иностранных языков.
Встретили меня настороженно, в большинстве своем в отделе работали опытные учителя, в основном женщины-москвички, и гораздо старше меня. Приняли меня за выскочку – самый молодой инструктор во всем аппарате ЦК. Постепенно холодок слабел. Достаточно быстро установились добрые отношения со всеми работниками отдела. Честные, порядочные люди, не очень-то вовлеченные в политику. Она как бы проходила мимо, только иногда тихонько стучала в окошко. Разного рода совещания больше походили на педагогические семинары, чем на собрания людей, контролирующих сферу просвещения. Любой демагог вполне мог назвать их аполитичными. Конечно, какие-то «обязательные слова» произносились, но не более того. Однако нельзя сказать, что мы были совсем в стороне от событий. Это было бы смешно.
Часто пытаюсь поточнее вспомнить обстановку в аппарате ЦК после Сталина. В целом все шло по заведенному ранее порядку. Собрания, совещания, проверки, сочинение разных бумаг. Но все чего-то ждали. Никто не знал, чего именно. По традиции все надежды возлагались на наследников «главного мудреца». Им виднее, что делать с народом. Некоторое успокоение внесли мартовские (1953 год) пленумы ЦК. На них окончательно разделили власть. Снизу казалось, что правящая группа действует дружно, что никаких обвалов, наводнений и землетрясений не будет, но все равно все ждали каких-то изменений.
Как гром на голову низвергся июльский пленум ЦК по Берии. То, что его убрали из руководства, встретили с облегчением – и достаточно дружно. Только потом стало известно, что Хрущев и тут обманул своих соратников. Он сказал им о своих конечных замыслах лишь в последние дни перед заседанием Президиума.
Маленков в своих тезисах предстоящей речи на пленуме собирался сказать только о том, что Берия сосредоточил в своих руках слишком большую власть, поэтому его надо передвинуть на одно из министерств. Будучи руководителем правительства, и он не знал, что у Хрущева совсем другие планы относительно их общего друга.
Едва ли кто верил, включая судей, в то, что Берия – шпион многих государств, но, одобряя приговор, люди снова надеялись на что-то лучшее и справедливое, по крайней мере на то, что прекратятся репрессии и ослабнет гнет диктатуры. И только наиболее вдумчивые наблюдатели поняли, что начался новый виток борьбы за власть, где каждый из «вождей» хотел стать победителем.
Для инструктора ЦК руководитель партии был не только недосягаем, но и окружен ореолом таинственности. Я видел его только раза два или три на больших собраниях. Знал немного его помощников – Шуйского, Лебедева, Шевченко, Трояновского. Поближе с Хрущевым познакомился в октябре 1954 года, будучи в командировке в Приморском крае. В аппарате ЦК знали, что Хрущев посетит этой край на пути из Китая. На всякий случай – а вдруг у Никиты Сергеевича возникнут вопросы – послали во Владивосток трех инструкторов ЦК из разных отделов, в том числе и меня. Нас представили Хрущеву.
Там я впервые слушал Никиту Сергеевича на узком собрании партийно-хозяйственного актива. Хрущев пришел в неистовство, когда капитаны рыболовных судов рассказали о безобразиях, творящихся в рыбной промышленности. Заполняли сейнеры рыбой, но на берегу ее не принимали из-за нехватки перерабатывающих производств. Рыбу выбрасывали в море и снова ловили. Порой по четыре-пять раз. Так и шла путина за путиной.
Хрущев кричал, угрожал, стучал кулаками по столу. «Вот оно, плановое хозяйство!» – бушевал Никита Сергеевич. Отчитал присутствовавшего здесь же Микояна, позвонил Маленкову, дал указание закупить оборудование для переработки рыбы, специальные корабли и т. д. Энергия лилась через край. Капитаны – в восторге. Потом, вернувшись в Москву, я поинтересовался, что же было выполнено из его указаний. Оказалось, ничего, совсем ничего.
Под подозрением Хрущева оказалось китайское руководство. Он не исключал, что китайские лидеры будут стремиться к гегемонии в коммунистическом движении, выскажут территориальные претензии к СССР, пойдут на сближение с США.
Но дальше произошло для меня нечто неожиданное. Хрущев начал говорить крайне нелестно об эпохе Сталина. Записал тогда несколько фраз. Храню до сих пор. Вот что сказал Хрущев еще до XX съезда КПСС:
«Мы очень расточительно расходуем накопленный капитал доверия народа к партии. Нельзя эксплуатировать без конца доверие народа. Мы, коммунисты, должны каждый, как пчелка, растить доверие народа. Мы уподобились попам-проповедникам, обещаем царство небесное на небе, а сейчас картошки нет. И только наш многотерпеливый русский народ терпит, но на этом терпении дальше ехать нельзя. А мы не попы, а коммунисты, и мы должны это счастье дать на земле. Я был рабочим, социализма не было, а картошка была; а сейчас социализм построили, а картошки нет».
Ничего подобного я до сих пор не слышал. В голове сумятица, страх, растерянность – все вместе. То ли гром гремит, то ли пожар полыхает. Вечером во время ужина я стеснялся смотреть в глаза своим коллегам по командировке. Они – тоже. О совещании – ни слова.
Вернувшись в Москву, я боялся рассказывать об этих словах Хрущева даже своим Товарищам по работе, шепнул только нескольким друзьям – и то по секрету. Времена были смутные. Растерянность после смерти Сталина проходила медленно, вопрос о власти в Кремле был далеко не решен.
Кстати, в аппарате ЦК никакой информации об этом совещании и выступлении Хрущева не было. Печать тоже молчала. Даже мы, присутствовавшие на этом собрании, при встречах друг с другом в столовой или еще где-то избегали вспоминать об этой встрече. Как бы ничего и не было, а если что и было, то забылось. Ну, погорячился человек, с кем не бывает. Я работал в ЦК еще всего ничего. Смотрел на события наивными глазами провинциала. Был уверен, что в ЦК все, или почти все, делается по правде.
Миллионы людей еще верили в светлое будущее и отвергали тех, кто, как им внушалось, мешал быстрому бегу к счастью, которое вот-вот наступит. А тут – невообразимо жуткие слова, которые раньше приписывались разве только империалистам, троцкистам и другим «врагам народа». Я и предположить не мог, что вскоре произойдет общественное землетрясение, начало которому положит доклад Никиты Хрущева на XX съезде КПСС.
Сегодня часто можно слышать вопрос: а есть ли в России пусть не плодородная, но хоть какая-то почва, на которой демократия могла бы прижиться, вырасти в нечто жизнеспособное, или же ветер истории всегда и на всех перекрестках российской жизни бросал семя свободы «в порабощенные бразды», обезвоженные и обезжизненные тысячелетним насилием?
Смелый политический шаг Хрущева доказал, что такая почва есть. Пусть и не очень плодородная, но есть. Он попытался сделать пробоину в инерционном сознании замороченного народа, и это ему в какой-то степени удалось.
Что же он был за человек, Никита Сергеевич? Мои рассуждения на этот счет скорее личные. Я знаю, что некоторые мои друзья и коллеги не согласны с моими оценками, считая их завышенными. Когда большевики, включая нынешних лидеров КПРФ, проклинают Хрущева, это мне понятно. Для них Сталин гораздо ближе. Но когда некоторые из демократически ориентированных лидеров пытаются принизить роль этого человека в разрушении сталинизма, меня эта догматическая предвзятость крайне настораживает.
Конечно же, Хрущев – фигура сложная, что и говорить. Я не припомню личности, если говорить о политиках XX столетия, более противоречивой, со столь трагически раздвоенным сознанием. Он умнее и глупее, злее и милосерднее, самонадеяннее и пугливее, артистичнее и политически пошлее, чем о нем думали в его время и пишут сегодня. Активный участник преступлений сталинского периода, но и разрушитель его. Мне бы хотелось оставить эту историческую фигуру в контексте того времени, в котором он действовал, а не делать из него политического игрока нынешних дней.
Как я его вижу?
Хрущев – прежде всего вулкан энергии. И полезной, и вредной. Человек с маниловским самовыражением, но и жесткий прагматик. Хитер, но и по-детски наивен. Труженик и мечтатель, порой без меры груб и самодержавен. Экспериментатор. Непредсказуем, бесцеремонен, хваток и ловок… Всякий. В сущности, он и творец, но и жертва иррационализма. Конечно же, он считал для себя святой однонотную мелодию «классовой борьбы», исполняемой на марксистской трубе, но был не чужд и полифонии «живой жизни». Театрал, любитель русской классики, но и «хранитель большевистского огня в искусстве», часовой соцреализма, носитель большевистского абсурдизма.
Его обзывали «кукурузником» и «болтуном», он был героем анекдотного фольклора. Принадлежал к той редкой породе людей, на которых, как говорится, нет зла. Вспомним Манеж, кукурузу, «догнать и перегнать»… И сразу же зароятся в памяти анекдоты, частушки, притчи. Как вредоносный утопист и несгибаемый жрец всеобщего счастья через советский строй, Хрущев без колебаний шагал в коммунизм. Стремился за горизонт, но отдалялся от него ровно настолько, насколько приближался к нему. Он совсем не знал, что там за горизонтом. Как говорили древние, человек идет дальше и дольше тогда, когда не знает, куда он идет.
Хрущев видел отсталость страны, чувствовал трагический исход этой отсталости, но вместо здравых мер он постоянно искал «чудо-средства», которые вытащат страну из трясины. Будь то кукуруза, целина, торфоперегнойные горшочки, химизация всей страны и прочее.
Выброшенный наверх номенклатурной селекцией, он оказался человеком, плохо приспособленным к руководящей деятельности на высшем уровне, повел себя, как Алиса в Стране Чудес: постоянно удивлялся и разочаровывался. Его попытки что-то изменить или сломать сразу же приводили к неразберихе, экономической чехарде, а в итоге – к невозможности разобраться, что же происходит в стране. В этом плане у него много похожестей с Ельциным. Да и действовали они оба на похожих по крутизне поворотах истории.
После расстрела Берии закончилась тягучая схватка за первую роль в руководстве между Хрущевым и Маленковым. Последнего осенью 1955 года, за несколько месяцев до XX съезда, сняли с поста председателя Совмина. Это означало, что власть снова полностью перекочевала в ЦК КПСС, а вернее – в ее верхушку. Побаловались немножко в «ленинские принципы управления», и хватит. Должен сказать, что смещение Маленкова прошло безболезненно. Мало кто сожалел. В аппарате ЦК приветствовали эту меру на том основании, что правительственные чиновники слишком задрали носы и хотели отобрать власть у цековских чиновников.
После удаления от реальной власти Берии (карательный аппарат) и Маленкова (исполнительная власть) начался, в сущности, новый период в практике руководства страной. Хрущев расстался со своими друзьями без особых колебаний. Теперь руки развязаны. В этих условиях Хрущев решился на исторический шаг – на доклад о Сталине на XX съезде. Именно этот мужественный поступок и побуждает меня помянуть Никиту, так его звали в народе, признательным словом.
Не так уж много осталось в живых тех, кто непосредственно слушал «секретный доклад» Хрущева. Доклад был настолько опасен для системы, что его долгое время боялись публиковать. Он оставался секретным еще три десятилетия. Кто-то передал его на Запад, а вот от советского народа доклад скрывали. Скрывали по очень простой причине: руководство страны боялось выходить с идеями десталинизации за пределы партийной элиты.
Я был на некоторых заседаниях этого съезда. Ничего особенного – съезд как съезд. Похож на любое другое партсовещание. Произносились скучные, привычные слова, причем громко, с пафосом. Все хвалились своими успехами – продуктивностью земледелия, производительностью труда, надоями молока, процентами прироста, неуклонным повышением жизненного уровня народа. Восторгались мудростью партийных вождей. Всячески ругали империализм. Доставалось и тем отщепенцам внутри страны, которые оторвались от народа и сеяли неверие в его великие победы. Иными словами, происходила многодневная партийная литургия, посвященная прославлению, вдохновлению и разоблачению. И мало кто знал, что ждет казенных сладкопевцев впереди.
Мне повезло. Достался билет и на заключительное заседание съезда 25 февраля 1956 года. Пришел в Кремль за полчаса до заседания. И сразу же бросилось в глаза, что публика какая-то другая – не очень разговорчивая, притихшая. Видимо, одни уже что-то знали, а других насторожило, что заседание объявлено закрытым и вне повестки дня. Никого из приглашенных на него не пустили, кроме работников аппарата ЦК. Да и с ними поначалу была задержка, но потом все прояснилось.
Председательствующий, я даже не помню, кто им был, открыл заседание и предоставил слово Хрущеву для доклада «О культе личности и его последствиях».
Хрущев на трибуне. Видно было, как он волновался. Поначалу подкашливал, говорил не очень уверенно, а потом разошелся. Часто отходил от текста, причем импровизации были еще резче и определеннее, чем оценки в самом докладе.
Все казалось нереальным, даже то, что я здесь, в Кремле, и слова, которые перечеркивают почти все, чем я жил. Все разлеталось на мелкие кусочки, как осколочные снаряды на войне. В зале стояла гробовая тишина. Не слышно было ни скрипа кресел, ни кашля, ни шепота. Никто не смотрел друг на друга – то ли от неожиданности случившегося, то ли от смятения и страха, который, казалось, уже навечно поселился в советском человеке.
Я встречал утверждения, что доклад сопровождался аплодисментами. Не было их. А вот в стенограмме помощники Хрущева их обозначили в нужных местах, чтобы изобразить поддержку доклада съездом.
Особый смысл происходящего заключался в том, что в зале находилась высшая номенклатура партии и государства. А Хрущев приводил факт за фактом, один страшнее другого. Уходили с заседания, низко наклонив головы. Шок был невообразимо глубоким. Особенно от того, что на этот раз официально сообщили о преступлениях «самого» Сталина – «гениального вождя всех времен и народов». Так он именовался в то время.
Подавляющая часть чиновников аппарата ЦК доклад Хрущева встретила отрицательно, но открытых разговоров не было. Шушукались по углам. Не разобрался Никита. Такой удар партия может и не пережить. Под партией аппарат имел в виду себя. В практической работе он с ходу начал саботировать решения съезда Точно так же аппарат повел себя и в период Перестройки.
Тогда я не знал о закулисной борьбе, между строчками читать не умел, все слова, сказанные «вождями», может быть за некоторыми исключениями, воспринимал как некие истины, не подлежащие сомнению. Вернее, не хотелось тратить силы на эти сомнения, ибо власть на то и власть, чтобы не ошибаться. И все же мучительные размышления грызли меня беспощадно и безостановочно. Стал усыхать рабочий энтузиазм, временами наступала апатия ко всему происходящему. Угнетала щемящая пустота в душе. И тем не менее я начал гораздо внимательнее прислушиваться к речам начальства и стал обнаруживать в них массу благоглупостей, вранья, притворства. Гораздо зорче поглядывал по сторонам и, прорываясь через психологическую завесу, мной же сооруженную, все чаще отмечал в поведении номенклатуры карьеризм, беспринципность, подхалимаж, интриганство. Это были горькие открытия, но запоздалые.
Все последующие месяцы пытался разобраться в самом себе, в своих метаниях. Прежде всего, хотел понять, почему слова Хрущева произвели на меня столь тяжкое впечатление? Что сыграло тут решающую роль? Может быть, падение на грешную землю звезды великой веры. Может быть, провинциальная наивность в убеждениях. Может быть, оскорбленное чувство ограбленной души. Может быть, еще что-то, таинственное, непознаваемое, скрытое от самого себя.
Шло время, известное еще под именем врача. Наступила политическая оттепель. Начал проходить озноб и в моих мозгах. Особенно помогали споры с друзьями, встречи с писателями. Круг знакомых расширялся. Иногда ходил на вечера поэзии в Политехническом. Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Булат Окуджава, Роберт Рождественский, Римма Казакова – открывался новый и прекрасный мир. Но сознание продолжало раздваиваться. В известной мере я стал рабом мучительного притворства. Приспосабливался, лукавил, но все же старался не потерять самого себя, не опоганиться. И выработать свою, именно свою точку зрения.
В ЦК работать расхотелось. Искал выход. И нашел его. Скорее интуицией, чем разумом. Понял необходимость переучиться, заново прочитать все, что я читал прежде, обратиться к первоисточникам марксизма.
Обратился в ЦК с заявлением направить меня на учебу в Академию общественных наук. Два раза отказали. После третьего заявления к просьбе отнеслись положительно, но только после встречи с секретарем ЦК Петром Поспеловым, которую мне организовал мой старый друг Константин Зародов. Просьбу удовлетворили, однако при условии, что пойду учиться на кафедру истории КПСС. После неоднократных разговоров мне удалось убедить начальство в целесообразности другого решения. Руководство Академии долго не могло понять, почему я не хочу идти на кафедру истории партии, что было бы для работника ЦК, да еще историка, вполне логичным шагом. Но после XX съезда я просто не мог снова нырять в мутные волны. Выбрал кафедру международных отношений.
Много читал, сдавал экзамены, писал рефераты. Получал «пятерки». Только по политэкономии однажды схватил «четыре», поскольку отказался снять абзац из своего реферата о том, что абсолютного обнищания рабочего класса при капитализме быть просто не может – ни с научной точки зрения, ни с практической. Профессор Лапин уговаривал меня убрать этот абзац, но ему все-таки пришлось снизить оценку.
Я благодарен Академии. В мое время там была хорошая обстановка для учебы, для чтения, в том числе и запрещенных книг.
Политических дискуссий избегал, выступать на партийных собраниях отказывался. Сумятица в голове продолжала плясать свои танцы.
Меня часто спрашивают, когда произошел ощутимый перелом в моем сознании, когда я начал пересматривать свои взгляды на марксизм? Я уже писал о том, как подкрадывались ко мне сомнения, как они проникали в сознание, заставляли нервничать и… думать. Но сомнения лишь часть общего мировоззрения. Только проштудировав заново первоисточники «вероучителей», я понял (в основных измерениях) всю пустоту и нежизненность марксизма, его корневую противоречивость и демагогичность. Эти выводы успешно лечили меня от потрясений XX съезда.
Мы привыкли к формуле «марксизм-ленинизм». Но в ней нет единого содержания. Такого единого учения нет. В значительной мере это разные понятия. Марксизм – одна из культурологических концепций XIX века, каких было немало. Ленинизм – политологическая конструкция, на основе которой возник большевизм – форма власти экстремистского толка.
Российский большевизм по многим своим идеям и проявлениям явился прародителем европейского фашизма. Я обращаю на это внимание только потому, что мои первые сомнения и душевные ознобы были связаны вовсе не с марксизмом, которого я еще не знал, а с ленинско-сталинской практикой общественного устройства.
Наследник утопических предположений Маркса, Ленин, будучи мастером перевода теоретических схем на язык политических действий, вычленил из крайне противоречивых марксистских построений лишь те положения, которые отвечали главной ленинской идее – захвату власти. Большевистская платформа получила свои теоретические опоры: диктатура пролетариата, насильственная революция, классовая борьба, насилие как принцип управления государством, воинствующий атеизм, отрицание частной собственности, гражданского общества, семейного воспитания.
Когда я пришел ко всем этим выводам, искренне расстроился, что так долго обманывался, отмахивался от сомнений, боялся их высказывать, поскольку они легко могли помешать жизненной карьере. В те годы даже добрые дела можно было совершать только при условии, если ты лукавишь, играя с властью и с ее идеологией в прятки.
Впрочем, я и сейчас отвергаю для себя роль какого-то обвинителя Маркса. Каждому времени свойственны свои горизонты интеллекта и знаний. Ученый может ошибаться. Более того, он обязательно в чем-то ошибается, и даже его ошибки становятся порой тем плодородным слоем, который стимулирует развитие нового знания. В то же время ученый в большей мере, чем его другие современники, пленник догм и заблуждений своего времени, поскольку он – заложник инструментов познания: интеллектуальных, методологических, практических. Ученый, будучи творцом, неизбежно увлекается, что-то преувеличивает, а что-то преуменьшает, что-то идеализирует, а что-то, напротив, абсолютизирует.
Все это так, и упреки едва ли правомерны в отношении тех, кто честно ищет истину, кто постоянно сомневается в собственных заключениях, кто проверяет их снова и снова, решительно отбрасывая концепции, не оправдавшие себя в жизни.
Иное дело, когда свои открытия ученый начинает считать откровением, а себя – мессией. Так произошло и с основоположниками марксизма. Будучи апологетами утопий, марксисты напрочь проигнорировали простейшее правило: можно – и нужно – рубить лес, выкорчевывать пни под будущую ниву. При этом, однако, лес рубят не потому, что он плох, но потому, что необходимо место для другого, чего-то более важного. И не весь лес, а сколько надо, например, для пахоты. Но даже на расчищенном месте не уничтожают все, лесом созданное, ту плодородную почву, на которой только и может что-то вырасти. Если срыть этот слой, не будет ни прежнего леса, ни нового урожая. Не будет и того опыта прилежного земледельца, который позволит его дальним потомкам выращивать хлеб, восстанавливать леса и добиваться всего того, что делает человечество бессмертным.
Кроме всего прочего, меня меньше всего интересовал марксизм сам по себе. Предметом моего особого интереса был вопрос: почему именно на Марксову социальную утопию пошла наша страна и что из этого получилось?
А получилось то, что на основе политического монополизма и идеологической мифологии была сформирована военно-бюрократическая диктатура, отторгнувшая человека от собственности и власти. Она показала свою некомпетентность и античеловечность во всех областях жизни. В результате Россия во многом потеряла XX век. Исходная заданность «истинности» базовых устремлений оказалась предельно разрушительной. Превращение марксизма в партийно-государственную идеологию придало ему инквизиторские функции, сделало орудием мобилизации в целях борьбы, покорения и властвования.
К таким невеселым выводам, повторяю, пришел я после внимательного чтения домарксистских авторов, самих Маркса и Энгельса и их оппонентов, публицистики Ленина. В результате мой марксистский домик, сооруженный из банальностей: социалистический гуманизм, социалистическая демократия, партия, – ум, честь и совесть эпохи – и прочего словоблудия, рухнул. Я не почувствовал сожаления. Спасибо «классикам» за очищение моей головы от хлама «классиков».
Дышать и думать стало легче. Я снова обрел рабочую форму, начал гораздо пристальнее всматриваться в реальную жизнь, которая демонстрировала бездонную пропасть между марксистско-ленинским проектом общественного устройства и реальностями общественного бытия.
Тем временем «наверху» обстановка явно осложнялась. Уже вскоре после XX съезда струхнувшее руководство направило по партии три письма, в которых содержались требования усилить борьбу с антипартийными и антисоветскими настроениями. Эти письма – выразительный пример того, как аппарат начал борьбу против решений XX съезда, а значит, и против Хрущева.
В начале апреля 1956 года, то есть практически через месяц после съезда, Центральный Комитет обратился с письмом ко всем членам партии. Дело в том, что на собраниях люди стали называть, кроме Сталина, и другие фамилии членов Президиума ЦК, ответственных за репрессии. Глашатай сталинизма газета «Правда», пересказывая это письмо, призывала к борьбе против «демагогов» и «гнилых элементов», которые под видом обличения культа личности критикуют линию партии.
Письмо не оказало ожидаемого влияния на развитие политической ситуации. Оно как бы затерялось, утонуло в общественных дискуссиях.
В июле 1956 года ЦК направил второе письмо, в котором сообщалось о репрессивных партийных мерах: привлечении к ответственности отдельных коммунистов и роспуске парторганизации Теплотехнической лаборатории АН СССР за «неправильное» обсуждение решений XX съезда. Но и это не помогло. Стихийная, вышедшая из-под контроля десталинизация, несмотря на партийные «громы и молнии», мало-помалу захватывала массы, прежде всего образованную часть общества. Особой активностью отличалась писательская среда.
В октябре 1956 года вспыхнуло народное восстание в Венгрии.
Для его подавления в страну были введены советские войска. Венгерские события довели Президиум ЦК до истерики. Они, кроме всего прочего, послужили удобным поводом для новых нападок на Хрущева. Его обвиняли в том, что он дал толчок к оживлению и мобилизации всех контрреволюционных и антисоветских сил. Хрущев как-то заметил в узком кругу, что венгерские события – это удар по нему лично и по десталинизации. Заколебался Никита Сергеевич, не знал, что делать.
Он, конечно, понимал – об этом мне рассказывал потом его первый помощник Шуйский, – что письма ЦК к коммунистам только разжигают страсти, а не утихомиривают их. Но особенно «рогатые» в ЦК нажимали на Хрущева и добились своего. В декабре 1956 года было направлено третье письмо. Оно называлось так: «Об усилении политической работы партийных организаций в массах и пресечении вылазок антисоветских, враждебных элементов». Письмо готовила комиссия во главе с Брежневым. В нее входили Маленков, Аристов, Беляев, Серов и Руденко. Письмо было грубое, бесноватое, полное угроз, за которыми явно виделся страх. Оно заканчивалось словами:
«ЦК КПСС с особой силой подчеркивает, что в отношении вражеского охвостья у нас не может быть двух мнений по поводу того, как с ним бороться. Диктатура пролетариата по отношению к антисоветским элементам должна быть беспощадной. Коммунисты, работающие в органах прокуратуры, суда и государственной безопасности, должны зорко стоять на страже интересов нашего социалистического государства, быть бдительными к проискам враждебных элементов и, в соответствии с законами Советской власти, своевременно пресекать преступные действия».
Итак, в лексиконе «вождей» вновь появилось «вражеское охвостье».
По стране прокатилась волна арестов и приговоров за «клевету на советскую действительность» и «ревизионизм». Только в первые месяцы 1957 года к уголовной ответственности было привлечено несколько сот человек. Тысячи людей, как-то проявивших себя сторонниками обновления общества, были брошены в лагеря и тюрьмы. ЦК КПСС ужесточил контроль за деятельностью идеологических учреждений, творческих союзов, научных центров, средств массовой информации. В специальных постановлениях резко осуждалась позиция тех газет и журналов, которые «слишком прямолинейно» поняли идеи доклада Хрущева.
Помню аппаратный ажиотаж в 1957 году вокруг проекта постановления о культе личности, который готовился в отделах ЦК. Я продолжал учиться, но по старой памяти меня пригласили в ЦК для работы над этим документом. Борьба шла за каждое слово, за каждую формулу, особенно за то, чтобы не дать в обиду сложившуюся систему, оставить в неприкосновенности коренные постулаты удобной, податливой для начальства и жестокой для всех остальных идеологии.
Уже тогда, несмотря на решения XX съезда, быстро набирала силу тенденция не только замолчать факты беззакония и произвола, но и обелить самого Сталина. Впрочем, тенденция эта и не умирала, а лишь временно притаилась. Главным при редактировании текста постановления был Михаил Суслов. Насколько я помню, его оппонентами выступали помощники Хрущева, особенно Лебедев.
В воспоминаниях Хрущева есть слова, в определенной мере раскрывающие его позицию по отношению к событиям после XX съезда. Он признал, что за три года после смерти Сталина «мы не смогли разорвать с прошлым, мы не могли набраться мужества, внутренней потребности и приоткрыть полог и заглянуть, что же там, за этой ширмой. Что кроется за тем, что было при Сталине… Мы сами, видимо, были скованы своей деятельностью под руководством Сталина, еще не освободившись от его давления».
До сих пор на коммунистических митингах – портреты Сталина, а в руководстве КПРФ и сегодня считают доклад Хрущева политически ошибочным. После его свержения с поста руководителя партии просталинские настроения стали особенно разухабистыми. Где-то году в 70-м я ехал в Кремль в одной машине с Сергеем Трапезниковым, заведующим тогда отделом науки ЦК, приближенным Брежнева. Он всю дорогу рассуждал о том, как устранить вред, нанесенный Хрущевым.
– Что же будет с марксизмом, когда мы умрем? – огорчался Трапезников. Говорил, что марксизм из революционного учения под натиском враждебных ревизионистских сил может превратиться в оппортунистическое, если ЦК будет и дальше недооценивать эту угрозу. В качестве главного ревизиониста мой собеседник называл Бориса Пономарева, секретаря ЦК. Ему же, Трапезникову, принадлежит занятная фраза из его книги по аграрному вопросу.
Над ней долго смеялись в Москве: «Волчья стая ревизионистов свила осиное гнездо». Оригинально, не правда ли?
Почему Хрущев начал сворачивать процесс десталинизации? Прежде всего, как мне представляется, потому, что, сказав правду о конкретных преступлениях Сталина, он испугался последствий своего исторического деяния, ибо в обществе началась дискуссия о характере самой системы. Помнил и свою личную вину в репрессиях. Кроме того, он видел мощную оппозицию внутри правящей элиты, включая таких сталинских «зубров», как Молотов, Каганович, Маленков. Он играл в прятки и с самим собой, и со своими коллегами по руководству.
Конечно, путь к прогрессу тяжел и долог. Когда я говорю о подвиге Хрущева, то отношу к нему лично:
во-первых, избавление миллионов людей от ГУЛАГов, развенчание Сталина, возвращение целых народов из ссылки;
во-вторых, освобождение крестьян от крепостничества, барщины, ликвидацию сельских «зон оседлости», выдачу крестьянам паспортов, введение единого для всех трудового законодательства;