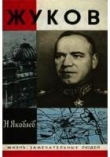Текст книги "Омут памяти"
Автор книги: Александр Яковлев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 45 страниц)
Каждый раз приходилось действовать осторожно, придумывать наиболее эффективные ходы, постепенно приучая общественность к нормальнмоу воспринятию нового, необычного, неординарного, не всегда совпадающего с казенной установкой. Парадоксально, но за гласность надо было воевать порой тайно, прибегать к разным уловкам, иногда к примитивному вранью. Например, говорить, что тому или иному редактору сделано внушение, а на самом деле редактор даже не подозревал о том, что над его головой пронеслась гроза. Эту науку я проходил и раньше.
С некоторыми руководителями органов информации у меня сложились тесные доверительные отношения, а потому работали негласно установленные правила. Скажем, они загодя информировали меня о предстоящей острой статье, которая наверняка вызовет недовольство, статью печатали, но на меня не ссылались. Я брал на себя функцию их «прикрытия», если разгорался скандал.
Как-то раз в санаторий на юге, где я отдыхал, позвонил Егор Яковлев и сказал, что работать стало совсем невмоготу – придирки, окрики, угрозы. Поэтому он просит меня войти в состав Совета учредителей газеты «Московские новости». Я согласился, понимая сложившееся положение. Потом пришлось расплачиваться за эту опрометчивость. Почти на каждом заседании Политбюро или Секретариата возникали вопросы о неправильном поведении средств массовой информации и, конечно же, «Московских новостей». И каждый раз звучали упреки в мой адрес. Вот, мол, среди учредителей газеты – член Политбюро, а газета ведет антипартийную линию.
Конечно, я и сам понимал легкомысленность своего поступка, отдав предпочтение одному изданию. Выражали мне свое непонимание и редактора других газет. Я пошел на этот шаг исключительно из интересов дела и уважения к мужеству Егора Яковлева.
Когда на Политбюро и пленумах ЦК происходили бурные вспышки нетерпимости в отношении демократической прессы, Михаил Сергеевич или нехотя соглашался, или отмалчивался. Он никогда не требовал от меня каких-то кардинальных кадровых изменений. Не требовал, за исключением, может быть, эпизода с Владиславом Старковым. Владислав в газете «Аргументы и факты» опубликовал результаты опроса среди пассажиров поезда, согласно которому Михаил Сергеевич (по рейтингу) оказался не на первом месте. Он увидел в этом какую-то провокацию.
Я в это время уже не курировал идеологию. Ею занимался Вадим Медведев. По указанию «сверху» отдел пропаганды подготовил проект постановления об освобождении Старкова от работы. Медведев не хотел давать ему хода. Мы с Вадимом договорились «потянуть» время, хотя нажим, в частности со стороны Общего отдела, был невероятно сильным. Его работники ссылались на прямое указание Горбачева. Но все же общими усилиями удалось «заволокитить» это решение. Кстати, некоторые люди из руководства очень рекомендовали Старкову самому уйти в отставку. Он выдержал давление.
Однако не все шло гладко и с Михаилом Сергеевичем. Например, поступило в ЦК письмо о том, что в журнале «Наш современник» постоянно пьянствуют, редактор Викулов и его ближние «не просыхают», а напившись, играют в коридоре в футбол мусорной корзиной. Я попросил заняться письмом, хотя в отделе пропаганды еще до него знали, что в редакции творится нечто несусветное. Началась проверка.
Вдруг звонок от Горбачева.
– Ты зачем придираешься в Викулову? – Тон был агрессивный.
– Я не придираюсь. Проверяется письмо из самой редакции.
– Ты брось. Я тебя знаю. Мне известны твои предвзятости. Прекрати расследование. Не сталкивай меня с интеллигенцией.
Телефон замолк. Позднее я узнал, что в это время у него в кабинете сидел Воротников, тогдашний руководитель РСФСР. Журнал был российский.
Через какое-то время Викулову все-таки пришлось уйти из редакции. Но, к сожалению, нормального, уравновешенного, авторитетного человека туда назначить не удалось. Бондарев специально посетил Горбачева и настоял на назначении редактором «Нашего современника» Станислава Куняева, человека нетерпимого, превратившего журнал в один из антиперестроечных рупоров.
Другой пример. По какому-то поводу Горбачев проводил очередное заседание. Даже не помню, где это было (но не в Кремле). Я не участвовал в нем. Вдруг телефонный звонок в автомашину, велено прибыть к Горбачеву. Приехал. Собрание уже закончилось. Разъезжались. Горбачев ждал меня на крылечке. Пригласил в свою машину – там была и Раиса Максимовна.
– Тебе звонил Илья Глазунов?
– Звонил.
– Ты почему не разрешил продлить его выставку в Манеже?
– Во-первых, она идет уже месяц, как и запланировано, а во-вторых, продлевать или не продлевать – дело не мое, а Министерства культуры. Причина простая – там на очереди выставка другого художника, не менее известного и уважаемого.
– Глазунов – крупный художник, – продолжал Михаил Сергеевич. – Я знаю его лично. Народ его любит. Выставку надо продлить. А ты поправь свое поведение, иначе мы не сможем дальше понимать друг друга.
Это была единственная угроза за все время нашей совместной работы. Думаю, что он потом и сам пожалел о ней, ибо несколько дней был со мной подчеркнуто ласков, ежедневно звонил, чаше всего даже без всякого повода.
Достаточно плотно занимался я в это время и церковью. Будет справедливым сказать, что в Политбюро возникло как бы молчаливое согласие в том, что дальнейшая борьба с религией и преследование священнослужителей противоречат принципам демократической Реформации. Публично признавать варварство большевиков никто, конечно, не хотел, но и желающих защищать его не оказалось. Только КГБ со скрипом шел на некоторое ослабление прямого руководства этой сферой, начатого еще при Дзержинском.
Я горжусь тем, что, занимаясь в Политбюро культурой, информацией и наукой, принимал в начавшемся оздоровительном процессе активное участие, в том числе и в сфере религиозной деятельности. Сам себя к активным верующим не отношу, но крещен. Равно как дети и внуки, причем не сегодня, а тогда, когда родились. Мать ходила в церковь до конца своих дней. До сих пор в родительском доме висят иконы, они никогда не снимались. Так уж получилось, что за всю свою жизнь я не прочитал ни одной атеистической лекции или доклада, не провел ни одного совещания по атеистической пропаганде. И мне неприятно видеть некоторых партийных «обновленцев», тех, кто еще вчера активно разоблачал «религиозное мракобесие», а сегодня неистово крестится, особенно тогда, когда телекамеры направлены на них, нововерующих. Может быть, каются? Впрочем, Бог с ними, это их дело.
Меня всегда приводили в смятение разрушенные церкви, склады и овчарни в храмах. По дороге из Москвы в Ярославль, по которой я проезжал сотни раз, стояли десятки порушенных памятников прошлого как немые свидетели преступлений режима. Однажды, году, наверное, в 1975-м, будучи в отпуске (работал в это время в Канаде), я поднял этот вопрос перед Андроповым. Он внимательно выслушал меня, согласившись, что подобные пейзажи производят плохое впечатление на иностранцев, ему уже докладывали об этом. В моем присутствии Андропов дал кому-то указание по телефону изучить вопрос, но все на этом и закончилось. Его интересовала не суть дела, а иностранные туристы.
В годы, когда я занимался идеологией, различным конфессиям было передано около четырех тысяч храмов, мечетей, синагог, молельных домов. Естественно, что особенно памятны мне случаи, в которых я принимал непосредственное участие. Никогда не забуду, как мы с женой ездили в Оптину Пустынь (Калужская область) и в Толгский монастырь (Ярославская область).
Оптина Пустынь – святое место для России – предстала перед нами в полном смысле слова грудой камней. Всюду битый кирпич, ободранные стены, выбитые окна, полное запустение. Внутри храмов – инициативные сортиры атеистов.
Сегодня это изумительный по красоте храм, величаво возвышающийся над речной долиной. Все собираюсь снова съездить туда, но заедает мирская суета.
В Толгском монастыре, что под Ярославлем, была колония для детей. Набрел я на этот монастырь случайно. Искал подходящее помещение для организации школы реставраторов памятников старины. Мой выбор пал на родную мне Ярославщину. Здесь предложили посмотреть несколько зданий, в том числе и этот монастырь. Там была детская колония.
Когда я приехал туда, то понял, что будет кощунством создавать там учебное заведение. Надо было срочно передать здания монастыря церкви. Министр внутренних дел СССР Александр Власов, в ведении которого находился монастырь, отнесся к этому проекту внимательно, в течение полугода расселил детей по другим колониям и освободил монастырские здания.
Но возникли какие-то трудности в правительстве, там затягивали решение вопроса. Выручил случай. Как раз в те дни Михаил Сергеевич должен был принять членов Синода. Он попросил меня подготовить справку для беседы. Среди других я упомянул и Толгский монастырь как уже переданный церкви. Речь генсека опубликовали. Трудности отпали.
Я бываю иногда в Толгской обители. Ремонт там закончен. Монашки работают на огородах. Игуменья Варвара всегда приветлива, гостеприимна. Особенно великолепно это сказочное архитектурное сооружение, если любоваться им снизу, с Волги.
Я высоко ценю орден Сергия Радонежского, которым наградил меня Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. И совсем недавно настоятель храма в Крестах (Ярославль) подарил мне старинную икону за спасение этого храма. Я уже забыл об этом, но батюшка напомнил о тех временах, когда над церковью нависла реальная опасность разрушения. Обком партии аргументировал свою позицию тем, что церковь портит общую панораму въезда в Ярославль, ибо заслоняет «красоты» многоэтажных новостроек. Я выступил против сноса храма, настоял на том, чтобы он продолжал действовать. Это было еще в начале 70-х годов. Церковь красуется до сих пор, облагораживая въезд в этот старинный русский город.
Я напомнил об этих фактах для того, чтобы понятнее стали мой нынешние соображения на этот счет. Передачу конфессиональной собственности религиозным властям я считал не только своеобразным покаянием общества, но и связывал с этим надежду на возрождение нравственности, верил, что возвышенная духовность будет лечить прилипчивое материальное головокружение, сдерживать жадность и зависть.
Не скажу, что полностью, но многие мои надежды, к сожалению, дали трещину. Немало священников на местах оказались просто жуликами, разворовывающими церковное имущество. Так произошло, например, с моей церковью в селе Веденском, где я окончил начальную школу и где могилы моих предков.
Недавно я был там в качестве «крестного отца». На крестины поставили в очередь более десяти младенцев. Батюшка был хмур. Заявил, что крестить станет только тех младенцев, крестные матери и отцы которых знают «Отче наш» наизусть. Подошла и наша очередь. Он спросил крестную мать, знает ли она «Отче наш». «Нет», – ответила она. «Передай ребенка матери!» Потом прочитал грубую нотацию, сказав о том, что не знающие «Отче наш» наизусть не имеют права переступать порог храма.
Ко мне подошли несколько старых знакомых. «Ноги моей больше не будет в этом храме», – сказала пожилая женщина. Одним словом – большевик, напоминающий своими действиями члена достопамятного Союза безбожников.
К сожалению, некоторые церковные иерархи ни с того ни с сего начали прижиматься к власти, пробавляться ее милостью, без меры суетиться, исполнять непотребные обязанности государственного придатка. Нельзя не видеть, что с верующими говорят очень часто люди малограмотные, не знающие священных книг и христовых заповедей, грешащие непотребными деяниями. Но самое главное, многие иерархи не готовы к реформе церкви, хотя нужда в ней колоколами гремит над землей России.
Особенно грязными и циничными являются клятвы нынешних лидеров компартии в верности христианским заветам. Разрушив тысячи храмов и уничтожив сотни тысяч священнослужителей, большевики сегодня преподносят себя носителями духовности.
Почему почтенные и высокочтимые иерархи нынешней церкви не предадут анафеме антипатриотическую и антихристианскую партию, разрушившую церковь, объявившую религию злом, подлежащим искоренению?
Общество ждет от религии проповеди, исцеляющей и возвышающей, сердобольной и правдивой, особенно желанной сегодня после тяжелых десятилетий безверия и безбожия.
Я хорошо понимаю, что многих пастырей еще тяготит груз прошлого, того прошлого, когда всю религиозную деятельность контролировали спецслужбы. Они подбирали людей для учебы в религиозных учебных заведениях, вербовали их на службу в разведке и контрразведке. Многих двойников я знаю, знаю даже их клички, но обещаю эти знания унести с собой.
Итак, со времени прихода к власти Михаила Горбачева началась поступательная, эволюционная и ненасильственная Реформация Советского Союза, определяющую роль в которой играла Россия. В процессе поиска исторической альтернативы было предложено несколько обобщающих определений, которые отражали бы интересы разных социальных групп. Среди них: совершенствование социализма, его обновление, эволюция в революции, перестройка. В конечном счете в мировом политическом лексиконе утвердилось определение «Перестройка», как наиболее точно отражающее суть Реформации. Движущей силой этого общественного поворота выступила гласность, то есть свобода слова, свобода информации, свобода творчества.
Глава восьмая
Чужие дураки – смех, свои дураки – стыд
В партийно-государственной элите всегда существовало своего рода центристское направление в его сугубо советском варианте. Ее адептам нравились идеи нэпа, «некоторые» соображения Бухарина по экономическим проблемам. Они выступали за ослабление централизованного планирования, за развитие частного предпринимательства при государственном регулировании. Такую точку зрения поддерживали и многие экономисты. В новых условиях подобные подходы развивал и Горбачев, обосновывая концепцию «совершенствования социализма», очищения его от сталинизма.
Жизнь тем временем текла по своим правилам. Страх перед властью быстро таял. Ее всемогущество становилось все более призрачным. Общество буквально заболело ожиданием перемен. Сформировалась возможность уникального бескровного перехода общества из одного качества в другое, от диктатуры к свободе. Причем это произошло не в 1991 году, а в главном и основном – уже в 1985–1990 годах.
В известном смысле переломным здесь явился январский пленум ЦК 1987 года, когда встал вопрос о демократизации самой партии, об альтернативных выборах. Аппарат партии, номенклатура в целом почувствовали реальную угрозу своей власти, поняли, что на свободных выборах они потерпят поражение, как это произошло на выборах в Учредительное собрание в ноябре 1917 года.
Отношения внутри номенклатуры явно обострились. С особой выпуклостью это проявлялось на пленумах ЦК. Критика становилась все более личностной. Появились «мальчики для битья» – Яковлев, позднее – Шеварднадзе. Постепенно подбирались и к Горбачеву. Кризис в партии нарастал. Наиболее громкий выстрел прозвучал на октябрьском пленуме 1987 года, на котором выступил Борис Ельцин.
Начать с того, что выступление Ельцина оказалось неожиданным для многих, в том числе и для меня. Я участвовал в подготовке доклада о 70-й годовщине Октября. В тексте содержались резкие оценки сталинизма, что было крайне необходимо в тех конкретных условиях, поскольку при Брежневе сталинская эпоха практически была реабилитирована. Более определенно, чем раньше, говорилось о необходимости новых шагов в демократическом развитии. Были и другие новые моменты. Мне представлялось очень важным, чтобы новые формулы, касающиеся сталинизма и демократии, вышли через пленум на суд общественного мнения.
Но весь этот замысел чуть было не испортил Ельцин, придав задуманной эволюционной операции элементы форсажа. На пленуме и без того большинство было против перестройки. Но оно, это большинство, не хотело нарушать праздничный характер события.
И вот вышел на трибуну человек, обвинивший руководство страны в медлительности, нерешительности в перестроечных делах, призывающий смелее проводить преобразования. То есть начал говорить не по теме да еще в радикальном варианте. Тут и началась «рубка дров». Честно говоря, я испугался, что разъяренные участники пленума заодно «похоронят» и сам доклад…
Я тоже критиковал Ельцина, но за «консерватизм». Это была своего рода наспех придуманная уловка, чтобы запутать суть вопроса. На самом деле я боялся, что радикализация Перестройки может затормозить продвижение идей, заложенных в тексте доклада. Да и вообще я не верю в созидательную роль любых проявлений революционализма. Свое выступление я использовал также для критики Лигачева за его руководство Секретариатом ЦК, поддержав тем самым Ельцина в этой части его выступления.
Мои страхи все же оказались напрасными. Обрушившаяся на Ельцина критика увела участников пленума от существа доклада, помогла его одобрению, ибо пленум предпочел утихомиривающие размышления Горбачева радикализму Ельцина.
Горбачев был мрачен, сосредоточен. Во время перерывов на него упорно нажимали в том плане, чтобы наказать Ельцина, вплоть до исключения из членов ЦК. Столь же упорно он возражал против таких предложений. Видимо, Горбачев решал для себя трудную задачу. У меня лично складывалось впечатление, что Михаил Сергеевич готовил для Ельцина более высокое положение в партии. Это почувствовали и в высшем эшелоне власти. «Новые небожители» испугались антиноменклатурной линии московского секретаря, а потому постепенно втянули Горбачева в борьбу с Ельциным, что закончилось для страны весьма плачевно.
Конечно же, октябрьский эпизод не с неба свалился. В Политбюро и на Секретариате ЦК быстро формировалось «мнение», что Ельцин потакает демократам, которые именовались не иначе как демагогами, что его надо «приструнить», что он слишком круто расправляется с московской элитой. Эта точка зрения отвечала настроениям и большинства районных партийных «вождей» города, которые всеми силами пытались остаться у власти. Москва стала объектом постоянных придирок на Политбюро и на Секретариате, особенно со стороны Лигачева. Но поскольку характер Ельцина не отличается покладистостью, то, как говорится, нашла коса на камень.
Вся эта история практически отражала переход от скрытых расхождений в партии к открытым, публичным. Именно в это время все резче начали обозначаться позиции на самом верху власти. Мне лично представлялось, что этап нового крутого поворота еще не наступил, что еще не исчерпан потенциал «постепенности», что общество еще не готово к полному слому сложившегося режима большевизма, к отказу от его идеологии. Но в любом случае выступление Ельцина прозвучало как открытое предупреждение правящей элите о том, что ей все равно придется политически определяться – с кем и куда идти. Тем более что замечание Ельцина о заторможенном характере многих реформ в определенной мере было справедливым.
Горбачев сказал как-то, что между ним и Ельциным была достигнута договоренность о встрече после ноябрьских торжеств, чтобы обсудить вопрос о возможности отставки Ельцина, о чем последний попросил Горбачева, насколько я знаю, еще в августе 1987 года. В этих условиях выступление Ельцина, с моей точки зрения, нарушало эту договоренность. Спустя четыре года, где-то осенью 1991 года, я спросил Бориса Николаевича о сути этой договоренности. Он сказал, что таковой не было.
С чего же началась вся эта запутанная история?
В августе 1987 года, когда Горбачев был в отпуске, на одном из заседаний Политбюро обсуждалась записка Ельцина о порядке проведения митингов в Москве. Борис Николаевич предложил вариант, по которому все митинги проводились бы в Измайловском парке по типу Гайд-парка в Лондоне. Это предложение неожиданно вызвало острую критику. Ельцин не скрывал своей растерянности. Он пытался что-то объяснить, в частности сказал, что написал эту записку по поручению Политбюро. Но это не помогло, все сделали вид, что никакого поручения не было. Обвинения сыпались одно за другим, выйдя за рамки проблемы митингов. Ельцина обвинили в неспособности положить конец «дестабилизирующим» действиям «так называемых демократов».
Честно говоря, я тоже растерялся, наивно полагая, что вопрос возник спонтанно. Выступая, я выразил недоумение по поводу характера обсуждения. В целом же заседание оставило у меня горький осадок. Меня встревожило то, что мы в Политбюро скатываемся к практике старых «проработок». Я, конечно, не знал, что этот эпизод подтолкнет Ельцина к заявлению об отставке.
Подобные «разносы» отражали суть обостряющейся ситуации. Нечто похожее случилось и со мной. Я имею в виду проработку на закрытом заседании Политбюро в связи с публикацией в «Московских новостях» информации о кончине писателя Виктора Некрасова. Произошло это в августе, когда за «хозяина» тоже был Лигачев. Мне сообщил о смерти Некрасова Егор Яковлев. Договорились, что появится короткая заметка. Лигачев через отдел пропаганды запретил что-либо печатать по этом поводу. Он, как и я, курировал идеологию. Но некролог был напечатан. Он и вызвал бурю возмущения у Егора Кузьмича, ибо авторы некролога осмелились скорбеть по «антисоветчику». На следующий день в Ореховой комнате, там, где собирались перед общим заседанием и предварительно решали все вопросы повестки дня только члены Политбюро, Лигачев обратился ко мне со словами:
– Товарищ Яковлев (обращение «товарищ», а не «Александр Николаевич», не предвещало ничего хорошего), как это получилось, что некролог о Некрасове появился в газете, несмотря на запрет? Редактор совсем распустился, потерял всякую меру. Пора его снимать с работы. Он постоянно противопоставляет себя Центральному Комитету, а вы ему потворствуете.
Ну и так далее. Его поддержали Рыжков, Воротников, кто-то еще, но кроме Лигачева, никто особо не взъерошивался, поддерживали его как-то уныло, а многие просто промолчали.
– Ты знаешь, что Некрасов занимает откровенно антисоветские позиции? – спросил Лигачев.
– Слышал. Но за последние десять лет я не видел ни одной такого рода публикации, кроме статьи о Подгорном. Но эта статья была правильной.
Статьи этой, понятно, никто из членов Политбюро не читал, а потому никто и не возразил. Некрасов охарактеризовал Подгорного как человека грубого, прямолинейного и бесцветного.
– А вот КГБ располагает серьезными материалами о Некрасове. Ты веришь КГБ? Скажите, Виктор Михайлович, – обращаясь к Чебрикову, спросил Лигачев, – правильно я говорю?
– Правильно, – вяло, без всякой охоты ответил председатель КГБ.
– Вот видишь, – сказал Лигачев, теперь уже обращаясь ко мне.
– Вижу. Но помню и о том, что Некрасов написал одно из лучших произведений об Отечественной войне, а жил в Киеве в коммуналке и бедствовал. И никто на Украине не помог ему, никто не позаботился о нем в трудную минуту жизни, вот он и уехал за границу.
Меня упрекали за слабое руководство печатью, за то, что печать «распустилась». Постепенно спор затух, но оставил мрачное ощущение. Особенно угнетало тягостное молчание коллег. Практически это было первое публичное столкновение двух членов Политбюро, причем в острой форме. Присутствовавшие не могли для себя решить, как вести себя, чью строну принять, ощущалась какая-то общая неловкость.
Тем же вечером с юга позвонил Михаил Сергеевич и спросил:
– Что у вас там произошло?
Я рассказал. Он внимательно выслушал, долго молчал, а затем буркнул, что получил несколько иную информацию.
Вернемся, однако, к октябрьскому пленуму 1987 года.
Был ли прав Ельцин в принципе? Безусловно, да. В самом деле, Перестройка начала спотыкаться, о чем и сказал кандидат в члены Политбюро.
Был ли прав Ельцин по тактике? Думаю, нет. К выступлениям подобного характера надо тщательно готовиться. Не считаю правильным и то, что Борис Николаевич затронул Раису Максимовну, обвинив ее в непомерном влиянии на политические решения мужа. Видимо, все это почувствовал и сам Борис Николаевич, когда выступал с ответами на критику. Что-то отводил, но с чем-то и соглашался, фактически каялся. Ельцин покаялся и на XIX партконференции, осудил свое выступление как ошибочное и попросил политической реабилитации. Партконференция не отреагировала на его просьбу, в результате чего Борис Николаевич получил как бы моральное право возглавить антигорбачевский оппозиционный фронт.
И последний вопрос. На этот раз самому себе.
Выступил бы я сегодня на пленуме, как тогда? Отвечаю с позиции сегодняшнего разумения – нет, не выступил бы. С позиции того времени – да, ибо принципиальным вопросом для себя считал поддержку Горбачева.
Воодушевленное итогами октябрьского пленума и последующим освобождением Ельцина от работы, антиреформаторское крыло в партии предприняло новую атаку на Перестройку. Многим памятна попытка аппаратного реванша, «малого мятежа», связанного с публикацией статьи Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами» в «Советской России» от 13 марта 1988 года.
Я был в это время в Монголии. Мне показали статью в то же утро. Прочитав, я был крайне удивлен. Не мог даже представить себе, что происходит в Москве. Особенно встревожило то, что и Горбачев находился за рубежом. Попросил помощника позвонить в Москву и узнать, что происходит. Из Первопрестольной ответили, что ничего не происходит, кроме того, что идет совещание руководителей средств массовой информации. Ведет Лигачев.
Когда вернулся домой, получил возможность понаблюдать, как ожил партийный аппарат. А вот печать притихла. Аппарат ЦК дал указание о поддержке статьи, перепечатке ее в местных газетах. По этому поводу состоялось узкое совещание секретарей ЦК.
Статья родилась из письма, которое Андреева и ее муж Клюшин направили в ЦК. Письмо заинтересовало Лигачева, и в Ленинград был направлен заведующий отделом науки «Советской России» с тем, чтобы вместе с авторами превратить письмо в статью. Никого не смутило, что Андреева и ее супруг исключались ранее из партии за анонимки и клевету. КПК при ЦК восстановил их в партии по просьбе КГБ. Статья вернулась в секретариат Лигачева, а затем была напечатана.
Горбачев вернулся из Югославии в те же дни, что и я. Он занял четкую позицию. Сразу уловил, что статья направлена против него, является провокацией и требует отдельного и подробного обсуждения.
Политбюро по этому вопросу заседало два дня. Вступительное слово сделал Горбачев. Оно было резким, статья получила определение как платформа антиперестройки. В настоятельной форме Горбачев предложил выступить каждому и выразить свое отношение.
Вводную информацию Михаил Сергеевич поручил сделать мне. В своем выступлении я говорил о том, что в партийной среде усиливается противодействие общественным преобразованиям. Особенно заметно ортодоксальное направление. Оно питается интересами и убеждениями тех, кто усматривает в Перестройке угрозу собственным позициям и сложившимся устоям жизни. Догматическая атака идет от инерции сознания, привычек, взглядов, силы традиционных подходов. Особенно криклива атака приверженцев левой фразы. Она пропитана революционаризмом, национализмом и шовинизмом, иждивенческим отношением к жизни.
Особенно яростным нападкам подвергаются средства массовой информации. Идет ожесточенная борьба за то, чтобы руководить отсюда, из ЦК, каждой газетой, каждой программой телевидения и радио. Фронт противодействия Перестройке хорошо понял, что главным его противником является гласность.
Ужесточилась борьба в среде интеллигенции, в сфере науки и культуры. Нельзя создавать новое поколение диссидентов, тем более на пустом месте, исходя из одних только амбиций, симпатий или антипатий. Сказал и о том, что в культуре неприемлемы торопливость, вкусовщина. В Политбюро должно восторжествовать хлеборобское терпение в выращивании урожая, а не практика браконьерских набегов за легкой добычей.
В заключение своей информации сказал, что статья в «Советской России» является платформой реванша. Но беда даже не в ней самой, а в том внимании, которое было искусственно приковано к этой статье. Приковано партийным аппаратом, в том числе аппаратом ЦК.
В прениях все поддерживали Горбачева. Резко выступили Рыжков, Медведев. Остальные говорили вяло, неохотно, иногда по схеме «с одной стороны, с другой стороны». Лигачев отделался несколькими малозначащими фразами, отрицал, что статья Андреевой готовилась в его секретариате. По какой-то причине он ушел с заседания.
Занятной была перепалка между мной и Виктором Никоновым – членом Политбюро по селу. Он мало что смыслил в политике. Статья в «Советской России» ему понравилась, однако он вынужден был сказать, что согласен с оценками других товарищей. Но тут же переключился на меня, заявив, что я «подраспустил» печать, а потому публикуется очень много антипартийных статей. Он долго говорил на эту тему, повторяя банальности того времени.
Я не выдержал и предложил ему поменяться сферами ответственности…
– Поскольку у тебя, Виктор Петрович, с сельским хозяйством все в порядке, все налажено, полки магазинов завалены продуктами, то давай займись идеологией и приведи ее в такой же порядок, как и сельское хозяйство. А я займусь уже налаженным тобой делом.
Спору не дал разгореться Горбачев.
– Хватит вам ерундой заниматься!
Но тут же спросил:
– А все-таки, Виктор Петрович, как вы относитесь к статье?
Никонов что-то пробурчал, но я уже не помню, что именно, – сильно был возбужден.
Вскоре после этого заседания была опубликована редакционная статья в газете «Правда» под заголовком «Принципы перестройки: революционность мышления и действий» (5 апреля 1988 года). Я возглавлял подготовку этой статьи, что-то написал сам, а что-то правдисты. Перед публикацией послал статью Горбачеву и его помощнику Черняеву. Последний сделал несколько поправок. Горбачев позвонил и сказал, что согласен. Но уже после этого я вставил в статью абзац о национализме и шовинизме. Наутро, когда статья появилась в «Правде», позвонил Горбачев и в очень сердитом тоне спросил:
– Откуда появился этот абзац, я его вчера не видел. Наверно, Черняев вписал. Я вижу, это его штучки.
Мне пришлось сказать, что Черняев тут ни при чем.
– Не надо было этого делать!
Так закончился «малый мятеж» против Перестройки. Своеобразие сложившейся ситуации состояло в том, что события резво, может быть, слишком резво помчались вперед. Фактический раскол партии на реформаторское и ортодоксальное крыло становился все зримее, заметнее, что было непривычно и неожиданно для людей, повергло их в растерянность: крутого поворота в массовом сознании еще не произошло. Общество еще только начинало признавать естественность многообразия в политике, экономике, культуре, животворящую силу многообразия. К тому же эволюция перестроечных представлений уже начинала, как я уже сказал, обретать определенную автономность от ее инициаторов, формировала собственную логику развития.