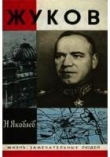Текст книги "Омут памяти"
Автор книги: Александр Яковлев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 45 страниц)
Живет в памяти его приезд в Канаду, когда я служил там послом. И во время встреч в Москве в связи с подготовкой к визиту, и во время поездки он показал себя с самой лучшей стороны. Открыт, прост, любознателен, мастер дискуссии, убедителен в аргументах, откровенен без каких-либо оговорок. Уже тогда я искренне хотел, чтобы он стал лидером государства, говорил об этом открыто, в том числе и канадцам.
Однажды Пьер Трюдо спросил меня:
– Почему вы настаиваете, чтобы Горбачева принимали на самом высоком уровне? Он ведь приглашен министром сельского хозяйства?
Я ответил:
– Горбачев – будущий лидер страны.
– Вы уверены?
– Уверен.
Трюдо долго смотрел на меня. Будучи умным и осторожным политиком, он не спешил поверить в это. Но мое мнение, видимо, подтолкнуло его к размышлениям. Так или иначе, после этого разговора многое изменилось. Качество организации встреч Горбачева было явно повышено. Вместо одной запланированной встречи с Трюдо состоялось три. Причем две – сугубо неформальные, с продолжительными разговорами, далеко выходящими за рамки официальных встреч. Оба лидера были явно довольны друг другом. Позднее, когда Трюдо перестал быть премьер-министром Канады, Горбачев организовал ему поездку по Сибири вместе с его детьми – Устином, Михаилом и Александром. Я думаю, что именно с того времени политическая элита на Западе стала присматриваться к Горбачеву как к будущему лидеру.
Позднее бывший министр иностранных дел Великобритании Джеффри Хау рассказывал мне, что когда английское правительство обсуждало вопрос о приглашении возможного будущего советского лидера, информация из Советского Союза была противоречивой. Рассматривались кандидатуры Горбачева, Гришина, Романова. Решили посоветоваться с Трюдо. Последний без колебаний высказался за Горбачева. Англичане прислушались к совету канадцев.
Особенно памятен наш разговор с Михаилом Сергеевичем на ферме министра сельского хозяйства Велана. Мы прибыли туда вовремя, а министр опаздывал из-за непогоды. Мы с Горбачевым пошли в поле. Кругом никого, только его охрана на опушке леса. Сначала обычная беседа, но вдруг нас прорвало, начался разговор без оглядок. Почему? Трудно сказать. Он говорил о наболевшем в Союзе, употребляя такие слова, как отсталость страны, необходимость кардинальных перемен, догматизм и т. д. Я тоже как с цепи сорвался. Откровенно рассказал, насколько примитивной и стыдной выглядит политика СССР отсюда, с другой стороны планеты.
Будучи практически вторым лицом в партии и государстве, он своим поведением демонстрировал новый стиль, как бы подавая сигнал о неизбежности грядущих перемен. Однако подавать сигналы из-за спины первого лица (а им был в то время Юрий Андропов) – одно дело; придя же к власти, лидер перестает быть "подающим надежды", "многообещающим" политиком, который знает нечто особенное, недоступное другим. Загадочность исчезает, как только в новом, уже властном качестве надо без промедлений переводить намерения на "язык родных осин", на практические рельсы.
Михаил Сергеевич в марте 1985 года был пересажен из класса "Легенда" в класс "Лидер". Тем самым миф обрел конкретную живую форму, переселился в простого смертного, на которого возложена тяжелейшая из тяжелейших исторических миссий. И здесь его подстерегали самые серьезные, я бы сказал, неожиданные опасности. В сущности, он оказался при весьма ограниченных политических и практических возможностях. По должности он поднялся почти до небес, дальше некуда. Это создавало иллюзию абсолютного всемогущества, но только иллюзию. На самом деле все обстояло далеко не так. Горбачев оказался в окружении людей, гораздо старше его, опытнее в закулисных играх и способных в любой момент сговориться и отодвинуть его в сторону. Он это понимал.
Конечно, возможности руководителя партии и государства, особенно такого, каким был СССР, при абсолютной партийной власти чрезвычайно велики. Но в то же время власть лидера жестко канонизирована: он лидер до тех пор, пока отвечает интересам наиболее могущественных элит и кланов. Как только эти интересы всерьез задеваются, власть руководителя, какими бы рангами и достоинствами он ни обладал, может резко и болезненно сузиться, упасть до нуля или привести к падению самого лидера.
Горбачев, я думаю, отдавал себе отчет, что демократические реформы требуют почти поголовной смены политической и хозяйственной элиты. Не раз говорил об этом. Но быстро освободить от должностей первых секретарей ЦК республик, крайкомов, обкомов, горкомов крупных городов, министров, директоров крупных предприятий волевым путем он практически не мог. Политбюро на это не пошло бы, да и существующая когорта власти могла взбунтоваться на очередном пленуме ЦК.
Вспомним, как сложилась руководящая верхушка в первый год правления Михаила Горбачева. Первый партийный съезд при Горбачеве состоялся через год после его прихода к власти. Чем он примечателен? Да ничем. Я, например, не помню, чтобы произошло что-то выходящее за рамки казенных разговоров. Доклад на съезде тоже был как бы слоеным, вроде бутерброда, на все вкусы. Хотелось что-то сказать новенькое, но не раздражая министерских и местных бояр. Что-то было построено на подтекстах, но мало кто в них разбирался. Доклад готовился в муках, давление разных интересов было огромным, суета вокруг неимоверная. Я уже рассказывал об этом.
Попытки привлечь к подготовке доклада ученых, журналистов, аналитиков тоже мало что дали. Созидательной раскованности еще не наступило. "Свободолюбивые" речи произносились еще пока в узком кругу, да и то между закусками, а вот положить все это на бумагу духу не хватало. Сигналы из ЦК шли очень разные, порой противоречивые. Уверенности, что жизнь будет строиться на базе заявлений о демократизации, еще не сложилось. Подобных заявлений было полно и в прошлом.
В этом смысле XXVII съезд не сказал своего решающего слова. Но предварительная разведка состоялась.
Для понимания момента перечислю состав правящего олимпа, избранного на пленуме 6 марта 1986 года.
Члены Политбюро ЦК КПСС: Михаил Горбачев, Гейдар Алиев, Виталий Воротников, Андрей Громыко, Лев Зайков, Динмуха-мед Кунаев, Егор Лигачев, Николай Рыжков, Михаил Соломенцев, Виктор Чебриков, Эдуард Шеварднадзе, Владимир Щербицкий.
Кандидаты в члены Политбюро: Петр Демичев, Владимир Долгих, Борис Ельцин, Николай Слюньков, Сергей Соколов, Юрий Соловьев, Николай Талызин.
Секретари ЦК: Михаил Горбачев, Александра Бирюкова, Анатолий Добрынин, Владимир Долгих, Лев Зайков, Михаил Зимянин, Егор Лигачев, Вадим Медведев, Виктор Никонов, Георгий Разумовский, Александр Яковлев.
Уже в этом списке были заложены мины, взрывавшие потом поле реформ. Но, как ни парадоксально, именно этот состав Политбюро пошел на демократические преобразования, пусть противоречивые и замедленные, с ошибками, но пошел.
В обстоятельствах середины 80-х годов Горбачев оказался, как я уже упоминал, в весьма специфических условиях. Геронтологический фактор отягощал и суживал его возможности, не давал развернуться, заставлял все время осторожничать, играть "в поддавки", а иногда и заигрывать с политическими старцами – опытными и беспощадными. Этот фактор нельзя не учитывать, анализируя особенности Перестройки, ее характер и темпы. Когда на ногах гири, трудно вылезать из болота. А гири были отменные, чугунные, многопудовые, отлитые коллективными усилиями многомиллионного аппарата партии и государства.
Горбачев неплохо начал. Его основательный политический идеализм (в хорошем смысле этого слова), помноженный на непривычную тогда открытость и эмоциональность, на понимание необходимости перемен, помог придать Перестройке мощный стартовый заряд. В весьма специфической обстановке личные качества Горбачева, такие, как умение избегать резких размежеваний, играть на полутонах, поддерживать порой необходимую в политике неопределенность, стараться до последнего сохранить открытыми как можно больше вариантов, удержать возможно дольше свободу рук, – все это объективно работало в те годы на Перестройку, на поиск путей и средств обновления.
Именно так я оценивал обстановку первых 2–2,5 лет. Ее специфику я тоже видел в спасительных компромиссах, полагал рабочее поведение Горбачева оптимально эффективным в условиях продолжающегося, хотя и утратившего былую силу партийно-государственного режима. Уже тогда не заинтересованные в Перестройке группировки пытались противодействовать ей, но делали это не с открытым забралом, а многократно испытанным методом саботажа. Недаром в то время Перестройку сравнивали с тайгой: наверху трещит-шумит, а внизу полная тишина. Так оно и было. И до сих пор провинция – скорее жертва, чем созидательница реформ.
Но объяснить это только саботажем нельзя. В партии и стране всегда что-то перестраивалось. Принимались многочисленные решения о совершенствовании тех или иных направлений работы: идеологической и организаторской, системы управления, работы с кадрами и т. д., но никогда, скажем, районные власти толком не понимали, чего от них хотят. Ждали конкретных указаний. Как начало очередной кампании они встретили и Перестройку. Пошумят там наверху, заменят вывески на учреждениях, может быть, и других руководителей поставят, а дальше жизнь пойдет своим привычным чередом. Надо только переждать очередную суету.
Постепенно начала складываться прелюбопытная ситуация. Режим в основном сохранялся вроде бы прежний, особенно по внешним признакам и рутинным процедурам. Но тоталитарные приемы и правила начали чахнуть на глазах. Страна замитинговала, ожили газеты, телевидение, радио. Общественное и личное сознание светлели на пьянящих ветрах свободы. И с этим было очень трудно что-то поделать, даже тем, кто был накрепко прикован к системе диктатуры, верил в ее неприступность.
Новая обстановка находила отражение и в работе Политбюро ЦК. Члены Политбюро, секретари ЦК могли, если они того хотели, проявлять самостоятельность, не оглядываться на возможные пересуды. Подобная атмосфера позволяла решать многие важнейшие вопросы явочным порядком, никого, в сущности, не спрашивая. Более того, в интересах дела и не надо было спрашивать.
Прежде всего это коснулось идеологии, информации, культуры, международной политики. Именно в этой области произошли кардинальные изменения. Но не в экономике, за которую отвечали Николай Рыжков, Егор Лигачев, Виктор Никонов, Юрий Маслюков и другие. А вот тогда, как, впрочем, и теперь, критиковали за Перестройку только идеологов и, конечно же, Горбачева. Причина весьма немудрящая. Идеология была стальным обручем системы, все остальное старательно плясало под музыку идеологических догматов.
Что касается экономики, то и при Ельцине многое осталось в застойном, даже упадочном состоянии. Первоначальные реформы, способные изменить суть общества, потухли, увяли. Земля остается у прежних латифундистов. Фермеры загнаны в положение вечных должников. Малый и средний бизнес задавлены налогами. Обществу все время стараются внушить, что у государства есть какие-то более важные дела, чем всемерная поддержка инициативы людей через принцип "не мешать".
Старая армия при помощи огромного генеральского корпуса умирает. Кровавые инъекции вроде Чечни ничего изменить не могут. Военная обстановка в мире стала иной, а военная реформа тем не менее всячески тормозится. До сих пор не создана эффективная судебная система, которая действительно защищала бы человека от любого насилия, прежде всего от насилия власти. Старые и новые номенклатурщики, объединившись, насоздавали столько нелепых законов и инструкций, что России долго еще придется выбираться из помойной ямы бюрократизма. Приватизация идет недопустимо медленно, оставляя обширное поле для коррупции, взяточничества, воровства.
Вот тут, повторяю, и возникают всякого рода "трудные вопросы". Возможно, мы, реформаторы первой волны, были недостаточно радикальны. Например, не сумели настоять в то время на многопартийности. Не смогли сразу же узаконить свободу торговли и, конечно же, отдать землю фермерам или реальным кооператорам, запретив такую форму хозяйствования, как колхозы. Не сумели начать переход к частному жилью и негосударственной системе пенсионного обеспечения. Оказались не в состоянии решительно встать на путь последовательной демилитаризации и дебольшевизации страны.
Но все это верно в идеале, в сфере незамутненной мечты. А в жизни? На самом деле, как можно было в то время упразднить колхозы? Без соответствующей законодательной базы? И кто ее мог создать? Крестьянский союз Стародубцева? И главное! Что стали бы делать колхозники? Самочинно делить землю? Получилось бы второе издание "Декрета о земле".
Интересы – вещь реальная. Номенклатурные фундаменталисты не могли оказаться в одном лагере с Перестройкой. Рассчитывать на то, чтобы наладить с ними нормальные рабочие отношения, умиротворить, ублажить, успокоить, умаслить было, мягко говоря, заблуждением, поскольку за этой когортой людей стояли реальные интересы власти, которую они терять не хотели.
Жажда власти над людьми как бы зацементировалась в сознании номенклатурного класса. Не буду тут ссылаться на собственный опыт, а приведу эпизод из встречи Хрущева в декабре 1962 года на Ленинских горах с творческой интеллигенцией. Я был на этой встрече.
Как вспоминает Михаил Ромм, Никита Сергеевич долго учил советскую интеллигенцию уму-разуму. В своем заключительном слове он произнес знаменательные слова:
– Ну вот, – сказал он, – мы вас тут, конечно, послушали, поговорили, но решать-то будет кто? Решать в нашей стране должен народ. А народ – это кто? Это партия. А партия – кто? Это мы. Мы – партия. Значит, мы и будем решать. Я вот буду решать. Понятно?
– Понятно, – пронеслось по залу.
– И вот еще по-другому вам скажу. Бывает так: заспорит полковник с генералом, и полковник так убедительно все рассказывает, очень убедительно. Да. Генерал слушает, слушает и возразить вроде нечего. Надоест ему полковник, встанет он и скажет: "Ну, вот что, ты – полковник, а я – генерал. Направо кругом, марш!" И полковник повернется и пойдет – исполнять. Так вот, вы – полковники, а я, извините, – генерал. Направо кругом, марш!
Михаил Сергеевич пропустил исторический шанс переломить ход событий именно в 1988–1989 годах. Страна еще была оккупирована большевизмом, а действия демократии против него оставались партизанскими, огонь был хаотичным, малоприцельным, одним словом, предельно щадящим. Требовалась гражданская армия Реформации.
Демократически организованная часть общества, особенно интеллигенция, еще продолжала видеть в Горбачеве лидера общественного обновления, еще связывала с ним свои надежды. Но ответа не дождалась, ибо все руководящие номенклатурщики оставались на местах. В результате сработало правило любых верхушечных поворотов: сама власть, испугавшись крутого подъема, начала суетиться, нервничать, метаться по сторонам в поисках опоры, дабы не свалиться в политическое ущелье.
Я утверждаю, что с осени 1990 года власть катастрофически быстро уходила из рук Горбачева, и начало этому откату положили события 1988 года, когда реакция, по выражению ее лидеров, "выползла из окопов", огляделась и, видя, что Горбачев растерян, начала атаку по всей линии дырявой обороны, состоящей неизвестно из кого, из каких-то странных и разрозненных отрядов добровольцев.
Я уверен, Горбачев не один раз раскладывал политический пасьянс, пытаясь определить, куда деться королю. Но так и не решился сделать ставку на складывающуюся демократию снизу, пусть еще бестолковую, крикливую, в какой-то мере даже популистскую, но устремленную на преобразования и настроенную антибольшевистски. Не обратился за поддержкой сам и не поддержал тех, кто просил у него такой поддержки.
Вместо этого он в 1988–1990 годах усилил в своих выступлениях патерналистский, назидательный тон в отношении "подданных", не замечая, что подобный тон начинает отталкивать здоровую часть общества и от него лично, и от политики, с которой он связал свою судьбу. Я утверждаю, в это время Михаилу Сергеевичу явно отказала способность к социальной фантазии и житейской прозорливости. Политическое чутье притомилось, а притомившись, притупилось.
Так получилось, что к концу 1990 года Горбачев уже ни при каких обстоятельствах – даже откажись он публично от Перестройки и выступи с покаянием по этому поводу – не был бы принят в стан реставраторов: не то что там не было к нему доверия, там уже концентрировалась жгучая неприязнь, если не ненависть.
И все же, как мне кажется, на этом рубеже у него еще оставалась возможность связать свое будущее, будущее страны с ясно обозначенной демократической альтернативой. Ему надо было пойти на всеобщие президентские выборы, организовать две-три демократические партии и покинуть большевистский корабль.
Парадокс, Горбачев знал истинную цену многим окружавшим его людям по партии и внутрипартийному фундаментализму. Но людям из демократической среды – новым, неизвестным, иными тогда они и быть не могли – он доверял еще меньше, чем "проверенным" ортодоксам. Тут и сыграла свою роль психологическая инерция.
О его вибрирующей позиции говорят многие факты. Некоторые мои друзья из межрегиональщиков просили приходить на их заседания и собрания. Причем не требовали никаких обязательств. Они имели в виду установить через меня рабочий контакт с Горбачевым, надеясь, что об их заседаниях и решениях будет докладывать не КГБ, а близкий Горбачеву человек. Думаю, имелись у межрегиональщиков и другие соображения. Там было много достойных фигур: Андрей Сахаров, Борис Ельцин, Гавриил Попов, Анатолий Собчак. (Кстати, можно представить себе ситуацию, если бы все эти представители демократии были бы в начале 1990 года включены в Президентский совет. Многое бы случилось по-другому, чем случилось.) Горбачев, когда я проинформировал его о ситуации, не разрешил мне посещать собрания межрегиональной группы.
Кстати, вопрос об информационных докладах КГБ о работе МДГ – не столь уж рутинный, как это может показаться. Они были полны неприязни, запугиваний, обвинений и ярлыков. Как-то Горбачев спросил меня с раздражением: что там межрегиональщики, затевают какой-то новый скандал? Что они, сдурели? Я спросил своих друзей, что случилось. Оказалось, ничего. Когда я сказал об этом Горбачеву, он отмахнулся, пробурчав: "Знаю, знаю". Он успел переговорить с Анатолием Собчаком. А взъерошился он, прочитав донос КГБ.
Еще одна маленькая, но существенная деталь. Демократы из разных организаций, прежде всего из "Мемориала", привезли с Соловецких островов камень, чтобы положить его на Лубянской площади. Пригласили меня на церемонию. Но Горбачев распорядился: нет! Пошли туда Юрия Осипьяна – члена Президентского совета.
Ох уж эти мелочи – игрушки дьявола. Как они прозрачны!
В политике, как известно, мало пользы от мышления крайностями. Действуя в "серой" зоне, иногда можно достичь гораздо большего, постоянно включая рычаги сдержанности. Горбачеву это удавалось. Однако и при таком подходе иногда необходимо давать сдачи, считаясь не только со своими желаниями или нежеланиями, но и с возможными оценками твоего поведения со стороны как союзников, так и противников.
Горбачева постоянно пробовали на зуб, испытывая его прочность как руководителя. Наверное, многие помнят выступление в парламенте генерала Макашова – командующего Уральским военным округом, когда он с присущей ему наглостью советовал Верховному главнокомандующему пройти хотя бы краткосрочные курсы военного дела. Все ждали реакции Горбачева, но ее так и не последовало. Хотя она была очень нужна в то время. Я говорил об этом с Михаилом Сергеевичем. Он при мне звонил министру обороны Дмитрию Язову. Тот обещал внести кадровое предложение о Макашове в течение трех дней. Речь шла об отправке его во Вьетнам. Но все быстро затихло. И что же? Впоследствии Макашов бегал около мэрии с пистолетом, матерщиной призывал людей к восстанию, а затем заседал в парламенте по списку КПРФ, громил Перестройку, разоблачал Горбачева и поносил евреев.
Я уже писал о том, при каких обстоятельствах главный редактор "Советской России", газеты ЦК КПСС, Валентин Чикин напечатал статью Нины Андреевой против Перестройки. И что же? Чикин теперь – член парламента, продолжает редактировать одну из самых реакционных газет, а Михаил Сергеевич продолжает получать оплеухи от этой газеты.
Чикин был назначен на эту должность по настоянию тогдашнего секретаря ЦК Зимянина. Это произошло ближе к осени 1985 года. Я уже был заведующим отделом пропаганды. Попытался возразить, но ничего из этого не вышло. Мне было сказано, что Чикин находится в добрых отношениях с Горбачевым еще со старых комсомольских времен. Некоторые мои товарищи, которым я не мог не доверять, сказали мне, что, работая в "Комсомольской правде", Чикин не отличался политическим зубодерством. Вспоминали, что он порой очень нервничал из-за своих личных дел, что задавлен бытовыми и семейными невзгодами. А так, мол, нормальный.
Далее. Геннадий Зюганов публикует в газете "Советская Россия" от 7 мая 1991 года статью "Архитектор у развалин". Горбачев даже не пожурил Зюганова за выступление, направленное против решений Политбюро, пленумов и съездов партии. Теперь Зюганов возглавляет компартию, пытается перестроить ее, то есть по-мичурински вывести из огурца апельсин.
Заместитель Михаила Сергеевича по Совету обороны Бакланов вместе с редактором газеты "День" Прохановым публично (на страницах газеты) обсуждают проблему разоружения, практически отвергая политику соглашений с США о сокращении ядерных и обычных вооружений, одобренную Политбюро. Михаил Сергеевич опять промолчал. Когда его внимание обратили на этот факт, он не нашел ничего лучшего, чем сказать, что Бакланов – порядочный человек. Ничего себе!
Я думаю, в России еще не забыли нашумевшее "Слово к народу", явившееся по сути идеологической программой августовских мятежников. Оно было опубликовано в той же "Советской России" 23 июля 1991 года. Письмо предельно демагогическое, представляет собой набор злобных пассажей, претендующих на "высокую публицистику", на отчаянные стоны души. По форме "Слово" – достаточно пошлое сочинение, но точно рассчитанное на возбуждение инстинктов толпы.
«Очнемся, опомнимся, встанем и стар, и млад за страну. Скажем „Нет!“ губителям и захватчикам. Положим предел нашему отступлению на последнем рубеже сопротивления. Мы начинаем всенародное движение, призывая в наши ряды тех, кто распознал страшную напасть, случившуюся со страной».
Коротка память во злобе у зовущих на баррикады. Уже забыто в горячке, что за такое «Слово» еще недавно расстреляли бы к утру следующего дня. А они жалуются, что их «отлучают от прошлого». Какого прошлого? Расстрельного? Лагерного? Письмо подписали: Юрий Бондарев, Юрий Блохин, Валентин Варенников, Эдуард Володин, Борис Громов, Геннадий Зюганов, Людмила Зыкина, Вячеслав Клыков, Александр Проханов, Валентин Распутин, Василий Стародубцев, Александр Тизяков.
Надлежащей реакции власти не последовало. Как будто все это звучало не призывом к насилию и погромам, а капустником на вечеринке.
Те, кто теперь обвиняют Горбачева в авантюризме, связанном с Перестройкой, ошибаются: чего-чего, а авантюризма в его характере не было ни грана. Это хорошо. Но, как это ни странно, человек, стоявший у начала процесса, связанного с историческим риском, был совершенно не расположен рисковать в вопросах куда менее сложных. Свалить дуб, то есть абсолютную диктатуру, решился, а вот сучки обрубить и листья сжечь испугался.
Боязнь чего-то худшего даже тогда, когда для этого не было достаточно серьезных оснований, лишь усиливала у него постоянное стремление к перестраховке, желание "потянуть" с действиями и решениями, не раздражать лишний раз тех, от кого, как ему казалось (и как ему, не сомневаюсь, внушали), зависело сохранение порядка в государстве в случае выхода на улицу "опасных" и "непредсказуемых" демократов, готовых вроде бы даже Кремль штурмовать.
Характерный пример. Во время мартовского (1991 г.) противостояния, когда демонстранты, требовавшие продолжения реформ, оказались лицом к лицу с солдатами, Горбачев волновался как никогда, "сидел" на телефоне, собирая информацию. Мне он звонил в тот день несколько раз, невзирая на возникшую прохладу в отношениях. Я чувствовал его растерянность. Во время одного из таких звонков он сказал: поступила информация, что демократы готовят захват Кремля и что для этого где-то изготавливаются крючья с веревками (ох уж эти крючковские штучки!).
Можно было принять это за дурной розыгрыш, но Михаил Сергеевич был серьезен. Он попросил меня позвонить мэру Москвы Попову и сказать ему об этой информации. Попов рассмеялся: "Что там у этих информаторов, крыша поехала? Хоть бы адресок дали, где крючки делают, да и с веревками у нас дефицит".
Я сообщил об этой реакции Горбачеву, а еще добавил, что лично я боюсь прямого столкновения армейских подразделений с мирным населением. Кто-то может выстрелить и спровоцировать бойню.
– Этот кто-то и будет отвечать, – сказал Михаил Сергеевич.
– Согласен, но как потом хоронить будем? Вся Москва выйдет на улицы. И понятно, с какими лозунгами.
Михаил Сергеевич некоторое время молчал, а затем сказал: "Я сейчас позвоню Язову и Крючкову, напомню, что они понесут личную ответственность, если это "противостояние" окажется трагическим". Думаю, что это предупреждение Горбачева все-таки сорвало запланированную спецслужбами провокацию.
Или взять вильнюсские события января 1991 года. О них я узнал из выступления Егора Яковлева в Доме кино, где отмечался юбилей "Московских новостей". Информация ошеломила людей. На другой день утром ко мне в кабинет в Кремле пришли Вадим Бакатин, Евгений Примаков, Виталий Игнатенко с вечным русским вопросом: что делать?
Настроение было препоганое. Долго судили-рядили, пытаясь поточнее оценить ситуацию, найти выход из положения. Нервничали. Наконец коллегия "заговорщиков" поручила мне пойти к Михаилу Сергеевичу и предложить ему немедленно вылететь в Вильнюс, дать острую оценку случившемуся и создать независимую комиссию по расследованию этой авантюры.
Горбачев выслушал меня, поразмышлял и… согласился, добавив, что вылетит завтра утром. Попросил меня связаться с Ландсбергисом и спросить его мнение. Я позвонил в Вильнюс, Ландсбергис поддержал идею. Договорились о том, где Горбачев будет выступать. За подготовку речей взялся Игнатенко. Он был в то время пресс-секретарем Горбачева.
Однако утром ничего не произошло. Мы снова собрались в том же составе. Идти к Горбачеву я отказался. Попросили Игнатенко взять эту миссию на себя, найти какой-то повод для встречи с Михаилом Сергеевичем. С нетерпением ждали его возвращения. Наконец он вернулся с понурой головой и сообщил, что поездки не будет и пресс-конференции в Москве тоже не будет. Почему? Крючков отговорил, заявив, что не может обеспечить безопасность Президента в Вильнюсе. Само собой разумеется, что Крючков "не мог гарантировать", он-то лучше других знал, что на самом деле произошло в Вильнюсе.
Мы поохали-поахали и разошлись. Я от расстройства уехал в больницу, а перед этим дал интервью, в котором сказал, что случившееся в Вильнюсе – не только трагедия Литвы, а всей страны. Добавил, что не верю в местное происхождение стрельбы. С тех пор и попал под особенно тяжелую лапу КГБ. В конце концов Крючкову удалось отодвинуть меня от Горбачева. В откровенно наглом плане все началось с Вильнюса, до этого малость стеснялись.
Авантюра провалилась, Крючков струхнул, он понимал, что Горбачев мог организовать настоящее расследование. Вот когда надо было с треском снять Крючкова с работы. Это было бы реальное сотворение истории. Горбачев на это не пошел, что и вдохновило всю эту рвань на подготовку августовского мятежа.
Через пару дней мне в больницу позвонил Примаков и сказал, что Михаил Сергеевич наконец-то принял решение о проведении пресс-конференции и просит меня приехать на нее. Это было в 20-х числах января. Евгений Максимович добавил, что лично он советует приехать, Горбачев выглядит растерянным и чувствует себя совершенно одиноким. Я поехал.
Содержание выступления было нормальным, но, как говорят, дорого яичко ко Христову дню. Слова Горбачева не смогли убедить собравшихся, ибо запоздали. Общественное мнение было уже сформировано. Президент оказался в серьезном проигрыше. Более того, в зале витало подозрение, что Михаил Сергеевич знал о замышлявшейся провокации. Уверен, что эта дезинформация была запущена специально.
Так всегда бывает на крутых поворотах истории, когда поведению лидера недостает определенности. Михаил Сергеевич так и не смог понять, что ситуация после Вильнюса резко изменилась. Она требовала решительных действий по многим, если не по всем, направлениям. События за окнами Кремля понеслись буквально вскачь, а в делах не произошло принципиальных изменений. Появилась возможность пойти вперед широким шагом, а вместо этого – топтание на месте. Перестройка уперлась в бетонную стену партгосаппарата и силовых структур. Разрушение этой стены Горбачев все время откладывал, дождавшись того, что КГБ и его высокопоставленная агентура в партии сами пошли на мятеж и устранили Горбачева от власти.
Михаил Сергеевич так и не смог проникнуть в суть новой ситуации, понять ее и оценить стратегически. В это время только кардинальные решения с открытой опорой на демократические силы могли спасти положение. Вместо этого Горбачев, будучи в Белоруссии, обрушился на демократов, повторив ярлык политических зубодеров: "так называемые демократы". Я до сих пор не знаю, кто готовил ему эту речь. Своим выступлением в Минске он проделал большую дырку почти в последней шлюпке Перестройки.
И тут все чаще и сильнее стали заявлять о себе иные, не лучшие особенности Михаила Сергеевича. Прежде всего отсутствие у него бойцовских качеств. Они ему особенно требовались с сентября 1990 года и до декабря 1991 года, когда, в сущности, решалась дальнейшая судьба страны и Перестройки. Однако нет худа без добра: обладай он такими качествами, да еще сильно обостренными, возможно, "югославский сценарий" называли бы сейчас "советским". Впрочем, кто его знает.
Обидно, что после Вильнюса начался заметный откат наиболее талантливой и честной интеллигенции от Горбачева. На смену, кривляясь и подхалимничая, потянулась всякая шелупонь, которая сейчас, что вполне логично, находится среди тех, кто вешает на Горбачева все мыслимые и немыслимые прегрешения. Вот так и бывает: ряженые друзья – первые предатели.