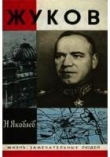Текст книги "Омут памяти"
Автор книги: Александр Яковлев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 45 страниц)
Моих школьных учителей уже нет, кроме одного. Одни погибли на фронте, другие умерли. Классным руководителем был у нас Густав Фридрихович Шпетер. Немец, живет в Ярославле. В 1941 году его сослали в Воркуту, как немца. Должен сказать, что именно он умело и настойчиво учил нас любви к Родине.
Доброта школ, всех трех, в которых я учился, как бы умножалась на доброту, которая была в нашей семье. Как я уже писал, отец меня никогда не бил. Мама, правда, рассказывала, что когда я был совсем малышом (мне было четыре года), вернулся однажды из леса нагишом. Это было весной, прыгали через бочаги на ручье, все штанишки с рубашками вымочили, зажгли теплину и развесили наше бельишко на сучки сушиться, а сами голыми стали вокруг костра резвиться. Так случилось, что вся наша одежда сгорела. И мы поплелись к своим родителям голышами, крались задворками. Мать потом рассказывала, что отец ладошкой поддал мне по голой заднице, завернул в полушубок, положил в телегу, я уснул и так проспал до следующего утра.
Отец-то не бил, а вот от матери иногда доставалось, правда, в мягком варианте – вдоль спины полотенцем. Надо за водой сходить на колодец или курам картошку потяпать, а я книжку читаю. Ну и приходилось маме прибегать к полотенцу.
Школу окончил в трагическом 1941 году. Выпускной вечер, речи, поздравления. Вечер в фабричном клубе, который потом сгорел. Меня тоже заставили выступить и сказать благодарственные слова учителям. Мы еще не знали, что нас ждет война. Но понимали: закончилось какое-то светлое-светлое время, которое нас ласкало только любовью, добром, первыми увлечениями и розовыми фантазиями, в голове гулял ветер, душа горела огнем молодости, глаза светились надеждами.
Не ведал и не гадал я, что через какое-то время мне придется непосредственно заниматься моей школой. Ее здание ветшало из года в год. Надо было что-то делать. Когда я стал заведовать Отделом школ и вузов обкома партии, мне удалось «пробить» финансирование строительства новой школы. Бывая в родных краях, захожу обычно в свою классную комнату в старом здании, в которой до сих пор живут ангелы моей юности. Позднее я помог оборудовать компьютерный класс. Мы, выпускники 1941 года, собирались в нашей школе, чтобы чайку попить, былое вспомнить да наши песни спеть, песни крылатой юности. В сентябре 2000 года школа отпраздновала свое столетие.
То, что мы потом узнали о том времени, тогда нас мало касалось, да и маленькие мы были еще. Помню, в моей деревне арестовали конюха за то, что в ночном очень тесно ноги путал лошадям, они, мол, стирали лодыжки. Вредительство. В деревне все молчали – власть, она и есть власть, ей виднее. Конюх домой не вернулся, сгинул. В семилетней школе арестовали учителя Алексея Ивановича Цоя, как говорили, за «оскорбительное отношение к вождю». Дело в том, что учитель, будучи в туалете, вырвал из газетки, которую взял с собой по надобности, портрет Сталина и прилепил его к стенке, как бы из уважения. Кто-то донес. Использовал бы по назначению, остался бы невредим.
В гражданскую войну отец мой служил в Красной армии, в коннице. Надо же так случиться, что его тогдашний командир взвода Новиков стал военкомом в нашем Ярославском районе. Часто заезжал к нам на огонек, по рюмочке с отцом выпить да вспомнить былые походы. У нас, мальчишек, осталась о нем очень хорошая память. Объезжая деревни верхом на лошади, он часто с нами разговаривал, заставлял колхозных начальников создавать подростковые пожарные команды, чтобы нас, мальчишек, занять каким-то делом.
Однажды он постучав в наше окошко кнутовищем, мама была дома. Сказал ей:
– Агафья, передай хозяину, что завтра будет совещание в Ярославле. Пусть едет немедленно.
Как только отец вернулся, мама все ему сказала. Он заставил ее точно вспомнить все слова, которые сказал военком. Я все это слушал без особого интереса, кроме чисто мальчишеского, не понимая, о чем идет речь. Папа тут же собрался, что-то взял с собой и ушел в ночь.
Что он сказал матери, не знаю. Ночью к нам постучали. Я спал. Сквозь сон что-то слышал, какие-то разговоры, мама утром сказала: отца спрашивали. На вторую ночь тоже пришли. То же самое. Потом все закончилось. Никто больше не приходил. А через пару дней снова приехал Новиков, стучит в окошко:
– Агаша, где хозяин-то?
– Ты же сам сказал, что в Ярославле на совещании.
– Так оно уже закончилось.
И уехал.
Мать тут же позвала меня и велела бежать в деревню Кондратово, там жила моя тетка с мужем – Егорычевы. Я, конечно, побежал с удовольствием, в этой деревне жили мои двоюродные братья.
На реке перевозчик – маленький, горбатый человек. Заплатил копейку за перевоз и побежал к папе. Вот, мол, так и так. Он немедленно собрался, и мы пошли домой. А вот в соседней деревне Василево арестовали бригадира колхоза Бутырина. Он пропал. По деревням пошел разговор, что арестован за то, что обесценил трудодни, построив силосную башню – первую в районе.
Через три дня после выпускного вечера грянула война. Мои друзья стали подавать заявления в военные училища. Я тоже. В Высшее военно-морское училище имени Фрунзе. Но когда меня вызвали на экзамены, я не поехал. Без всякой похвальбы говорю, да и хвастаться тут нечем, мне по-мальчишески хотелось на фронт, хотя не было еще и восемнадцати. Миша Казанцев, мой приятель, поехал в это училище и окончил его уже к концу войны, стал штурманом, а затем командиром подводной лодки. Будучи потом в Приморье, я побывал на его лодке. Ощущение было жуткое: как будто железное чудовище проглотило людей и медленно, с хрустом пережевывает и переваривает их в своем чреве.
Меня призвали 6 августа 1941 года. Взяли первым в классе. Собрались друзья, только ребята. Гриша Холопов играл на баяне. Мы пели песни. Гимном прощания была песня: «В далекий край товарищ улетает, за ним родные ветры полетят. Любимый город в синей дымке тает – знакомый дом, зеленый сад да нежный взгляд». Никакого бурного веселья, грустили. Уговаривали себя, что все будет в порядке, быстренько набьем морду фрицу – и домой. Все ждали повесток и гадали, кого и куда пошлют. Мама приносила нам закуску – картошку с огурцами и капустой да еще чего-то. Мы пели, а мама уходила на кухню и плакала.
На другой день папа с мамой поехали меня провожать. Сбор в Ярославле, в клубе «Гигант». Лето. Тепло. Еще свободно продавали фрукты и вино. Папа купил бутылку вина. Мама снова плакала. Отец был сдержан и печален. Говорил мало. Через две недели его тоже забрали в армию. Он вернулся домой только осенью 1945 года.
Наутро все мы, новобранцы, пошли на станцию Всполье, на тротуарах люди, машут. руками, кто-то плачет. Поехали на восток. Довезли нас до станции Пермь. Сутки жили в школе, спали на полу. А на другие сутки отправлялись пешком в лагерь Бершеть, в 30-й запасной артиллерийский полк. Гаубицы на конной тяге, за каждым из нас закрепили по лошади, ее надо было каждое утро чистить, потом выгуливать. Учили нас верховой езде. Мне было легче других, все мое детство и юность связаны с лошадьми. Я умел ездить верхом, запрягать, любил купать лошадей – эта обязанность лежала на мне.
В лагере Бершеть мы пробыли месяца три. Ходили еще в домашней одежде, она разлезлась, порвалась. Наступила холодная осень, мы нещадно мерзли. Помню бурное комсомольское собрание, собрал его представитель штаба округа. Практически все были комсомольцами, причем уровень образования для того времени был высоким, все с десятилеткой, много студентов московских вузов, потом их отозвали обратно, поскольку они учились на факультетах, связанных с оборонной промышленностью. Копали какие-то канавы, потом оказалось, что строили канализацию для командира полка. Все, чем мы занимались, и вскрылось на собрании.
Ребята говорили о том, что мы ни разу не стреляли, что до сих пор разуты и раздеты. Копаем землю. Кто-то из местных «полководцев» пытался прикрикнуть на нас, но представитель из округа его резко осадил. Мы почувствовали себя героями. Взбодрились и осмелели.
Наш помкомвзвода взял привычку брать бачок с супом себе одному, а остальные делили на весь взвод. Как поступить с этим «жуком», не ведали. Но однажды пришла идея проучить его в бане. Когда пар загустел, мы отошли в одну сторону, а баня большая, солдатская, и начали плескать горячей водой в другую, где остался помкомвзвода. Он закричал, стал по стенке добираться до дверей и так голым в казарму и побежал. Начали разбирательство, это, мол, хулиганство, нападение на командира. Но ничего не вышло. Того парня сняли с помкомвзвода.
Вскоре после собрания нас обули и одели, а старую одежду велели отправить домой. Потом мама рассказывала мне, что она долго горевала, глядя на рваные брюки и пиджак да на ботинки, перевязанные проволокой. Из пиджака удалось все-таки сестренкам пальто сшить.
Как только мы приобрели солдатский вид, нагрянула новая комиссия. Снова расписывают по родам войск и по училищам. Меня, как и перед армией, записали в танковые войска и даже сказали, в какое училище поеду – в Челябинск. Опять пешедралом в Пермь. Оттуда на поезде дальше. Куда едем, никто не знает. Кормят селедкой с хлебом. В конце концов остановились мы на станции Глазов в Удмуртии. Нам объявили, что приехали к месту назначения, все зачислены курсантами Второго ленинградского стрелково-пулеметного училища, эвакуированного из Ленинграда. Надежды будущих летчиков, танкистов, артиллеристов рухнули. Началась курсантская жизнь. Тяжелая, изнурительная. За три – три с половиной месяца надо было сделать из нас командиров взводов.
Воспоминаний не так уж много. В 6 утра подъем, в 11 вечера отбой, холод неимоверный – доходил до 42 градусов, а мы в кирзовых сапогах да в поношенных брюках и гимнастерках. Хорошо, что мама прислала мне шерстяные носки и варежки, сама их связала. Как-то спасался. Но все равно застудил ноги, особенно большие пальцы. До сих пор мерзнут моментально. Северный человек, а морозов теперь боюсь.
Однажды пошли на учения – батальон в наступлении, батальон в обороне. Наш взвод оказался в обороне, надо было в снегу отрыть окопы и ждать наступления. Те, кто был в наступлении, хотя бы двигались, а мы ждали, отплясывая чечетку. Командир взвода был призван в армию из гражданских инженеров, приличный человек. Он обратился к заместителю начальника училища по учебной части, что, мол, нельзя так, курсанты ноги отморозят. Тот оказался идиотом. Короче говоря, больше десяти человек ноги отморозили. Им сделали операции, они так и не попали на фронт. Ну а заместителя начальника училища отдали под суд.
У меня учеба шла хорошо, особенно по топографии и стрельбе. На фронте пригодилось.
Хочу на минутку уйти из тех времен, чтобы рассказать о том, как я снова побывал в Глазове уже на исходе XX столетия. Давно собирался, но все дела да случаи. Наконец выбрал время. Был в некотором смятении. Во-первых, прошло почти 60 лет с тех пор, как я учился там. Во-вторых, ежился от мысли, а как-то встретят меня. Власть в тех местах коммунистическая, а я как бы ее разрушитель.
Но все мои опасения рухнули, как подмытый берег реки. Городские власти собрали фронтовиков, в том числе и оставшихся в живых курсантов училища. Устроили обед. Шутили, вспоминали, произносили тосты. Это была встреча, отразившая великое фронтовое братство и все, что прожито и пережито вместе. Политика убежала куда-то далеко-далеко и спряталась в вонючей мусорной яме. Никому и в голову не пришло заговорить о ней. А портреты бывших «вождей» и лозунги о «вечно живом учении» показались невообразимо мелкими прыщиками в вихре ликующих человеческих чувств единения и братства.
А теперь снова к юности. Кто в шестнадцать – семнадцать – восемнадцать лет не пишет стихи? Стихи о первой любви, о первых восторгах и открытиях, о первых разочарованиях и обидах. Я и сам написал их порядочно, но мало что сохранилось. Однажды демонстративно сжег тетрадку со стихами, о чем, конечно, сегодня жалею. Тогда мне надо было доказать своей будущей жене, что у меня в жизни другой любви нет и не будет: «Я злой на себя – угрюмый и едкий.//Ты – радость веселья с улыбкой огня.//Не зная того, ты была сердцеедкой//И вместе богиней была для меня».
Вспоминаю и некоторые другие свои стихи. Они наивны. Сегодня это понимаю. Но что поделаешь? В поэты не собирался, но всегда, в часы грусти или восторга, что-то писал для себя. Не буду утомлять читателей своими стихами. Это юность. Она действительно велика и прелестна, печальна и радостна.
Учеба закончилась. 2 февраля 1942 года нас построили и объявили о присвоении званий. Мне дали лейтенанта, поскольку хорошо учился. Большинству – младших лейтенантов и даже старших сержантов. Направили меня на станцию Вурмары, в Чувашию, где ждал меня взвод, состоящий в основном из пожилых людей, плохо знающих русский язык, никогда не служивших в армии. Я должен был их за две недели обучить стрельбе и каким-то военным премудростям. Но стрелять было нечем. Оставались только разные глупости: взвод в наступлении, взвод в обороне, ползать по-пластунски. Кстати, замечу, что и в училище большая часть времени была потрачена впустую. На фронте потребовались только стрельба да еще ходьба по азимуту. Например, наш старшина каждый день учил нас разбирать и собирать замок станкового пулемета «Максим» с закрытыми глазами. Ничего подобного на фронте не потребовалось. Некогда было «разбирать и собирать».
За две-три недели я должен обучить солдатскому ремеслу людей, с трудом читающих и пишущих. Я не понимал, как можно за столь короткий срок научить неграмотных людей воевать, о чем и сам-то не имел ни малейшего представления. Но что поделаешь, вскоре со своим взводом я поехал на фронт, совершенно не представляя, что там буду делать, как буду воевать. Уже тогда, в свои восемнадцать лет, я понял, что везу на фронт пушечное мясо. Да и все мои товарищи, молодые офицеры, говорили то же самое. Подлинная трагедия той войны…
Ехали мы медленно, навстречу шли поезда с ранеными, нас обгоняли составы со снарядами, пушками. Но все-таки двигались. И вдруг остановились на станции Муром. Ждем. Спим. На третью ночь нас разбудили, велено было построиться на перроне. Офицеров стали вызывать поодиночке в вокзальное помещение. Там сидели трое – полковник, потом человек в морской форме, я звание не разглядел, и человек в гражданском. Обычные вопросы: кто, откуда, как и что?
Через два-три часа снова выстраивают и оглашают фамилии двадцати – двадцати пяти человек. Среди них оказался и я. Снова приглашают в станционное помещение и объявляют, что мы направляемся в распоряжение командования Балтийского флота. Мы ничего не поняли, ведь Ленинград был в окружении. Балтийский флот как бы не существовал. Но раз так, значит, так. Нам выдали проездные документы, талоны на еду, и мы поехали в другом направлении – к Волхову.
Первая встреча с войной была ужасной. Мы увидели замороженных немецких солдат и офицеров, расставленных вдоль дороги в различных позах, в том числе и в достаточно неприличных. Они погибли под Тихвином. Поезд замедлил ход, над эшелоном взорвался хохот. Я тоже смеялся, а потом стало не по себе. Ведь люди же! Мертвые люди.
В Волхове постоянно бомбили мост и станцию. Мы тоже попали под бомбежку, но все обошлось. Из писем знал, что в Волхове лежит в госпитале мой отец. Побежал искать. Нашел. Там поискали фамилию и сказали, что отец на днях отправлен в Свердловск. Я был расстроен, но и рад. Все-таки папа уехал подальше от фронта.
Наконец остановились на маленькой станции. Дальше пути были разобраны. Мы потопали по лесной дороге, по заснеженному деревянному настилу. По пути время от времени от нас откалывались группы солдат и офицеров, направленных в другие части. Шли долго, наверное, часов шесть – восемь.
Приближался гул фронта. Фронтовики это знают, фронт как бы гудит, и чем ближе к линии фронта, тем ярче свет ракет и незатухающее зарево стрельбы. В конце концов прибыли к месту назначения. Нам сказали, что находимся в расположении Шестой отдельной бригады морской пехоты. Построили. К нам вышел капитан первого ранга. Представился. Это был Петр Ксенз, комиссар бригады, небольшого роста, плотного сложения, как бы квадратный. Посмотрел на нас, и первой его командой было: «Сопли утереть!» Все механически махнули у себя под носами рукавами шинелей. Было холодно и промозгло. Такой же холод, как в Удмуртии или Чувашии, но сырой.
Я попал в роту автоматчиков, командиром третьего взвода. Рота занималась ближней разведкой в тылу противника. Началась моя военная пора. Не знаю, что и писать о ней. Стреляли, ходили в атаки. Ползали по болотам. Пытались, иногда это удавалось, пробираться к немцам. У них оборона была тоже прозрачная. Все-таки болота.
Война как война. Эпизодов разных много, но все они похожи друг на друга. Привыкаешь к смерти, но не веришь, что и за тобой она ходит неотступно. Потом Бродский напишет: «Смерть – это то, что бывает с другими». Стервенеешь, дуреешь и дичаешь.
Да тут еще началось таяние снегов. Предыдущей осенью и в начале зимы в этих местах были жесточайшие бои. Стали вытаивать молодые ребята, вроде бы ничем и не тронутые, вот-вот встанут с земли, улыбнутся и заговорят. Они были мертвы, но не знали об этом. «Мертвым не больно», как скажет Василь Быков. Мы похоронили их. Без документов. Перед боем, как известно, надо было сдавать документы, а жетонов с номерами тогда еще не было. Не знаю, как они считались потом: то ли погибшими, то ли пропавшими без вести, то ли пленными.
Кружилась голова. Представил себя лежащим под снегом целую зиму. И никто обо мне ничего не знает. И никому до тебя нет никакого дела, кроме матери, которая всю жизнь будет ждать вес-точку от сына. Безумие войны, безумие правителей, безумие убийц.
До этого случая все было как-то по-другому, мы стреляли, они стреляли. Охотились на людей, в том числе и я, на передовой со снайперской винтовкой. А тут война повернулась молодым мертвым лицом. Это было страшно. Думаю, что именно этот удар взорвал мою голову – с тех пор я ненавижу любую войну и убийства. И пишу уже другие стихи. «Зеленый гроб за жизнью тащится, зеленый гроб, зеленый гроб…» И так далее.
Что еще вспомнить?
Мне было особенно трудно: я не флотский человек, а «презренная пехота». А в бригаде было два батальона балтийцев, один – черноморцев. Очень медленно признают в тебе старшего. Любят разыгрывать друг друга, в домино играть, деревяшки делали сами. Что-нибудь соорудят вроде стола, где можно деревяшками постучать. Однажды и меня пригласили, как бы проверить на «вшивость». В игре все равны. Сходишь не так – жди обидных слов. Мазила, салага. А я был молод, горяч и глуп. Однажды не выдержал этих подначек, встал, бросил деревяшки и ушел в землянку. Ко мне заглянул повар Павловский – он был старше всех, мы его звали отцом, ему было уже 42 года. «Ты зря, лейтенант, ребята хорошие». Но я-то понимал обстановку. Все мои подчиненные старше меня, уже отслужили 3–4 года, видел, что смотрят на меня с этакой ехидной улыбочкой. Ну и ладно.
Потом все наладилось. Однажды вызывают меня в штаб бригады в особый отдел, в сторонке – молодая женщина. Отберите, говорят, людей понадежнее, сколько хотите. Вот ее надо довести до Новгорода, оставить там на кладбище. Она переоденется в гражданское, а военную форму принесете обратно. Вопросов не задавать. Пригрозили: если не выполните приказ, лучше не возвращайтесь, а стреляйтесь там.
Мы повели эту загадочную женщину в Новгород. Шли ночами, днем отдыхали, промеривали по карте дальнейший путь, мне этим пришлось заниматься самому, быть как бы лоцманом в лесу.
Все прошло нормально. Довели спутницу до кладбища, она там переоделась, сказала нам контрольный пароль. Пошла в одну сторону, мы – в другую. На обратном пути заблудились. Одни говорят, надо идти прямо, другие – вправо, третьи – влево. Взял карту и компас. И сказал: пойдем вот так. Все засомневались, до единого, пытались убедить меня, что нарвемся на немцев. Пошли. Оказалось, что вернулись к линии фронта почти в том же самом месте, откуда уходили. Нас ждали. С этого момента ко мне стали относиться уже как к командиру, признали. Так получилось, случай выручил.
А в общем-то моряки – ребята крутые. Однажды пришел к нам с пополнением помкомвзвода – старший сержант, старослужащий. Выдались три дня для отдыха. Отвели нас километров на восемь от фронта. В других взводах люди стали приводить себя в порядок, а этот «развернул учебу». Ползать, бегать. Совсем обозлил ребят. А на обратном пути к землянкам еще и приказал:
– Запевай!
Все молчат, идут вразвалочку.
– Надеть противогазы!
Какие там противогазы? Давно выброшены. А сумки приспособлены для разных солдатских нужд. Тогда помкомвзвода совсем рассвирепел и скомандовал:
– Бегом!
Ребята побежали да и убежали от него.
Когда об этой истории узнали в роте, наш старшина был краток:
– Не жилец.
И верно. Через два-три дня бой. Старшего сержанта нашли с пулей в затылке.
Провоевал я недолго. Хочу сказать, что за мое время взвод сменился раза три, если не больше. Были случаи, когда из 30–35 человек возвращалось 12–15. Пленных не брали, как и немцы нас. Мы с гордостью носили клички «черные дьяволы», «черная смерть».
В военной литературе часто можно встретить утверждения, что особисты (СМЕРШ) на фронте вели себя надменно, запугивали, стращали, сочиняли доносы. Не знаю, как в других частях, но у нас особисты вели себя вполне нормально. Иногда доходило до того, что капитан, который как бы курировал нашу роту, уговаривал оставить в живых хотя бы одного пленного, за что потом приносил несколько котелков спирта. Без угроз, без приказов, без дерганья нервов.
Но бывали, конечно и дураки. Сошлюсь на пару примеров. Однажды приехал на передовую замначальника оперативного отдела бригады с заданием организовать взятие одной деревушки. Сказал, что это нужно для выравнивания линии фронта. Деревушка стояла на пригорке. На подходе к ней – поля. Послали в бой одну роту, почти вся погибла. Штабист был пьян и груб. Махал пистолетом. Вторую роту погубил. Потом сказал, что утром будет наступление батальоном, а сам ушел в землянку спать.
Я там оказался случайно. С группой ребят возвращался из-за линии фронта и застрял в землянке, где собрался комсостав батальона. Там пили, горевали. Не знали, что делать дальше. Надо же так случиться, что в это время подошло передовое подразделение из дивизии, которая направлялась на замену соседней части. Командовал группой подполковник. Заходит в землянку. Разговорились. Батальонный рассказал об обстановке. «Чертовщина какая-то, дайте я попробую», – предложил подполковник. Он еще не воевал. Горячился. Ну и решили, пока штабист трезвеет, взять деревню ночью. Командир полка, хотя это было нарушением всех порядков и уставов, взял с собой несколько человек, попросил саперов, хотя это было без нужды – бои-то на этом клочке земли уже были. Заняли деревню почти без выстрелов. Только один раненый.
Когда штабист проснулся, ему говорят: не надо атаковать, деревня взята, так-то и так-то. Как? Нарушили мой приказ! Выхватил пистолет и чуть не расстрелял подполковника. Кончилось арестом подполковника за нарушение приказа, его посадили в одну из землянок, приставив часового. Хорошо, что в это время в батальоне был представитель особого отдела, который по своей линии донес в штаб о заварухе. Оттуда пришел приказ: представителю штаба вернуться назад, подполковника освободить. «Ну и дураки же у вас тут воюют!» – бросил подполковник на прощание.
Глупостей было много. Помню свой последний бой. Грустно об этом вспоминать, хотя и орден за него получил. Надо было сделать «дырку» в обороне немцев. Отрядили для этого мой взвод и еще пехотную роту, которой командовал старший лейтенант Болотов из Свердловска. Сосредоточились с вечера. Подтянули артиллеристов, минометную батарею. Немцы были за болотцем, на расстоянии метров, наверное, ста пятидесяти. Цели были обозначены накануне.
И вдруг ранним утром от земли стал отрываться туман. А когда он поднимается, то между землей и туманом образуется прозрачное пространство, видно все, каждую травинку, каждую кочку. Мы сказали координатору этой операции – майору (накануне вечером он был пьян в стельку), что надо сейчас атаковать, немедленно начинать артиллерийскую подготовку, иначе хана. Он обложил нас матом, сказал, что будет действовать так, как было утверждено, а вы пойдете в атаку тогда, когда будет приказано. Мы уже тоже выпили свои 200 граммов и начали в его же духе «аргументировать». Все было напрасно… По плану началась артиллерийская подготовка, минометы, два орудия прямой наводки. Пошли в атаку. Больше половины людей погибли. Меня тяжело ранило. Получил четыре пули. Три в ногу, с раздроблением кости, одну в грудь, прошла рядом с сердцем. Два осколка до сих пор в легких и в ноге. Врачи говорят – закапсулировались.
Вытащили меня, четыре человека тащили, трое погибли. Потом долго – восемь километров – везли на телеге, кость о кость в перебитой ноге царапалась, что бросало меня каждый раз в беспамятство. В бригадном госпитале меня посетил комиссар Ксенз. Сказал, что подписал документы на представление к ордену Красного Знамени, а также спросил, верно ли, что мы с Болотовым имели острый разговор с майором. Написали мне потом, что майора разжаловали.
Долго везли в вагончиках узкоколейки, аж до Ладоги, а затем нас – двух офицеров – погрузили в самолет У-2. Лежал, как в гробу. Приземлились в Вологде. Отвезли в город Сокол, в эвакогоспиталь за номером 1539. Не хочу рассказывать о всех тяготах долгой госпитальной жизни. Еще в полевом госпитале я подписал согласие на ампутацию левой ноги от тазобедренного сустава, поскольку у меня началась гангрена, нога посинела… Врачи сказали, что другого выхода нет, а мне было абсолютно все равно, я равнодушно внимал всему да и редко бывал в памяти.
Выход, оказывается, был. Ногу мне спас руководитель медицинской комиссии, посетившей госпиталь как раз в момент, когда я был уже на операционном столе. Хорошо помню этот эпизод. В операционную – большую такую, из брезента – входят человек пятнадцать в белых халатах, идут от стола к столу. Дошла и до меня очередь. Старший стал смотреть мою историю болезни. «Сколько лет?» – спрашивает. «Девятнадцать», – отвечаю. Говорит: «Танцевать надо». И стал о чем-то шептаться с врачами. Я вижу, ему начали лить воду на руки. Мне на нос накинули марлю. Я начал считать, Досчитал до двадцати шести и больше ничего не помню.
Проснувшись утром, первым делом решил взглянуть на свою ногу, посмотреть, что там осталось. Но с удивлением увидел большой палец левой ноги, торчащий из гипса. Палец бледный, скорее желтый, но уже не синий. Через какое-то время входит оперировавший меня доктор. Подошел ко мне, взялся за большой палец, подергал. «Больно?» – «Нет», – говорю. «Танцевать будешь».
И пошел к другим больным. Так я остался с ногой, спасибо ему. Великий для меня доктор, армянин по национальности, оказывается, сделал мне так называемые лампасы, у меня до сих пор следы этих разрезов – большие, продольные.
В госпитале как в госпитале. Сестры стремились выйти замуж за раненых офицеров и, когда это удавалось, уезжали вместе с ними по домам. Относились к нам очень хорошо. Я помню сестричку Шурочку Симонову, которая оставалась дежурить у моей койки и по ночам. Сестер не хватало. Мне было очень плохо, вытягивали ногу, лежал все время на спине, закончилось все это дело пролежнями. Она сидела рядом и как бы стерегла мое дыхание. Потом нелепо умерла от разреза на десне, говорят, что случился болевой шок. У меня хранится ее фотография. Прекрасные девчонки, жалостливые, терпеливые. От нестерпимой боли их матерят, а они улыбаются и уговаривают: «Потерпи, миленький, потерпи, родненький».
Спустя годы пришлось работать в Завидово. Писали что-то для Брежнева. Он был тоже с нами. По окончании – обычная выпивка. Дело было перед Днем Победы. Тосты, тосты… и все, конечно, за Леонида Ильича, за «главного» фронтовика. Ему нравилось. Между тостами он рассказывал всякие случаи из фронтовой жизни. Я тоже взял слово и стал говорить о том, что всего тяжелее на фронте было не нам, мужчинам, а девчонкам, женщинам. Грязь, вши, часто и помыться негде. Лезут в пекло, чтобы раненых вытащить, а мужички тяжеленные. А от здоровых еще и отбиваться надо. Война трагична, но во сто крат она ужаснее для женщин. А теперь забываем действительных героев войны, героинь – без прикрас.
Леонид Ильич растрогался, долго молчал, а потом сказал, что надо подумать о каких-то особых мерах внимания к женщинам-фронтовичкам. Ничего потом сделано не было.
В госпитале меня навестила мама. Мы сидели с ней в ванной – больше негде. Все коридоры заняты койками. Она привезла мне сметанки, блинов да кусок мяса. Я ел, а она плакала, но и радовалась, что живым остался. С тоской смотрела на костыли, видимо, думала о моем инвалидном будущем. Заехал как-то и одноклассник лейтенант Женя Ширяев. Пиротехник, развозил боеприпасы по фронтам. Привез бутылку водки с хорошей закуской. Хорошо посидели.
Продолжали умирать люди, в том числе и в нашей палате. Вместе со мной лежал командир роты, с которым мы прорывали линию обороны немцев. Он остался без ноги. На одной из коек – Иван Белов, отец писателя-деревенщика Василия Белова.
Много ли, мало ли, плохо ли, хорошо ли мы воевали, но воевали честно. О моем последнем бое было напечатано две статьи.
Одна опубликована в газете «Красный Балтийский флот», вторая – в «Красном флоте», газете Народного Комиссариата Военно-Морского флота.
«Ударный взвод автоматчиков выходил на рубеж для атаки. Над ночным болотом курился туман, роились злые комары. Прямо перед автоматчиками громоздился зарослью и лесом небольшой остров, занятый немцами. По берегу он ощетинился частоколом проволочных заграждений. Изредка над болотом зловещим мертвым светом вспыхивала осветительная ракета. Яковлев позвал:
– Федорченко!
– Есть Федорченко.
– Отбери шесть бойцов и выходи на левый фланг. Нас прикроешь.
Через минуту группа автоматчиков во главе со старшиной 2-й статьи Федорченко скрылась в камышах.
Когда до проволочных заграждений было не больше двадцати пяти – тридцати метров, старший лейтенант Яковлев приказал взводу раскинуться в цепь.
– Со мной останься, Гавриленко. Вместе в атаку пойдем.
Плечом к плечу не в первую атаку готовились Яковлев и Гавриленко. Кровь боя сроднила их крепкой балтийской дружбой.
Прошло несколько минут, и вдруг – этого мгновения ждали все – ночную тишину разорвали орудийные залпы. Снаряды рвались в проволочных заграждениях, в ДЗОТах врага.