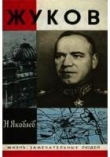Текст книги "Омут памяти"
Автор книги: Александр Яковлев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 45 страниц)
Закон и подзаконные, нормативные акты.
Закон должен иметь императивный характер… Прокуратура, призванная в принципе следить за исполнением закона, бездействует по существу. Даже министры, не говоря уже о Совете Министров, нарушают большинство законов своими предписаниями и указаниями.
Человек должен иметь уверенность в лояльном и оперативном рассмотрении его нужд, жалоб компетентными людьми и организациями. Сейчас за незаконный отказ никогда и никого не наказывают. А вот за законное разрешение наказывают. Поэтому привилась система: сначала отказать, потаи, может быть, положительно решить.
Экономические вопросы.
Создание единой саморазвивающейся основы, обеспечивающей органическое единство интересов человека, коллектива и общества.
Право на хозяйственную инициативу не только у коллективов, но и у личности. Концерны и тресты на полном хозяйственном расчете. Возможно, подумать о том, чтобы вся система обслуживания и торговли была построена на кооперативных началах. Нужен кодекс хозяйственного права, но лишь при самостоятельности контрагентов. Нужен современный КЗОТ – у нас допотопный.
Обуздать Министерство финансов, которое в погоне за сегодняшней копейкой лишает общество сотен и тысяч рублей завтра. Ликвидировать финансовый произвол.
Трансформация монополии внешней торговли, решительная интеграция с восточноевропейскими странами (как первый этап), а затем – и с Западом.
Предложения.
Как бы мы ни совершенствовали те или другие сферы, направления, части механизма, пользы лишь от совершенствования не будет. А что самое главное – не будет самодвижения, своеобразной «самоликвидации» недостатков, нет надежды, что возьмет верх здравый смысл, произойдет устранение или снижение диктатуры бюрократии.
В этих целях принять следующую принципиальную схему руководства:
1. Верховная партийная и государственная власть осуществляется Президентом СССР.
Он же является Председателем Коммунистического Союза (Союза коммунистов) СССР; председателем Объединенного Политбюро партий, входящих в Коммунистический Союз; Председателем Совета Президентов Республик.
2. Президент избирается на 10 лет на основе прямого всенародного голосования из кандидатов, выдвинутых партиями, входящими в Союз коммунистов.
3. Союз коммунистов состоит из двух партий: Социалистической и Народно-демократической. Всеобщие выборы – каждые 5 лет – сверху донизу.
Союз коммунистов имеет общий (принципиальный) Устав, а партии – более подробные Уставы.
4. Президент имеет двух вице-президентов:
по партиям – председатель КПК (дисциплинарный и согласительный орган);
по государству – председатель Комитета Народного Контроля.
Президент имеет соответствующие рабочие аппараты по национальной безопасности.
5. Правительство возглавляется Генеральным секретарем партии, победившей на всенародных выборах.
6. Вопрос о работе и функциях Верховного Совета – подлежит дополнительному продумыванию. Здесь может быть много вариантов.
Все это, вместе взятое, решит многие проблемы, которые все равно придется решать, но лучше с упреждением.
Это будет революционной перестройкой исторического характера. Пресс требований времени будет ослаблен. Такие вопросы, как активность личности, смена людей, борьба с инерцией и т. д., будут решаться без особых издержек. Политическая культура общества будет расти, а значит, и реальная стабильность.
Такова была моя программа общественных преобразований, как я их понимал в то время. Повторяю, это был конец декабря 1985 года. Реформация только еще оперялась. Власть КПСС казалась незыблемой. В преамбуле к этой записке я, конечно, писал, что предлагаемые меры приведут к укреплению социализма и партии, хотя понимал, что радикальные изменения в структуре общественных отношений приобретут собственную логику развития, предсказать которую невозможно.
Реакция Горбачева была спокойной, заинтересованной. Но он посчитал эти идеи преждевременными.
Многое, о чем говорилось в записке, постепенно входило в жизнь. И не в записке тут дело, а в самой логике преобразований, логике реформ. Конечно, в жизни все оказалось не так гладко, хотя курс на гласность, на демократизацию, на изменение политической системы стал постепенно осуществляться. В конце концов была введена и президентская форма правления. Правда, с большим опозданием. В этой же записке уже тогда я поставил под сомнение тезис о «совершенствовании социализма».
Еще раньше в марте того же 1985-го позвонил мне Михаил Сергеевич и сказал, что надо готовиться к возможным событиям на международной арене, например к встрече с Рейганом, которую тот уже предложил. Михаил Сергеевич попросил изложить мои соображения на этот счет.
Привожу текст моей записки с небольшими сокращениями.
«О РЕЙГАНЕ.
Исходные позиции – они неоднозначны.
1. Все говорит о том, что Рейган настойчиво стремится овладеть инициативой в международных делах, создать представление об Америке как стране, целеустремленно выступающей за улучшение отношений с Советским Союзом и оздоровление мирового политического климата. Он хотел бы решить ряд задач и в контексте мечты о „великом президенте-миротворце“ и „великой Америке“, хотя сейчас психологическая обстановка сложилась не в его пользу.
2. Рейган обозначил и частично выполнил планы милитаризации Америки, практически все дал военному бизнесу, что обещал, поэтому он может перейти к дипломатии на „высшем уровне“, которая в любом случае является престижным делом, поднимает политические акции, в чем сейчас Рейган нуждается.
3. Его поджимает дефицит бюджета, который грозит экономическими неурядицами. Этот дефицит надо или оправдывать внешней угрозой, либо как-то сокращать.
4. При всей внешней относительной солидарности в НАТО и среди других союзников единства нет или дно не такое уж прочное. США стараются удержаться на гребне центростремительной тенденции и всячески помешать развитию центробежной тенденции.
В этом контексте, очевидно, следует оценить и приглашение к встрече. Здесь просматривается многое: стремление замкнуть наши отношения с Западом в советско-американском русле (за своими союзниками США следят настороженно); учет антимилитаристских настроений в конгрессе и вне конгресса; желание заново прощупать советскую позицию по ключевым международным вопросам. И несомненно, что эта акция помимо ее политического назначения несет значительную пропагандистскую нагрузку. Он ничего не теряет от отказа от встречи („видите, я хотел, но…“), равно как и от провала встречи („русские, как всегда, несговорчивы“).
Иными словами, с точки зрения Рейгана, его предложение продумано, рассчитано точно, не содержит политического риска.
Вывод. Встреча с Рейганом – в национальных интересах СССР. На нее идти надо, но не поспешая. Не следует создавать впечатление, что только Рейган нажимает на кнопки мировых событий.
Цель встречи:
а) получить личное впечатление об американском лидере;
б) подать ясный сигнал, что СССР действительно готов договариваться, но на основе строгой взаимности;
в) довести до Рейгана в недвусмысленной форме, что СССР не даст манипулировать собой, не поступится своими национальными интересами;
г) надо и дальше тонко показывать, что на США свет клином не сошелся, но в то же время не упускать реальных возможностей в деле улучшения отношений с США, ибо в ближайшую четверть века США останутся сильнейшей державой в мире.
Каких-либо неожиданных изменений в американской политике принципиального характера ожидать трудно. И дело не только в антикоммунистическом догматизме Рейгана; жесткий курс США диктуется характером длительного переходного периода от абсолютного господства в капиталистическом мире к доминирующему партнерству, а затем и к относительному равенству. Болезненность этого процесса, если даже прогнозировать традиционные геополитические замашки США, очевидна; она еще будет долго сказываться на внешней политике.
Именно этот переходный период диктует нам определенную переориентировку внешней политики в плане постепенного и планомерного развития отношений с Западной Европой, Японией, Китаем.
Но это не должно вести к снижению внимания к советско-американским отношениям по существу, а, наоборот, должно усилить это внимание.
Время.
Возможно, после съезда. Лучше бы после каких-то экономических реформ, других практических намерений и достижений, демонстрирующих динамизм нашей страны. Практические действия убеждают американцев больше всего; они становятся сговорчивее.
Место.
Не в США, где-то в Европе…
12 марта 1985 года».
И без всякого роздыху началась подготовка к апрельскому пленуму ЦК КПСС. Группа разработчиков оставалась той же самой – Н. Биккенин, В. Болдин, В. Медведев и я.
Я не буду повторять содержание доклада Горбачева. Оно известно. Однако скажу, что работа над ним далась очень нелегко. Споров особых не было – Горбачев уже был хозяином. В группу постоянно шли инициативные предложения от отделов ЦК, которые еще дышали идеями тяжело больного режима. И с этим приходилось считаться. В результате родился двуликий Янус. Появилось заявление о необходимости перестройки существующего бытия, но тут же слова о строгой преемственности курса на социализм на основе динамического ускорения.
С моей точки зрения, апрельский 1985 года доклад Михаила Горбачева стал одним из серьезнейших документов исторического характера. Он давал партийно-легитимную базу для перемен, а главное – создавал возможности для альтернативных решений, для творчества.
Летом 1985 года я стал заведующим отделом пропаганды ЦК. На Политбюро утвердили дружно, особенно активно поддержал мое назначение Андрей Громыко. Теперь я мог действовать смелее, раскованнее, самостоятельнее, а не где-то на подхвате.
В это время основные усилия были сосредоточены на подготовке XXVII съезда партии. На Политбюро было решено, чтобы я возглавил рабочую группу по подготовке политического доклада. Об этом я расскажу в главе «Последний съезд», равно как и о XIX партконференции, рабочую подготовку которой мне тоже пришлось возглавлять.
К сожалению, 1986 год оказался годом невезения. Прежде всего Чернобыльская авария. Просто мистика какая-то. Горбачеву судьба подкинула Чернобыль, Ельцину – мятеж и водку, Путину – гибель подводной лодки. И все это удары по авторитету власти, столь необходимому в наше переломное время.
Я не был членом чернобыльской комиссии, но участвовал в заседаниях Политбюро и Секретариата ЦК, обсуждавшим эту трагедию. Как это ни странно, отдел пропаганды был отстранен от информации о Чернобыле. Нас по каким-то соображениям, до сих пор не ясным мне, отодвинули в сторону. Видимо, были какие-то детали не для посторонних ушей. Информацией занимались военные в соответствующих отделах ЦК.
У меня остались в памяти острые впечатления об общей растерянности, никто не знал, что делать. Специалисты – министр Славский, президент АН СССР Александров – говорили что-то невнятное. Однажды на Политбюро между ними состоялся занятный разговор.
– Ты помнишь, Ефим, сколько рентген мы с тобой схватили на Новой Земле? И вот ничего, живем.
– Помню, конечно. Но мы тогда по литру водки оприходовали.
Обоим во время этого разговора было за восемьдесят.
На заседании Политбюро звучали иногда малосовпадающие факты и исключающие друг друга предложения. Все оправдывались, боялись сказать лишнее. Кивали друг на друга. Поехали в Чернобыль Рыжков и Лигачев. Их впечатления были очень критические, особенно что касается паникерских настроений в верхних эшелонах власти Украины и бездеятельности государственного и партийного аппаратов. По очереди туда ездили академики-атомщики Велихов и Легасов, оба получили определенную долю облучения.
Что касается информации, то уже на первом заседании Политбюро было решено регулярно информировать общественность о происходящем. На этом настаивал Горбачев. Но государственное начальство и партийные чиновники из отраслевых отделов под разными предлогами всячески препятствовали поездкам журналистов в Чернобыль. Чиновники очень медленно привыкали к гласности, к новым правилам игры.
О Чернобыльской катастрофе написано много, созданы фильмы, опубликованы десятки книг. Ничего нового добавить почти невозможно, кроме, пожалуй, одного эпизода, о котором общественность не знает. Когда обнаружилась угроза радиоактивного заражения реки Припять, то срочно начали сооружать ров на берегу реки, чтобы дождь не смывал зараженную землю в воду. В разговоре со мной министр обороны Язов проговорился, что вот пришлось направить туда подразделение солдат для земляных работ.
– А где же нашли спецкостюмы, их, как докладывают, нет? – спросил я.
– Так, без костюмов.
– Как же так можно, Дмитрий Трофимович?
– Они же солдаты, обязаны выполнять свой долг. – Таков был ответ министра.
Когда я вернулся в ЦК, то для себя выделил две главные проблемы, которые надо было решать незамедлительно, но аккуратно и последовательно. Я имею в виду гласность и свободу творчества. Именно эти проблемы всегда были первыми жертвами любых заморозков в политике. Надо было быстро закрепляться на предмостье, в темпе использовать новые реальности.
Я знаю, что острый интерес, как и неприятие, вызывает моя причастность к развитию гласности. Было бы непомерной самоуверенностью приписывать это себе, но коль посходившие с ума от потери власти «вечно вчерашние» продолжают «облаву на волков», то скажу так: да, я активно способствовал тому, чтобы живительные воды гласности утолили духовную жажду правды в обществе, продвинули человека к свободе.
Регулярно выступая в Москве перед руководителями средств массовой информации, я постоянно настаивал на том, что Перестройка, как фундамент нового политического курса, обречена на провал, если не заработает в полную силу гласность и свобода творчества. Об этом же говорил в своих выступлениях в различных аудиториях: в Перми, Душанбе, Кишиневе, Ярославле, Калуге, Санкт-Петербурге, Риге, Вильнюсе. После 1991 года участвовал в различных научных симпозиумах в университетах США, Канады, Португалии, Англии, Японии, Испании, Южной Кореи, Франции, Германии, Италии, Бельгии, Голландии, Финляндии, Польши, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Кувейта, Ирана, Израиля, Омана, Южной Африки, Египта, отстаивая эти же принципы.
О содержании этих лекций и выступлений не буду здесь рассказывать. Они опубликованы в моих книгах «Реализм – земля Перестройки», «Предисловие, обвал, послесловие», «Муки прочтения бытия». Возможно, сегодня я многое бы написал иначе, но далеко не все. Содержащиеся в них соображения отражают состояние общества между 1985 и 1990 годом, как я его понимал. Они отражают и мои личные поиски того, какими путями продвинуть Перестройку вперед.
Несколько другой характер носит моя книга «Горькая чаша. Большевизм и Реформация России», изданная в 1994 году в родном городе – Ярославле. Она является попыткой обобщить то, что произошло в стране, рассказать о невообразимо трудной дороге к свободе, по которой идет Россия. О неожиданностях, крушениях надежд и личных разочарованиях, толкающих к новым и новым размышлениям.
Гласность быстро завоевывала внимание и уважение общественного мнения. Правда о прошлом и реальностях настоящего, которая была пропитана прошлым, подавала мощные сигналы свободы, что окрыляло людей надеждой. Номенклатура быстро сообразила, что гласность копает ей политическую могилу, и начала ожесточенную борьбу против независимой информации.
В Политюро образовалось в основном три подхода к гласности.
Горбачев выступал за гласность, он понимал ее силу и последствия для системы. Но на первом этапе перестройки он отдавал приоритет информации, рассматривая ее как одну из форм развития демократии. Михаил Сергеевич достаточно регулярно собирал руководителей средств массовой информации, рассказывал о деятельности Политбюро и Секретариата, выражал, естественно, свое удовлетворение положительными статьями о Перестройке. Судя по словам и действиям, он выстроил некую логическую цепочку: информация – гласность – свобода слова. Соединить все это воедино он не решался. Был вынужден маневрировать, учитывая сопротивление аппарата партии.
Собирал подобные собрания, только в расширенном составе, и Лигачев. Он говорил, что поддерживает гласность, но такую, которая служит укреплению социалистических идеалов. Нельзя допускать, чтобы гласность вредила партии и государству. Егор Кузьмич резко осуждал тех, кто увлекается критикой прошлого. Он не скрывал, что выступает за регулируемую и дозируемую гласность.
Мои встречи с руководителями средств массовой информации были довольно частыми. Позиции, которые я защищал, сводились к нескольким положениям: пишите обо всем, но не врите. Надо исходить из того, что гласность – не дар власти, а стержень демократии. Перестаньте бегать за разрешениями, что публиковать, а что нет. Берите ответственность на себя. Я больше говорил о свободе слова, чем о гласности.
На совещания друг к другу (я имею в виду себя и Лигачева) мы не ходили. В результате в общественном сознании начало складываться представление о двух «политических краях» в партии, о возможности альтернативных взглядов даже в высшем руководстве. Наступило время, когда каждый должен был определять личные позиции. С этой точки зрения фактический раскол «наверху» имел положительное влияние на демократизацию жизни.
Так и шло. Каждый из участников совещаний брал для себя те положения, которые ему больше нравились. Кстати, в этом тоже была своя польза. Постепенно рушилось одномыслие. В газетах, журналах, на радио и телевидении нарождалась новая журналистика, новый стиль письма, на страницы изданий и в эфир все чаще прорывались свежие, смелые материалы проблемного характера.
Свободу слова я считаю главным общественным прорывом того времени. «Четвертая власть» стала потихоньку становиться реальной властью, безбоязненно информировать людей и формировать на основе свободного выбора личное мнение человека. Постепенно создавалась обстановка, когда и мне не надо было спрашивать у кого-то, как поступать в том или ином случае. Это было время особого душевного состояния, когда твои решения приносят людям удовлетворение, радость, связанные с рождением статьи, книги, фильма, что, собственно, и создает великое счастье свободы творчества.
Новыми надеждами зажила интеллигенция. Поначалу побаивалась, как бы не повторилась история с хрущевской «оттепелью». Но постепенно речи на собраниях и съездах писателей, художников, композиторов становились все более уверенными, требовательными, критика ужесточалась, а выступления в средствах массовой информации становились все определеннее и самостоятельнее.
Приведу несколько случаев, когда и мне приходилось вмешиваться. В конце марта 1986 года состоялся съезд композиторов СССР. В прессе освещался скупо. Не сразу была опубликована и речь председателя правления Союза Родиона Щедрина. Почему? Да потому, что Щедрин с трибуны съезда остро и образно говорил о наболевших проблемах творчества, о конкретных чиновных людях, мешающих этому творчеству. Речь Щедрина активно пересказывали, она обрастала слухами и вымыслами.
Газета «Советская культура» опубликовала эту речь. Номер газеты в рознице разошелся мгновенно. И тут же последовал в редакцию звонок по «вертушке». Позвонил зам. зав. отделом пропаганды ЦК Севрук. Какая, мол, необходимость выбирать для печати именно это выступление? Она отличается односторонностью и безапелляционностью суждений, высказывания Щедрина о легкой и симфонической музыке по меньшей мере спорны, не надо их противопоставлять. Много крайностей в оценках.
Когда я узнал об этом, пришлось вмешаться и утихомирить часового у ворот партийности прессы.
Другой пример. 1 ноября 1986 года газета «Советская культура» напечатала статью Юлиана Семенова на тему о личной заинтересованности человека в труде, расширении правового поля для развития инициативы и предприимчивости людей. Он сокрушался, что «мало разрешающих законов – сплошь запрещающие». А чиновники толкуют эти «запрещающие» законы по своему разумению и усмотрению. Писатель ссылался при этом на опубликованную в газете «Советская Россия» статью под названием «Властью сельского совета». В ней восторженно говорилось о том, как председатель одного сельсовета сел за руль трактора и без лишних слов снес частный дом, парники и теплицы для цветов, так как они были построены «на захваченных государственных землях».
Семенов спрашивал: «Имеет ли право председатель сельского совета ломать „Беларусью“ дом, парники, хоть и поставленные в нарушение каких-то правил и уложений?» И отвечал: «Нет, для этого существует институт судебных исполнителей…» Писатель решительно возражал против пренебрежительного отношения к частнику. «На рынке пенсионерка продает помидоры, она спину ломала, ухаживала за ними, вынесла на прилавок задолго до того, как Агропром выбросил первые партии овощей в магазины. Частник? А может, труженик?»
Напомню, что статья Юлиана была напечатана спустя восемь месяцев после XXVII съезда КПСС, на котором остро говорилось о необходимости «открыть простор для инициативы и самодеятельности каждого человека…».
В ответ Семенову «Советская Россия» вместо передовой печатает «обозрение» редакционной почты, в котором цитирует хвалебные отзывы читателей о действиях председателя сельсовета. Так, мол, им и надо, этим частникам! И далее следовало внушение газете «Советская культура»: «Приходится, к сожалению, слышать и другое. Не далее как во вчерашнем номере газеты один писатель негодует против действий коммуниста Дмитрия Куликова – получается, напрасно воюет тот с владельцами мандариновых плантаций, ведь „они не водку пьют, а трудятся в своих теплицах от зари до зари!“, Писатель даже Даля вспомнил – неверно, оказывается, у нас толкуют слово „нажива“: это всего лишь доход, получаемый с хозяйства.
Словарь Даля, продолжает „Советская Россия“, безусловно, авторитетное издание. Но для оценки владельцев черноморских хо-ромов лучше, пожалуй, обратиться к более современному источнику: „Не оставлять без применения мер воздействия ни одного факта, связанного с извлечением нетрудовых доходов. Поставить дело так, чтобы взяточники, казнокрады, мздоимцы, несуны и другие любители наживы за счет общества были окружены всеобщим презрением, знали о неотвратимости наказания за свои деяния“. Это строки из постановления ЦК КПСС „О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами“. Именно эту, и только эту позицию отстаивал председатель сельсовета Дмитрий Куликов».
Юлиан Семенов – про Фому, а «Советская Россия» – про Ерему. Сама мысль, что кто-то осмелился выступить в защиту тех, кто своим трудом стремится «много заработать», приводила в ярость сторонников произвола и блюстителей уравниловки. Писатель вел речь о том, что представители власти на местах должны блюсти закон, а не демонстрировать свое самодурство. Но как раз это и не устраивало номенклатурное сообщество.
Особенно доставалось флагманам гласности – газете «Московские новости» и журналу «Огонек». Эти два издания были постоянными «именинниками» на пленумах партии, разных собраниях, в организованных письмах «негодующих» трудящихся и судорожно державшихся за свои кресла «писательских вождей». Постоянно возникал и вопрос о снятии с работы главного редактора «Огонька» Виталия Коротича и главного редактора «Московских новостей» Егора Яковлева.
Демократическое поле завоевывалось по кусочкам, иногда с шумом, а порой и втихую, явочным порядком. Позвонил мне как-то главный редактор журнала «Дружба народов» Сергей Баруздин и сказал, что у него на столе лежит рукопись романа Анатолия Рыбакова «Дети Арбата». Он, Баруздин, не хотел бы меня втягивать в решение этого вопроса, однако нуждается в неофициальном совете. Просит прочитать роман, а затем в дружеском плане обсудить проблему публикации. У меня с Баруздиным были доверительные отношения.
Книга произвела на меня большое впечатление. Особенно тем, что в романе четко выражена попытка провести безжалостную анатомию человеческих судеб, духовной стойкости и предательств, процесса вымывания совести. Книга дышала правдой. Сам автор испытал многое: прошел и через лагеря, и через личный опыт беллетристики полуказенного характера. Я помню его книги – «Екатерину Воронину», «Водителей» и некоторые другие. В «Детях Арбата» Рыбаков рассказывал как бы о себе, но это была книга о духовном разломе общества.
Позвонил Баруздину. Сказал ему все, что думаю о книге. Причем не только комплиментарные слова. В частности, мне было трудно согласиться с эпизодами, в которых московская, еще школьная молодежь демонстративно подчеркивала свою, мягко говоря, «сексуальную свободу». Я понимал, что Москва и моя деревня – разные миры, но все же хотелось думать лучше о нравственности моего поколения.
Рыбаков потом рассказывал в одной из газет о встрече со мной и о моем замечании по поводу «сексуальной свободы». Он спросил:
– Сколько лет вам было, когда попали на фронт?
– Восемнадцать.
– Значит, вы просто не успели познать сексуальную свободу!
Сергей Баруздин попросил принять Рыбакова. Встреча состоялась через два дня. Длилась больше трех часов. Она вышла за рамки обсуждения романа. Я чувствовал, что собеседник как бы прощупывает меня, он почти не скрывал своей неприязни к власти. Он еще не мог знать, что я с ним согласен, хотя и не во всем. Но писатель «храбро бился с супостатом», защищая неприкосновенность и свободу своего «Я». На все мои осторожные замечания по книге он отвечал яростными возражениями, реагировал остро, с явным вызовом. В сущности, его волновали не мои замечания по существу, он отвергал мое право как члена Политбюро делать какие-то там замечания писателю, хотя он сам попросился на беседу и, как сказал мне Баруздин, надеялся на нее. Меня забавляли эти психологические мизансцены.
Диалог продолжался до тех пор, пока я не сказал Рыбакову, что у меня нет ни малейших намерений подвергать книгу цензуре. Больше того, готов порекомендовать цензурной организации поставить разрешительную подпись, не читая. Отвечает за книгу он, Рыбаков, а не Яковлев или цензура, причем отвечает перед читателем, а не перед партийным чиновником. Я отчетливо помню, как удивление заплясало на хмуром лице Рыбакова.
– А что вы скажете редактору журнала?
– Скажу, что вопрос о публикации решают два человека – автор и руководитель печатного органа.
В итоге мы остались, как я понял, довольными друг другом. Роман напечатали. Шуму было много, в том числе и в ЦК. Но защищать сталинские репрессии, о которых написал Рыбаков, в открытую никто не захотел. Михаил Сергеевич не сказал мне ни слова. Думаю, что его заранее подготовил Анатолий Черняев, помощник Горбачева, с которым Рыбаков тоже, насколько я знаю, вел беседы о книге.
По-моему, многие члены Политбюро были рады, что их не втянули в эту историю.
Как-то позднее Рыбаков сказал, что я возражал против обостренной критики Сталина. Видимо, его подвела память, а если и возражал, то кто-то другой. Мне бы и в голову не пришла столь пошлая мысль. Я-то лучше знаком с собственными настроениями относительно сталинизма. Впрочем, все это несущественно. Важнее другое: «Не было бы апреля 1985-го, не было бы у читателей и этого романа». Это сказал сам Анатолий Рыбаков.
В те же годы были напечатаны прекрасные книги (именно по этой причине запрещенные ранее): «Новое назначение» Александра Бека, «Белые одежды» Владимира Дудинцева, «Ночевала тучка золотая» Анатолия Приставкина. Прорыв состоялся. Журналы начали печатать произведения не только советских, но и российских авторов, живущих за рубежом. Обрели на родине своего читателя Замятин, Гумилев, Алданов и многие другие.
Нечто похожее на рыбаковскую историю случилось с кинофильмом «Покаяние». Позвонил мне Эдуард Шеварднадзе и попросил принять Тенгиза Абуладзе – автора фильма. Эдуард рассуждал в том плане, что ему (как грузину) не очень ловко защищать грузинский фильм, тем более что он, Шеварднадзе, еще будучи в Грузии, помогал Тенгизу. Эдуард прислал мне видеокассету. В тот же вечер я посмотрел ее в семейном кругу. Фильм ошеломил меня и всех моих семейных. Умен, честен, необычен по стилистике. Беспощаден и убедителен. Кувалдой и с размаху бил по системе лжи, лицемерия и насилия.
Трудность ситуации состояла в том, что фильм посмотрел не только я, но и некоторые другие секретари ЦК. Одни помалкивали, а другие были против показа этого фильма. Во время беседы с Абуладзе обсуждать по существу было нечего. Я был потрясен фильмом и не скрывал этого. Надо было сделать все возможное, чтобы выпустить его на экран. У меня возник следующий вариант: следует напечатать всего несколько пробных лент для демонстрации в 5–6 крупных городах. Я аргументировал предложение тем, что фильм сложный, его простые люди не поймут, поэтому опасаться нечего. С этим согласились. На самом же деле с председателем Комитета по кинематографии мы договорились напечатать гораздо больше копий фильма и начать его демонстрацию на периферии.
Я не мог всего этого объяснить Абуладзе. Боялся огласки, которая могла погубить задуманную операцию. Когда сказал ему о намерении напечатать несколько пробных копий, он откровенно выразил свое недовольство, говорил о том, что показ фильма имеет большое нравственное значение. Конечно же, имеет, я понимал это. Просил Абуладзе поверить мне. А он не понимал, почему должен верить, если я говорю только о каких-то пробных копиях. На том и расстались.
Фильм пошел по стране. Встречен был по-разному, где с восторгом, а где и с непониманием. В некоторых городах партийные боссы отнеслись к нему резко отрицательно, запрещали его демонстрировать, о чем и сообщали в ЦК. Михаил Сергеевич знал обо всем этом, но уклонялся от оценок. Потом, по прошествии какого-то времени, он говорил по поводу фильма самые лестные слова. Я-то думаю, что он посмотрел фильм сразу же, как только вокруг него началась возня, а может быть, и раньше.
Тенгиз Абуладзе скончался очень рано. Он был полон творческих планов, все события пропускал через сердце. Мы с ним подружились, перезванивались, а иногда и встречались.
Всего к тому времени на полках лежали десятки запрещенных фильмов. Когда стали разбираться, то оказалось, что каких-то официальных запрещающих решений на уровне ЦК и не было.
А что было?
А были телефонные звонки с дач «небожителей», устные советы, страх руководителей кинематографии, письма партийных вожаков с Украины, из Ленинграда, Свердловска, Белоруссии, то есть из тех мест, где существовали киностудии. Мне пришлось просмотреть особо спорные фильмы. Ничего антисоветского в фильмах не оказалось. Многие ленты устарели, потеряли свою актуальность. Даже лучшие из них были без всякой политической закваски. А погубили их чиновничьи интриги да еще желание выслужиться по линии бдительности.