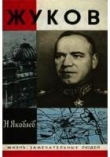Текст книги "Омут памяти"
Автор книги: Александр Яковлев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 45 страниц)
Когда ряженые патриоты, особенно из писателей, так сказать, "достали" меня ложью, я не выдержал и унизился до письма к Михаилу Сергеевичу с просьбой унять эту шпану. Говорю "унизился", ибо Горбачев и сам бы мог дать всему этому потоку грязи политическую оценку, которая была бы весьма дальновидной, но он не сделал даже попытки утихомирить политическое быдло, которое потом развернуло злобную кампанию и против него самого.
На этот раз он сказал: "Ну, давай я позвоню Бондареву". Он обожал его. Я ответил, что этого делать не надо. Ведь дело-то не только во мне. Дело-то в постепенном расширении идеологической платформы реставрации. Так потом и получилось. Подобная платформа была сформулирована и опубликована перед мятежом 1991 года под названием "Слово к народу".
Кстати, Бондарев, создав правдивые и талантливые книги о войне – "Горячий снег" и "Тишину", занял впоследствии мракобесную позицию. Почему так случилось, что писатель гуманистического направления оказался в хвосте общественного развития? К сожалению, все очень просто.
На съезде писателей, в июне 1986 года, том самом, на котором решался вопрос о руководителе Союза писателей, столкнулось несколько мнений. Прежний глава Георгий Марков не хотел оставаться на этом посту да и побаивался, что его "заголосуют". Егор Лигачев поддерживал Маркова, хотя допускал возможность и другого варианта. Возникла фамилия Бондарева, но разговоры с писателями показали, что он тоже может не пройти. Да и я сильно сомневался в способности Бондарева стать объединяющей фигурой в коллективе единоличников – коллективе сложном, непредсказуемо изменчивом в настроениях, предельно субъективном в оценках, часто претендующих на статус судебных приговоров. И очень падком на публичные признания, награды и звания.
Когда смотришь на сегодняшний парад "орденопросцев", то настроение падает до предела. Возмущались, возмущались в прошлом орденами за доблестный труд да за прожитые на благо партии и правительства долгие годы. Казалось бы, все это ушло в прошлое. Наверх вышла другая часть интеллигенции. Но грабли те же самые. И слова благодарности "в ответ на заботу" почти те же.
Кроме того, Бондареву вредило и то, что он не скрывал своего желания стать во главе Союза, будучи абсолютно уверенным, что другой фигуры просто нет. Он был переполнен чувством величия. Я лично убежден, что именно самомнение и погубило этого талантливого писателя. Да и подхалимы вовсю распевали свои лицемерные песни во славу писателя, достигшего вершин Шекспира или Шиллера. Беда с этим чувством юмора!
После долгих поисков остановились на кандидатуре Карпова, который в то время не примыкал ни к одной из группировок. Он и был избран. С тех пор Бондарев затаил на меня глубокую обиду. Кстати, у меня в библиотеке есть повесть Бондарева "Горячий снег" с его дарственной надписью и благодарностью за помощь в издании этой книги. Против ее издания выступало Главное политуправление армии и флота. Оно считало, что в "Горячем снеге" недооценивается роль старших командиров, особенно генералов, в боевых действиях. Не учел Бондарев иронические строки Твардовского, что "города сдают солдаты, генералы их берут".
Вспоминается мне и 5-й съезд кинематографистов. Шумный, острая сшибка между "аксакалами" кинематографии и молодежью. Иногда говорили по делу, чаще сводили счеты. Но одна особенность съезда преобладала над всеми другими – это стремление демократизировать обстановку в киноискусстве, освободиться от давления цензуры и всякого начальства. Я на том съезде представлял ЦК. Заранее договорились с Горбачевым, что выборы должны быть предельно демократичными.
– Итак, уважаемые делегаты, кого бы вы хотели избрать своим руководителем? – спросил я.
Молчание. Люди уже привыкли к тому, что имя "первого" произносит ЦК. Молчание затянулось. Тогда я сказал:
– А что, если Элема Климова? А может быть, кого-то другого?
Я чувствовал, что в зале повисло удивление. Элема уважали.
Молодой и смелый художник. Находился как бы в рядах духовной оппозиции.
Я почувствовал, что предложение оказалось абсолютно неожиданным. Решил помолчать, чтобы дать время на освобождение от шока.
Наконец Ролан Быков назвал Михаила Ульянова.
– Прекрасная кандидатура, – сказал я и попросил продолжить выдвижение кандидатур. Наконец люди поняли, что им предлагается действительно самим избрать себе руководителя. Встал Ульянов и отвел свою кандидатуру, сказав, что предложение Климова является очень удачным. Элема избрали, насколько я помню, единодушно. Об этом съезде еще долго гудела общественность.
Возвращаюсь снова к реакции Горбачева на чужие переживания. Геннадий Зюганов публикует статью "Архитектор у развалин", которая потом сделала ему карьеру в стане необольшевизма. Формально статья была против меня, а на самом деле ее острие было нацелено на генсека и президента. Михаил Сергеевич не произнес по этому поводу ни слова, видимо обидевшись, что слово "архитектор" было отнесено не к нему. Горбачев – обидчивый человек, а это серьезному политику противопоказано. Он так и не понял, что замысел этой статьи заключался и в том, чтобы столкнуть Горбачева со мной, что и было достигнуто.
Горбачев нередко и легко попадал под влияние. Бывало и так, что "его мнение" при решении какого-то вопроса – это мнение человека, который последним покинул его кабинет. Но гораздо опаснее было продолжительное влияние, связанное с приближением к нему одних лиц и временным или окончательным отстранением других. Это закрепляло рядом с ним людей часто не самых высоких человеческих и политических достоинств.
Кстати, он заметно тушевался перед нахрапистыми и горластыми, в то же время бывал достаточно пренебрежительным к тем, кто его активно поддерживал. Эти, мол, никуда не денутся. Так же, как однажды брякнул Ельцин: "Демократы будут за меня – а куда им деваться?" В результате кто поактивнее, уходил в оппозицию, а кто поскромнее – в никуда.
Я помню один из новогодних вечеров у Горбачева на даче. Присутствовали только члены Политбюро. Все было мило. Раиса Максимовна вела себя радушно, стараясь создать раскованную обстановку, снять вполне понятное напряжение, особенно у жен членов Политбюро, многие были тут впервые. Впрочем, мы с женой – тоже. Подошло время обеда. Оказывается, по давно заведенному порядку каждый должен был произнести тост. И сразу же потекли хвалебные всхлипы в адрес Горбачева. Одни слаще других, хотя были и сдержанные речи.
Но всех превзошел Крючков. Он испек такой сладкий пирог, что на нем уместились все великие достоинства и геркулесовы усилия Михаила Сергеевича по строительству "образцового демократического государства". Кружева плел витиевато, смотрел на всех прищуренными вороватыми глазками и нисколечко не смущался. Подняв голову от стола, я наткнулся на глаза Горбачева, в которых плясала усмешка. После обеда Михаил Сергеевич подошел ко мне и сказал: "Не обращай внимания". Но прошло не так уж много времени, и подобострастие Крючкова легко перешло в крючковатый нож в спину Горбачева.
Много написано и сказано о нерешительности Горбачева – и как человека, и особенно как политика и лидера. Это стало как бы приговором, не подлежащим обжалованию. Я часто думал об этом, вспоминая острые ситуации и мысленно взвешивая альтернативы возможных решений. Порой действительно кажется, что в каких-то случаях можно было поступать решительнее, вести себя смелее. Может быть, оно так и есть.
Но допустим, что Горбачев и в самом деле нерешителен, тогда как он мог отважиться на Перестройку и далеко идущие реформы? Может быть, не понимал, к каким последствиям могут привести затеянные перемены, с каким риском связаны попытки стронуть базальтовые стены с места, не говоря уже о военно-политических и экономических преградах еще только на пути к этим стенам? И вообще, спрашиваю себя: может ли нерешительный человек оказаться в той исторической роли, какую, начиная с 1985 года, сыграл Горбачев?
Мой ответ: да, может. Более того, после десятилетий жесточайшего террора, а потом политического безвременья только такой лидер и мог с наибольшей вероятностью успеха оказаться чемпионом в марафонском беге к вершине власти. Человека нахрапистого и бескомпромиссного толка, вслух заговорившего о необходимости серьезных перемен, Система остановила бы еще на дальних подступах к властной высоте. Любая решительность в действиях – это всегда ущемление чьих-то интересов, чьего-то самолюбия, вызов сопернику или вышестоящему руководству – если не прямой, то косвенный. Времена угодничества и приспособленчества воспитали боязнь к живым и непоседливым людям, что-то отвергающим и чего-то ищущим. Система сама стихийно, без каких-либо руководящих директив продолжала и после Сталина работать как гигантский фильтр, пропуская "наверх", как правило, людей покладистых и примерно одного умственного уровня.
Да еще спросим себя: а не сыты ли мы начальственной решительностью? Произвол, самодурство, всевозможные патологии и откровенно криминальные наклонности, вера в насилие неизменно рядились именно в одежды так называемой принципиальности, решительности, дабы твердо противостоять "внутреннему и иноземному супостату". Именно подобная установка и породила ленинско-сталинское государство, когда насилие подавляло все доброе и честное в человеке, когда, пользуясь легковерием оболваненных простаков, "вожди" целенаправленно уничтожали народы СССР – через репрессии, войны, голод.
В горбачевском случае дело было в чем-то другом, но только не в нерешительности, хотя таковая, повторяю, часто выплывала на поверхность. Существовал, как мне представляется, некий порог, перешагнуть который он не смог, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, из-за тяжелых гирь инерции, державшей его за ноги, и, во-вторых, из-за страха перед последствиями сделанного, которые он не умел просчитывать, оценивая их по преимуществу в краткосрочных измерениях. Но самое-то главное состоит в том, что он, надо отдать ему должное, хорошо понимал, что любой шаг, похожий на поведение "слона в посудной лавке идеологических догматов", явится поводом для торможения задуманных перемен.
И все же во многих случаях он напрасно боялся пересолить. Например, он любил ссылаться на поздние статьи Ленина, считал, что они дают ключ к экономической перестройке. Но не только не ввел свободную торговлю, но и подписал решение Политбюро о борьбе с нетрудовыми доходами, то есть с зачатками свободной торговли. Или другой пример. В то время стал очень злободневным вопрос о ценах на хлеб. Они были настолько низкими, что кормить скот хлебом стало гораздо выгоднее, чем заготавливать или покупать корма. Половина купленного хлеба в городах выбрасывалась на свалки. В то же время зерно закупалось за золото в США, Канаде, Европе. В своей речи в Целинограде еще в 1985 году Горбачев хотел поставить вопрос о повышении цен на хлеб. Мы с Болдиным подготовили аргументацию, выкладки, сослались на письма людей. Все звучало достаточно убедительно.
Но наутро он передумал. Кто-то внушил ему, что делать этого нельзя, ибо в памяти людей останется факт, что именно при нем были повышены цены на хлеб. Помню свое разочарование, когда не услышал этого предложения в речи Горбачева. Я лично видел в повышении цен как бы сигнал к реформе ценообразования. Вот так и шло – смелость в словах и бессмысленная осторожность на деле. Крупные намерения и мелкие решения шагали вместе, часто даже в обнимку.
Политике реформ нужны были интеллектуальное мужество, целеустремленность, умение маневрировать и проявлять тактическую гибкость, но ни на секунду не выпуская из поля зрения стратегические ориентиры, связанные с переходом общества в новое качество. Такими способностями Михаил Сергеевич обладал, но пользоваться ими в практике работы остерегался.
Он, бесспорно, человек эмоционально одаренный, во многом артистичный. У него своеобразное обаяние, особенно во время бесед в узком кругу. Эту черту отмечали многие, и не только из лести. Умел, когда хотел, заинтересованно слушать собеседника. В спокойном состоянии духа подчеркнуто благожелателен. Но одновременно культивировал дурную привычку перебивать людей, причем бесцеремонно, а также обращаться к своим коллегам и даже к полузнакомым людям, в том числе и старше себя по возрасту, на "ты". Многих ошарашивало подобное "тыканье", они воспринимали его как выражение бескультурья, а вовсе не товарищеской близости. Лично я видел в этом не барское высокомерие, как считали некоторые мои друзья, а скорее выражение неосознаваемой плебейской ущербности, как бы протестующей против собственной неполноценности.
Как я уже отмечал выше, ему присущи в принципе способность учиться, накапливать опыт, его можно было бы, по крайней мере в начале генсековской деятельности, назвать человеком житейски рассудительным. Способен без особых усилий поставить себя на место собеседника и даже, пожалуй, принять (по крайней мере, на время разговора) его точку зрения. Мог достаточно легко убеждать собеседников. Но это продолжалось лишь до тех пор, пока не появились склонность к бесконечному словоизвержению, а также глухота к собеседникам, а особенно к их советам.
Об этой опасности говорит и то, с каким легкомыслием он отнесся к моей информации о возможности авантюры со стороны экстремистов-большевиков. Об этом я предупреждал его неоднократно. В апреле 1991 года, будучи в Японии в составе делегации, которую он возглавлял, написал ему специальную записку, отдал ее Анатолию Черняеву в аэропорту при отлете делегации в Корею. Длинный разговор по общей обстановке, в том числе и по этому вопросу, состоялся у меня с Михаилом Сергеевичем в конце июля 1991 года, когда я подал заявление об отставке. И этот острый демарш не насторожил Горбачева.
Возможно, такая невосприимчивость к моим сигналам объяснялась тем, что к этому времени Крючкову, начавшему мостить дорогу к захвату власти, удалось своими доносами насторожить Горбачева в отношении меня. Я был для заговорщиков опасен, и они это понимали. Наиболее смехотворной являлась сплетня, что Яковлев является "Папой" демократического заговора интеллигенции Москвы и Ленинграда против Горбачева.
Я допускаю, что Михаил Сергеевич не верил крючковской блевотине, но тем не менее мои телефонные разговоры стали прослушиваться. Было установлено наружное наблюдение. Мою встречу с генералом Калугиным в августе 1991 года (перед мятежом) "обслуживало", как установила по документам КГБ Евгения Альбац, более 70 сотрудников контрразведки. Кстати, Олег сразу же увидел слежку и сказал мне об этом. Даже я заметил суету вокруг нас. Впрочем, это и немудрено. Топтуны вели себя демонстративно открыто.
Чем глубже мы погружались в реформы, тем больше я укреплялся в мысли, что человек с характером и психологическими особенностями Михаила Сергеевича нуждался (ради его же собственного блага) в чьей-то достаточно твердой опеке. Одаренность человека сродни образованности: чем больше у человека позитивных качеств, тем резче обозначается фронт соприкосновения с их антиподами. Хорошо тому, у кого в мозгу, что называется, одна извилина – прет, как бульдозер, твердо уверенный в своей непогрешимости, пока какая-нибудь более мощная сила не остановит его. Тот же, кто видит жизнь не только в черно-белых красках, начинает на крутых поворотах нервничать из-за недостатка информации, тянет время с принятием решений, старается выслушать разные мнения, хочет еще и еще раз все обдумать. Его обуревают сомнения, он впадает в самокопание. В таком состоянии я видел Горбачева не один раз.
Кажется, что психологические и поведенческие слабости такого человека идут от врожденного или приобретенного порока в его характере, создающего впечатление "интеллигентской мягкотелости" или какой-то трусоватости, а на самом деле они появляются именно из-за разносторонности человека и заложенных в нем возможностей, от трудности собрать все образующие факторы воедино и подчинить одной долговременной цели.
Читатель, если обратил внимание на мои слова о том, что Горбачеву нужен был некий "направленец", возможно, мог подумать, а не претендовал ли Яковлев на подобную роль. Решительно заявляю: нет. И по многим причинам.
Во-первых, те психологические черты, о которых я пишу, в значительной мере присущи и мне самому. Критику Горбачева я как бы пропускаю через себя, через собственные заблуждения. Я знаю, что и сам я скроен из сплошных и бесконечных, иногда надоедливых сомнений. Порой меня упрекают в излишней осторожности, но я-то знаю, что за осторожностью нередко устраивается, и довольно удобно, моя же нерешительность.
Во-вторых, когда я работал с Михаилом Сергеевичем, мне не приходила в голову идея о каком-то "дядьке" для Горбачева. Я активно поддерживал его. Моя лояльность к нему не имела благоразумных рамок. Великие цели, которые стояли перед нами, ослабляли мое зрение. Что-то порой тревожило меня, но я гнал от себя всякие сварливые мысли.
В-третьих, Михаил Сергеевич – человек, как я уже писал, обидчивый. И без того газеты писали, что он лишь озвучивает то, о чем говорит ему Яковлев. Досадно, конечно, читать такое. В конце концов он настолько обиделся, что все реже и реже стал привлекать меня к подготовке его речей и докладов. Обойдусь, мол, и без тебя. Так что в "дядьке" он нуждался, но никогда не допустил бы к себе человека с подобной функцией.
В-четвертых, он подозрителен по характеру. У меня и моих друзей вызывало недоумение то обстоятельство, что Горбачев ни разу не оставил меня вместо себя, когда был в разъездах, ни разу не поручил вести Секретариат, ни разу не назначил официальным докладчиком на ленинских или ноябрьских собраниях. В подобных ролях побывали почти все, кроме меня, хотя я и ведал идеологией. Даже на двух всесоюзных совещаниях по общественным наукам и проблемам просвещения доклады делал Егор Лигачев.
То ли Горбачев постоянно "ставил меня на место", поскольку ему внушали, что "Яковлев начал собственную игру", то ли боялся, что я наговорю в докладах чего-то лишнего. Не знаю. Мне иногда хотелось напрямую спросить Горбачева, в чем тут дело. Но я стеснялся поставить его в "неловкое положение".
Сегодня все это звучит смешно, даже вспоминать неудобно, а тогда было очень неприятно. Скажу честно, в то время я каждый раз переживал, и достаточно глубоко, воспринимая эти решения Горбачева как недоверие ко мне. Впрочем, так оно и было. Я знал, что Валерий Болдин не один раз, когда подходило время торжественных собраний, вносил меня в список возможных докладчиков, но Горбачев, как сообщал мне Болдин, всегда предпочитал других. Очень больно я воспринимал вопросы и моих друзей, и моих недругов: "Ты же учитель, а доклад по народному образованию делает инженер". Или: "Ты же член Академии наук СССР, а доклад по общественным наукам делает снова инженер. Что у вас там происходит?"
Эти вопросы для меня были как плевки.
Стоит рассказать, пожалуй, об одном эпизоде, о котором сегодня я читаю с улыбкой. Однажды у кого-то возникла идея попытаться примирить Горбачева с демократами. Собрались в этих целях шесть человек (трое – от президента, трое – от демократов). Я узнал об этом через несколько недель. А теперь ко мне попала записка, которая, видимо, и была результатом переговоров. Приведу отрывок из нее.
"Но, пожалуй, самое неприятное в нынешней ситуации то. что обостренная полемика вокруг перехода к рынку сегодня подвела общественное мнение почти к единодушному негативному отношению к правительству. Практически не встретишь человека, который верил бы в то, что оно способно не то что создать эффективный рынок, но просто уберечь страну от голода. Настрой людей таков, что, даже если бы завтра правительство представило абсолютно идеальный план действий, его встретит разгромная критика. Это печально, но факт.
Конечно, могут быть найдены какие-то оправдания. Но, Михаил Сергеевич, нельзя, мне кажется, не видеть, что правительство действительно уже не в состоянии восстановить доверие парламента и страны. В этих условиях единственно правильным, по существу спасительным решением была бы его отставка и формирование в короткий срок нового правительства, возможно с какими-то особыми полномочиями (переходное, чрезвычайное, на период стабилизации и т. д.).
Такая замена будет иметь смысл, как мне кажется, только в том случае, если будет решительно обновлен весь состав нынешнего Совета Министров с резким его омоложением. И самое главное – чтобы во главе его встал Ваш надежный соратник, способный получить кредит доверия в различных слоях общества, особенно в тех, которые сейчас наиболее активны политически.
Думаю, что таким человеком может быть Александр Николаевич Яковлев. В пользу его кандидатуры ряд очевидных аргументов. В широких политических кругах, особенно после XXVIII съезда КПСС, его воспринимают как Вашу правую руку. У него достаточно прочный авторитет во всем леводемократическом лагере, и с этой стороны ему явно будет оказана поддержка. А это означает, по крайней мере, смягчение конфликтных ситуаций с Верховным Советом России, Советами Москвы, Ленинграда и т. д. Думаю, положительно воспримет это и основная масса интеллигенции, включая прессу. Немаловажно и то, что приход такого правительства позволит использовать более широко наметившиеся благоприятные возможности для притока иностранного капитала.
Конечно, Александр Николаевич не отвечает традиционным нашим представлениям о премьере как человеке, который обязательно должен разбираться в современной технике. Однако сейчас ведь как раз на этом посту должен быть не узкий технарь, а человек с широким политическим и экономическим кругозором, способный привлечь к себе лучшие интеллектуальные силы и смело пойти на назревшую реформу экономики.
Убежден, что такое решение внесло бы новый момент в развитие обстановки, позволило бы выиграть время, необходимое для перехода к рынку и подписант Союзного договора.
Независимо от того, каким будет Ваше решение по главе правительства, честно говоря, я просто не вижу никакого иного выхода, как самая безотлагательная смена кабинета. Для этого, кстати, есть и вполне резонные объяснения: правительство не сумело выполнить данное им обещание, подвергается критике и поэтому предпочитает уступить место другому.
Я с большим уважением отношусь к Николаю Ивановичу и думаю, что он, по размышлении, воспримет это с пониманием. Более того, думаю, что это отвечает и его интересам: лучше сейчас перейти на какую-то другую хорошую работу, чем довести до того, что правительство официально получит вотум недоверия.
Прошу прощения, что вторгаюсь в сферу высшей политики, но я ведь всегда говорил Вам то, что думаю, и что, по моему глубокому убеждению, отвечает интересам перестройки".
Я уже писал, что у меня с Михаилом Сергеевичем были частые и очень откровенные разговоры на самые разные темы. В Москве, в Сочи и в Крыму во время отпусков, при поездках в разные страны. Иногда – многочасовые и в неформальной обстановке. О положении в стране, прошлом и будущем, планах и людях, об искусстве и литературе. Мало сказать, что беседы носили доверительный характер, они еще были душевными, товарищескими.
Под южным голубым небом, где-то в горах вели мы неторопливые беседы, мечтая о том, какое в будущем должно быть государство. Мирное, но сильное своим богатством, освобожденное от засилия милитаризма и экологических уродств. Мы говорили о том, что человек должен быть свободен, духовно богат, сам определять свою судьбу. И о многом другом. Мы ходили по земле, но одновременно витали в облаках. Горячие монологи были предельно искренними и одухотворенными романтикой – прекрасной и выражающей все самое возвышенное, что творилось в душе. Наши жены – Раиса Максимовна и Нина Ивановна – прогуливались обычно отдельно и старались не мешать нашим сумбурным разговорам. Они говорили о своих делах и заботах, о детях и внуках.
Итак, романтики в горах и на берегу Черного моря. Я верил в программную созидательную суть наших бесед, верил с восторгом в душе и постоянно тешил себя надеждой, что все в жизни так и будет. А когда практика в каких-то случаях оказывалась иной, я, внутренне не соглашаясь с ней, стыдился прямо сказать об этом Горбачеву, ибо, как я думал, напоминания о сказанном доверительно могли показаться предательством нашей "черноморской раскованности".
Как правило, он замечал мою раздраженную реакцию на те или иные решения или особенно замшелые выступления других членов Политбюро. И при первом же случае старался объяснить свою позицию соображениями тактического плана или просто нежеланием ввязываться в спор по пустякам. Подобная доверительность да и сам характер отношений в известной мере сковывали мою самостоятельность. Единственное, где я отводил душу, это в публичных выступлениях, в которых излагал свое видение Перестройки. Кстати, коллеги по Политбюро не раз делали мне разные замечания по поводу моих выступлений, скажем, в Перми, Душанбе, Калуге, Тбилиси, Риге, Вильнюсе, но сам Михаил Сергеевич не сказал мне ни одного слова об этих выступлениях. Ни плохого, ни хорошего.
Если вернуться к общественным наукам, то уже упомянутый случай сильно поцарапал меня. На самом деле, демонстративно, без моего участия готовится всесоюзное совещание обществоведов. Организаторы, возглавлявшие его подготовку, а это было окружение Лигачева, не сочли нужным даже посоветоваться, узнать мое мнение, ограничились пригласительным билетом. Мне бы скандал закатить, а я снова смолчал. Поборов раздражение, я пришел на это совещание задолго до его начала и увидел кривые улыбки тех, кто рьяно и громко продолжал отстаивать "чистоту" марксизма-ленинизма, громил всякие посягательства на эту "чистоту".
Вот, видишь, не тебе поручили! Делай выводы! Смысл речей один: ревизионизм наступает, марксизм сдает позиции. ЦК часто потакает ревизионистам, которые повторяют враждебные песни из-за рубежа. Мне было ясно, что серьезного разговора получиться не может. Мозги если и были, то давно увяли, а поэтому не оставалось ничего иного, как жевать воздух.
Посидев немного на совещании, я ушел. Бессмысленно молоть сгнившее зерно. Ни в коей мере не хочу преувеличивать свои возможности, но уверен, что, отстраняя меня от этого совещания, Горбачев упустил еще один шанс довести до огромной армии обществоведов, продолжающих влиять на сознание студенчества, концептуальное содержание Реформации. Одно из двух: или боялся, или не хотел.
Еще до этого совещания я выступил в Академии наук СССР с резкой критикой догматизма, что было расценено ортодоксами как посягательство на сам марксизм – по всем правилам прошлых времен. В целом выступление на этой встрече, организованное Геннадием Ягодиным, министром высшего образования, получило положительный резонанс. Хотя если посмотреть на это выступление с позиций последующих лет, то оно ничего нового собой не представляло. Но когда декларированный принцип развития был заменен борьбой "за чистоту марксизма-ленинизма", критика догматизма резала уши. Именно об этом я сказал на совещании, что и вызвало волну обсуждений, разных догадок, возражений и прочего.
Когда сегодня я рассказываю друзьям обо всех этих эпизодах, они обычно говорят: "Не переживай! Не поручив тебе официальных докладов, Горбачев фактически уберег тебя от банальной болтовни о Ленине и революции, от похвал разным достижениям и т. д." Это верно, но верно с позиций сегодняшнего дня. Мне действительно повезло в этом плане. Но тогда все это выглядело по-другому. Да и Горбачев меньше всего заботился о моей "политической девственности". Он еще и сам не знал, в чем таковая состоит. Тогда он просто играл, наслаждался маневрированием, полагая, что играет по-крупному.
А если уж совсем начистоту, то должен признаться, что я ждал от него серьезных поручений, особенно в сфере общественных наук, ибо в то время у меня накопилось немало вопросов, касающихся общественной теории, в частности, по проблемам революции, о соотношении объективного и субъективного в истории, об истоках общественных деформаций, догматическом перерождении марксизма, состоянии и развитии общественных наук на Западе и много других. Хочу, однако, повторить: несмотря ни на что, я всегда находил какие-то детские аргументы в оправдание решений Горбачева. Но, выгораживая его, я "убегал" от самого себя, лгал самому себе. Иногда я стыдливо отворачивал глаза в сторону, чтобы ненароком не упрекнуть его даже взглядом.
В своих рассуждениях о Горбачеве я склонен провести достаточно резкое разделение известных мне этапов его деятельности в Москве, как минимум, на четыре периода. Первый – до прихода на пост Генерального секретаря. Второй – с весны 1985 до осени 1990 года. Третий с этого рубежа до декабря 1991-го. Четвертый – до настоящего времени.
Все эти периоды были разными и по внутренним и внешним условиям, по официальному положению Горбачева и, разумеется, по задачам, которые объективно вставали перед страной, руководством и перед ним лично. С нарастанием проблем, трудностей и противоречий в ходе Перестройки, кризисных тенденций в партии, государстве и обществе, на мой взгляд, достаточно заметно обнажались и психологические проблемы самого Горбачева.
Проще сказать, он, конечно, ожидал, что впереди серьезные трудности, но не смог предугадать, насколько они глубоки, не захотел или не сумел до конца поверить, что военно-промышленный и аграрный комплексы, силовые структуры, а главное, аппарат партии по своей тоталитарной природе не будут его сторонниками в реформах, более того, они встанут на путь скрытого или открытого саботажа, действуя по принципу щедринского персонажа: "Это, конечно же, можно, однако же никак нельзя". Михаил Сергеевич не сумел оседлать во многом неожиданный для него характер трудностей. Наоборот, они придавили его. Вот здесь-то ему явно не хватало решительности.
Не берусь судить о первых годах его работы в ЦК, меня тогда не было в Москве. Но уже в начале 1980-х о Горбачеве пошла молва как о будущем лидере новой формации, буревестнике тех, за кем будущее. Молву принимали всерьез прежде всего те, кто по разным причинам симпатизировал Горбачеву и поддерживал его; но и те, кто видел в нем конкурента или даже угрозу сложившимся устоям. Думаю, что в быстром формировании подобных предположений определенное и немалое значение имело то новое и необычное, что было в поведении Горбачева, в стиле его общения с людьми, в его открытости. Но решающую роль сыграли и те ожидания перемен, которые находили выход в мечте о новом лидере, таком, который мог бы повести страну в XXI век.