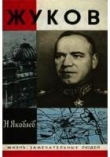Текст книги "Омут памяти"
Автор книги: Александр Яковлев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 45 страниц)
Но не только политическая качка, но и экономическая неопределенность "пожирала" судьбу Горбачева. Он в общем-то чувствовал, что схватка на экономическом фронте смерти подобна. Речь шла о необходимости вбить последние гвозди в гроб "социалистической" системы через экономику. Именно она задевала реальные интересы правящей элиты, разделила верхний эшелон власти на сторонников и противников Перестройки.
К слову сказать, интересная это порода твердолобых большевиков, приходивших к власти несколькими эшелонами после регулярно расстреливаемых Сталиным начальников. Малограмотная политически, тупая теоретически, познавшая "справедливость" социализма через привилегии и личное властное самодурство, абсолютно беспринципная, она бездарно правила и бездарно потеряла власть, так и не учуяв носом, куда дует ветер времени. О мозгах уже и говорить нечего.
Как же идет их трансформация сегодня?
Феодально-социалистические фундаменталисты, как и раньше, надеются на возврат "светлого вчерашнего", но в то же время строят себе особняки, скупают, используя старые номенклатурные связи, недвижимость, воруют сильнее прежнего, только не властвуют открыто, но именно последнее вызывает у них злобный зуд зависти и ненависти. Они хотят власти.
Как-то, будучи в Риме на научной конференции, я высказал опасение в связи с возможностью возвращения большевиков не только к корыту водки с хлебом, но и к власти.
– Этого не будет, – сказал мне один из иностранных участников семинара.
– Почему?
– Да потому, что почти все дети руководителей КПРФ и родственных с ней организаций втянуты в бизнес по самые уши, а западные спецслужбы помогают им, исходя из того, что сыновей отцы свергать не станут. Да и сами могильщики России активно вползают в предпринимательство.
Это так, но сохранение номенклатурного ядра в экономике и политике дорого обошлось стране. Бездарно растрачивались невосполнимые время и политические ресурсы, упускались возможности активных прореформенных шагов, терялось доверие к преобразованиям, открывалась дорога для последствий куда более негативных, чем те, которые могли бы иметь место при ином раскладе сил и действий, расстановке приоритетов.
Снова и снова срабатывала специфическая психология периода переходной политики, когда стальные обручи инерции сковывали руки, а раздвоенность сознания порождала страх перед возможными поворотами судьбы. Отсюда – откат демократов и заискивание перед реставраторами. То и другое выстраивало антиперестроечный ров, который все дальше отдалял президента от общества и от подлинно демократических сил и течений.
Новое окружение Горбачева осознанно поощряло его опасения и страхи, активно стимулировало метания, неуверенность, что позволяло противникам реформ тянуть время, тормозить преобразования, шаг за шагом дискредитировать самого президента. Могу ошибиться, но, по моим наблюдениям, новая ситуация изматывала Горбачева эмоционально, истощала психологически, лишая его былой приподнятости и энергии, душевного подъема. Для такого эмоционального и впечатлительного человека, как Горбачев, это имело серьезные, возможно, непоправимые последствия.
Наиболее тяжелые из них проявились, я так думаю, еще до Вильнюса и мартовского противостояния, еще до апреля 1991 года, когда на пленуме ЦК "стая претендентов в небожители" попыталась сбросить Горбачева с поста Генерального секретаря. Я не пошел на этот пленум, хотя и получил приглашение. Противно было выслушивать в очередной раз одни и те же причитания, одни и те же кликушеские всхлипы. О готовящемся внутрипартийном заговоре мне рассказали по телефону с места событий Андрей Грачев и Аркадий Вольский. Сообщили также, что сами они собираются сделать специальное заявление. Так и поступили. "Заявление 72-х" временно отрезвило особо рьяных сталинистов, убоявшихся раскола, который был в партии зловещим пугалом.
Так вот, после XXVIII съезда Горбачев решился на то, чтобы создать специальную программу развития экономики в переходный период. По соглашению Горбачев – Рыжков, с одной стороны, и Ельцин – Силаев – с другой, была создана рабочая группа во главе со Шаталиным, Явлинским и Петраковым. У меня с ними были самые добрые отношения, я читал даже промежуточные варианты их предложений. Несмотря на это соглашение, Рыжков создал свою группу во главе с Леонидом Абалкиным, который, будучи порядочным человеком, попал в этой связи в очень неловкое положение.
Когда Михаил Сергеевич получил программу Шаталина – Явлинского – Петракова "500 дней", он позвонил мне и сказал, что пришлет этот документ (у меня он уже был). И добавил, что программа читается как фантастический роман. Чувствовалось, что он воодушевлен и снова обретает рабочее состояние. Наутро снова позвонил и спросил: "Ну как?" Я сказал все, что думаю, сделав упор на том, что вижу в этой программе реальную возможность выхода из экономического кризиса. Особенно мне понравилась идея экономического союза. Для меня было ясно, что организация экономических связей на рыночных принципах неизбежно и позитивно скажется и на политических проблемах.
Но прошло совсем немного времени, и Горбачев потускнел, стал раздражительным и мрачно-задумчивым. На вопросы, что произошло, отмалчивался. Но все очень быстро прояснилось. Программа не получила поддержки в Совете Министров. Рыжков упорно отстаивал свой вариант, грозил отставкой. Один из таких разговоров происходил в моем присутствии. Михаил Сергеевич был растерян и расстроен.
На Президентском совете программу "500 дней" также подвергли острой критике. Анатолий Лукьянов шумел, что республики, заключив экономический союз, откажутся от союза политического. Против программы высказались Рыжков, Крючков, Маслюков и еще кто-то. На съезде голосами большевистского большинства программу завалили. Была создана согласительная рабочая группа во главе с Абелом Аганбегяном, которая, конечно, ничего не смогла согласовать, поскольку многие позиции двух проектов были просто несовместимыми.
Я лично убежден, что Горбачев сломался именно осенью 1990 года. Он заметался, лихорадочно искал выход, но суматоха, как известно, рождает только ошибки. Кто-то за одну ночь сочинил ему достаточно беспомощную программу действий. В результате фактически померла горбачевская президентская власть, которую тут же стали прибирать к рукам лидеры союзных республик.
Оставшееся время до мятежа было временем безвластия, политической паники и укрепления необольшевизма. "Победители" вздернули подбородки, начали свысока взирать, а не смотреть, цедить слова, а не говорить. Подхалимаж перед Горбачевым сменился подчеркнутым равнодушием к нему.
Резко изменилось отношение и ко мне. Ни звонков, ни встреч, ни просьб. В глазах этих ублюдков светился восторг от предвкушения реванша, но Горбачев как бы не замечал изменений в поведении высших бюрократов, собратьев по власти и руководителей силовых структур. Не замечал, вероятно, потому, что оказался в полном одиночестве, разогнав Президентский совет. Очутился во власти каких-то невероятных мистификаций, в окружении мрачных теней, подлых гробовщиков Перестройки.
Вот так вершилась история.
В любой стране должность номер один делает человека одиноким. В такой относительно стабильной стране, как США, на тему человеческого одиночества обитателей Белого дома (безотносительно к имени и партийной принадлежности) написаны горы исследований. Что уж говорить о советской системе, фактически обрекавшей лидера страны на комфортабельную, но одиночную камеру в Кремле. Однако даже по этим меркам Горбачев под конец его пребывания у власти оказался уникально одиноким человеком. Только несколько помощников осталось с ним. Его вниманием завладели люди, вроде Крючкова, с целенаправленно катастрофической идеологией, его нарочно пугали крахом задуманного и невозможностью преодолеть проблемы на путях демократии, шаг за шагом подталкивали Горбачева к мысли о неизбежности введения чрезвычайного положения и перехода к «просвещенной диктатуре».
Никоим образом не преуменьшая серьезности тех проблем и ситуаций, что складывались в то время в стране, я все же уверен, что любую, даже самую серьезную проблему можно и нужно было анализировать спокойно, решать прагматически, на основе здравого смысла. Кроме того, первому лицу во власти необходимо четко различать действительные проблемы от надуманных, реальные угрозы от искусственно нагнетаемых страхов.
Но такой образ действий, похоже, не устраивал слишком многих. Будущим "вождям" мятежа нужна была атмосфера постоянной тревоги, навязчивого беспокойства, всевозможных социальных и политических фобий, которые бы поражали волю, поощряли разброд в делах и мыслях.
Одно из психологических последствий такого положения при нараставшем одиночестве Горбачева – политическом и человеческом – заключается, как мне кажется, в том, что он на протяжении 1990–1991 годов уже не мог оставаться достаточно надолго один, для того чтобы просто собраться, успокоиться, навести порядок в собственных мыслях, восстановить душевное равновесие.
Апокалиптические сценарии, которыми его снабжали в изобилии, попадали на почву повышенной эмоциональности и тем самым создавали основу для новых, все более тревожных и панических восприятий. Долгое пребывание в таком состоянии ни для кого не может пройти бесследно, особенно если такое состояние формируется в условиях шумных спектаклей (как справа, так и слева) на тему о крушении Перестройки, тех масштабных жизненных замыслов и ожиданий, которыми Михаил Сергеевич действительно дорожил. Простить себе и другим такое крушение (действительное или мнимое – это другой разговор) невозможно. Появляются искусственные обиды, которые затуманивают чувства и разум.
Возможно, я где-то неточен в попытках разгадать логику горбачевских размышлений и чувств. Но мне кажется, что информация, которой его снабжали спецслужбы и партийные органы, сбила его с толку и навязала тезис о "крушении Перестройки". Теперь-то он в своих мемуарах отводит даже возможность такого хода событий и размышлений. Но я убежден, что многие действия Горбачева объясняются коварством информации, навязанной извне. Одним из аргументов в пользу моей версии является тот, что место позиции заняла поза, которая становилась все более искусственной.
Я уже писал, что Михаил Сергеевич плохо разбирался в людях. Но полагаю, что он еще хуже разбирался в самом себе. По моим наблюдениям, он или вообще не пытался, или не смог в то острейшее время критически проанализировать собственное состояние – психологическое и деловое, – не задумывался над тем, как оно могло влиять на восприятие им важнейших политических событий, тенденций, явлений. Во всяком случае, в публичной его реакции да и в той, которую наблюдали люди, непосредственно его окружавшие в период 1989–1991 годов, все заметнее становился нараставший отрыв от реальностей. Все чаще спонтанные эмоции вытесняли спокойный политический расчет. Все чаще основаниями для политических и практических акций становились иллюзии, основанные на целевых доносах, а не на строгом анализе. Да и в советах он перестал нуждаться.
Однажды на Президентском совете некоторые его члены не согласились с предложением Михаила Сергеевича по какому-то не очень существенному вопросу. Он раскраснелся и бросил фразу: "Кто здесь президент? Вы всего лишь консультанты, не забывайте об этом!" Это было крайней бестактностью. Да и по существу неверно. Зачем ему нужно было подобное вознесение над другими, понять невозможно.
Осенью 1991 года к нему постепенно пришло понимание, что он окружен ненадежными людьми. Тяжести, которые ему на этом этапе истории надо было поднять, оказались неподъемными. Ему пришлось катать штанги на политическом помосте практически в одиночку. И те из противников Горбачева, которые внимательно следили за его эволюцией, увидели, что ноги у лидера стали подгибаться. В конечном счете он был предан своим ближайшим окружением, которое посадило его под домашний арест, намекнув устами Янаева, что у президента то ли с рассудком нелады, то ли радикулитом мается.
Как ни странно, но в том, что тогда дело обстояло именно таким образом, меня больше всего убедили годы, когда Михаил Сергеевич, уже будучи частным лицом, так и не нашел ни сил, ни мужества, чтобы критически осмыслить пережитое, особенно на заключительном этапе пребывания у власти. Все его слова и дела после декабря 1991 года свидетельствуют о том, что он мучительно защищает себя, все время оправдывается, пытается "сохранить лицо". Он пытается играть Горбачева, а не быть им. Это типичнейшая реакция несознаваемой защиты своего "Я" (как говорят психологи, своей "Я-концепции"), лишенная разумного самоанализа. Позиция по-человечески понятная и вызывающая не только сочувствие, но и сожаление.
Я посмотрел его мемуары, изданные в 1995 году. И с горечью обнаружил, что он еще не вышел из того психологического тупика, в который сам себя загнал, обидевшись на весь свет. Свои настроения и оценки он переносит на события и размышления прошлых лет, практически игнорируя тот факт, что события тех "серебряных лет" были куда интереснее, глубже и значимее сегодняшних. Удивляет избирательность в оценках. Она касается всего – событий, людей, позиций и многого другого.
Михаил Сергеевич в последнее время вернул себе облик и характер первых двух-трех лет Перестройки. Кажется, уходят, хотя и не совсем, вселенские обиды. Вернулась раскованность. Демократическая интеллигенция охотно открыла ему двери в свои интеллектуальные угодья. Исчезла фальшь, которая стала накапливаться в конце правления Михаила Сергеевича. Я рад такому повороту.
И снова я возвращаюсь к тому, с чего начал. К вопросу, в какой степени ход и исход Перестройки можно – и в хорошем, и в плохом – объяснить через личность ее лидера? Вопрос этот из категории неразрешимых. На любом месте человек вносит в свое дело самого себя, свои особенности, достоинства и недостатки, свой характер. Но в одиночку не пересилить конкретные общественные, социально-экономические твердыни. Тем более что советская система отвергала даже малейшие попытки изменить ее в сторону здравого смысла.
Можно ли было вести реформы как-то иначе? Теоретически, наверное, да, если бы… Но практически история не знает сослагательного наклонения.
Можно ли было не начинать и не вести их вообще? Конечно, но румынский да и югославский опыт перед глазами.
Могли ли какие-то личные качества лидера смягчить удары, свалившиеся на страну, элита которой в основной ее массе либо слепо и яростно цеплялась за прошлое, либо была занята решением прежде всего личных проблем? Нет, не могли.
Дело-то все в том, что Михаилу Сергеевичу не надо оправдываться. Он совершил подвиг, достойный человека. Но потом…
Для меня поразительным было, каким вернулся Михаил Сергеевич после форосского заточения. Пережить ему и всем членам его семьи в те страшные дни августа 1991 года пришлось, конечно же, много. И держались они достойно. Но после Фороса Горбачев повел себя странно. Страна жила своей жизнью, а он – своей. Вместо конкретных, быстрых и решительных действий он продолжал лелеять свой "Союзный договор", который к тому времени уже увял, испарился, практически "почил в бозе". Поезд ушел. А Михаил Сергеевич погнался за ним, как бы не заметив, что история побежала совсем в другую сторону. Местные лидеры млели от восторга, распухали от величия, став руководителями независимых государств. Западные страны, позабыв о всех своих обещаниях и обязательствах, наперегонки признавали их независимость.
Горбачева, как и каждого большого политика, можно упрекнуть за многое. И заслуженное, и не очень, и вообще за все. Так всюду происходит. Отрезвление в оценках приходит потом. Но винить одного Горбачева – значит опять, как уж не раз бывало в российской истории, уйти от честного анализа явлений и процессов, от собственной ответственности, наконец.
Так уж случилось, что я оказался свидетелем не только начала, но и конца вершинной карьеры Михаила Горбачева. Волею судьбы я присутствовал на встрече Горбачева и Ельцина в декабре 1991 года, на которой происходила передача власти. Не знаю до сих пор, почему они пригласили меня. Беседа продолжалась более восьми часов. Была очень деловой, взаимоуважительной. Порой спорили, но без раздражения. Я очень пожалел, что они раньше не начали сотрудничать на таком уровне взаимопонимания. Думаю, сильно мешали "шептуны" с обеих сторон. Горбачев передал Ельцину разные секретные бумаги, в том числе по Катыни.
Ельцин подписал распоряжение о создании Фонда Горбачева. Здесь возник спор. У нас в проекте было записано: "Фонд социальных и политических исследований". Ельцин категорически высказался против слова "политических". Побаивался, видимо. Я предложил заменить слово "политических" на "политологических". Согласились.
Далее на встрече обсудили обстановку, связанную с прекращением производства бактериологического оружия. Тут заспорили. Горбачев утверждал, что все решения на этот счет приняты, а Ельцин говорил, что ученые из каких-то лабораторий в Свердловской области продолжают "что-то химичить".
По просьбе Михаила Сергеевича Ельцин распорядился продать дачи по сходной цене Силаеву, Шахназарову, еще кому-то. Предложил и мне, но я отказался, о чем жалею до сих пор.
Когда Горбачев отлучился (вся процедура была в его кабинете), я сказал Борису Николаевичу, что его подстерегает опасность повторить ошибку Горбачева, когда околопрезидентское информационное поле захватил КГБ. Он согласился с этим и сказал, что намерен создать до 5–6 каналов информации. Как потом оказалось, из этого, как и при Михаиле Сергеевиче, ничего не вышло. Спецслужбы прочно захватили информацию в свои руки.
Борис Николаевич спросил меня, зачем я иду работать с Горбачевым. "Он же не один раз предавал вас, – заметил Ельцин. – Как будто нет других дел и возможностей. Найдем достойную работу". Я ответил, что мне просто жаль Горбачева. Не приведи Господи оказаться в его положении. В это время я еще не знал, что мины, заложенные Крючковым (подслушивание телефонных разговоров, обвинения в моих связях со спецслужбами Запада), взорвутся и разведут наши судьбы.
Ельцин упрекнул меня за то, что я публично, на съезде Движения демократических реформ, критиковал Беловежские соглашения. Я объяснил ему свою точку зрения и на этот счет.
Был и еще занятный момент. За день-два до этой встречи мне кто-то шепнул, что Ельцин собирается освободить Евгения Примакова от работы во внешней разведке и поставить туда "своего" человека. Называли даже фамилию нового начальника. Я прямо спросил об этом Ельцина. Он ответил, что, по его сведениям, Примаков склонен к выпивке.
– Не больше, чем другие, – сказал я. – По крайней мере, за последние тридцать лет я ни разу не видел его пьяным. Может быть, вам съездить в разведку и все посмотреть своими глазами.
Борис Николаевич взглянул на меня несколько подозрительно и ничего не ответил. Позднее мне стало известно, что Ельцин побывал в Ясенево.
Беседа закончилась, пошли обедать. Вот тут Михаил Сергеевич начал сдавать, выпил пару рюмок и сказал, что чувствует себя неважно. И ушел – теперь уже в чужую комнату отдыха. Мы с Борисом Николаевичем посидели еще с часок, выпили, поговорили по душам. В порыве чувств он сказал мне, что издаст специальный Указ о моем положении и материальном обеспечении, учитывая, как он высказался, мои особые заслуги перед демократическим движением. Я поблагодарил. Он, кстати, забыл о своем обещании. Я вышел с ним в длинный коридор Кремля, смотрел, как он твердо, словно на плацу, шагает по паркету.
Шел победитель.
Вернулся к Горбачеву. Он лежал на кушетке, в глазах стояли слезы. "Вот видишь, Саш, вот так", – говорил человек, может быть, в самые тяжкие минуты своей жизни, как бы жалуясь на судьбу и в то же время стесняясь своей слабости. Ничего, казалось бы, не значащие слова, но звучавшие как откровение, покаяние, бессильный крик души. Точно по Тютчеву: "Жизнь, как подстреленная птица, подняться хочет – и не может".
Как мог, утешал его. Да и у меня сжималось горло. Может быть, первый раз я увидел Михаила Сергеевича без всякой игры. Мне до слез было жаль его. Душило чувство, что свершилось нечто несправедливое. Человек, еще вчера царь кардинальных перемен в мире и в своей стране, вершитель судеб миллиардов людей на Земле, сегодня – бессильная жертва беспощадного каприза истории.
Он попросил воды. Затем захотел остаться один.
Так закончились "серебряные годы" Реформации.
Без всяких колебаний и с чистой совестью утверждаю, что Михаил Сергеевич искренне хотел самого доброго для своей страны, но не сумел довести до конца задуманное, а главное – понять, что если уж поднял меч на такого монстра, как Система, то надо идти до конца. Но для этого требовалось преодоление не только идеологии и практики тоталитарного строя, но и самого себя, чтобы не останавливаться на половине дороги.
Конечно, был возможен и другой ход событий, но связанный с силовым вариантом. Однако жизненный и политический выбор Горбачева был иным – он был убежденным эволюционистом. В частных разговорах с Горбачевым мы даже близко не подходили к вариантам силового плана. Мятежники августа 1991 года использовали силовой вариант в антиперестроечных целях, что привело к разрушению Советского Союза и хаосу на постсоветском пространстве. Лично я уверен, что силовой вариант в целях защиты Перестройки не смог бы привести к созидательным последствиям.
Вот почему я считаю, что в декабре 1991 года Михаил Сергеевич совершил мудрый поступок. Он фактически сам отказался от власти, отбросил все другие возможные варианты. Не знаю, что здесь сработало: осознанное решение или же предельная человеческая усталость. Скорее всего мировоззренческое отторжение силы.
В конце концов, решения в Беловежской пуще не были легитимными. Учитывая эту ситуацию, Горбачев мог просто уехать домой, объявив, что он продолжает считать себя Президентом СССР, пока не будет иного решения съезда народных депутатов, который избрал его президентом. Ядерная кнопка оставалась с ним. Он передаст ее только вновь избранному президенту, если он, Горбачев, будет законно отстранен от власти. Сложилась бы весьма выигрышная позиция, поскольку он не настаивал бы на сохранении именно своей власти, а просто требовал законных процедур.
Так могло быть! И можно представить себе положение, которое сложилось бы в стране. Можно представить ситуацию, в которую попали бы правительства иностранных государств.
Вроде бы правильно говорят: не судите, да не судимы будете.
Конечно, правильно, но, увы, это сказано не для XX века, когда и судят безжалостно, и судимы без милосердия.
Горбачев заслуживает и уважения, и милосердия. Он ушел в историю. Крови на руках нет. Хотелось ему ввести вздыбленную еще Петром Россию в цивилизованное стойло, да больно брыкастая она, дуроломная, ломает и вершинных людей через колено.
Так или иначе, но замочили старых волков молодые, более клыкастые и охочие до власти и денег, ибо на Руси власть – это и есть деньги.
Горбачеву выпало тяжелейшее испытание, какие достаются политику, может быть, раз в столетие: подняться на самую верхотуру и стремительно скатиться вниз; начать преобразования и увидеть, как рушится многое, что составляло смысл и цель твоей жизни; волею судеб оказаться у руля в тот момент, когда накопленные за много десятилетий противоречия подошли к критической точке, положив начало тенденциям, окончательное суждение о которых придется выносить потомкам; познать не только сладость всемирной славы, но и горечь временного отвержения у себя на родине.
Тяжелейший удел, которому не позавидуешь. Воистину место в Истории стоит дорого, очень дорого.
Остается добавить, что в этих моих размышлениях о Михаиле Сергеевиче, о его замыслах и действиях, конечно, много субъективного. Но я хотел разобраться не только в том, что мы делали вместе, переживали вместе, осуждали вместе, но и в самом себе, в своих реальных убеждениях и романтических иллюзиях, в своих надеждах и заблуждениях.
Не хочу быть ни обвинителем, ни адвокатом – ни Горбачева, ни себя. Я просто рассказал, что было. Иногда с гордостью, а порой – и с горечью. Но главным в моей жизни остаются не сомнения, обиды или неудовлетворенности в великой страде за свободу, а то, что мы рука об руку с Михаилом Сергеевичем, пусть и спотыкаясь, шли к этой свободе, не задумываясь над тем, чем она закончится для нас – славой или проклятиями.