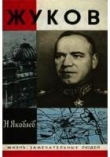Текст книги "Омут памяти"
Автор книги: Александр Яковлев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 45 страниц)
Все ждали бури и получили ее.
Я не хочу останавливаться на хронологии событий, хотя многие из них весьма поучительны и весьма актуальны. Революция была бескровной, император отрекся от престола добровольно, продемонстрировав свое безволие. Царское правительство пало от первого толчка. Власть перешла к Временному правительству. Предполагалось созвать Учредительное собрание, которое бы и определило будущее России.
Подлинного характера событий не дано было понять и политическим лидерам России того времени. Для большинства интеллигенции, умеренных демократов революция стала полнейшей неожиданностью. Многие мечтали лишь о такой революции, которая, поколебав устои царизма, привела бы к созданию конституционной монархии. Ждали демократических свобод за счет ограничения власти царя, но не полного краха самодержавия. Сам лозунг «Долой самодержавие!» для многих политических партий был лишь бойким лозунгом, а не практической задачей дня.
Меньше всего ожидали революционных действий с таким исходом политические лидеры в эмиграции, в первую очередь социалисты. Революция оказалась внезапностью даже для крайних радикалов и авантюристов от революции из ленинского крыла. Выступая перед швейцарской молодежью, Ленин сказал, что он и другие «старики», пожалуй, не доживут до революции, он выразил сомнение в правдивости информации из России.
Но и тем левым политическим деятелям, которые своими глазами видели вздымающиеся волны протеста, все это казалось случайной вспышкой, обретенной на провал. Перед Февралем для обсуждения быстро меняющейся ситуации неоднократно собирались представители левых партий и групп. Когда на этих собраниях говорили о революции, то одни полагали, что ее приход надо ждать лет 30, другие – 50.
Доминировало представление, что Россия еще спит, что волнения еще не затронули глубин народной жизни и реальных интересов масс. С точки зрения марксистской догматики подобные рассуждения были правильными, поскольку исходили из ложного представления, что революцию совершают якобы массы, а не кучки безответственных авантюристов. И в России народные массы были ни при чем, все решалось в Петрограде.
Деятели либерального, буржуазно-демократического толка и парламентской ориентации не решались воспользоваться событиями, чтобы добиться радикальных политических реформ, и тем более не решались взять власть в свои руки.
Лично я убежден, что как раз беспомощность демократов и удобряла почву для диктатуры, создавала условия захвата власти или генералами, или какой-то радикальной политической группой. Активно формировалось и распространялось мнение, что без установления диктатуры неизбежна анархия. Действия и крайне левых, и крайне правых были направлены главным образом на то, чтобы, пользуясь недовольством масс и неорганизованностью демократии, в максимально короткие сроки захватить власть и установить «надлежащий порядок».
На знаменах Февральской революции были начертаны требования: свергнуть самодержавие, выйти из войны, решить аграрный вопрос, обеспечить политические свободы и демократическое устройство общества, улучшить экономическое положение народных масс.
Конечно, исторические аналогии весьма условны, но порой бывают и полезными. Я не один раз писал о том, что в известном смысле на Перестройку легли и те задачи, которые не успела решить Февральская революция. Но до сих пор земельная реформа не проведена, подлинно демократическое устройство и гражданские свободы где-то застряли, экономическое положение масс опустилось до нищеты. Такова цена искусственного торможения естественного хода истории.
Встает мучительный вопрос, не менее актуальный и сегодня. Почему же всего через несколько месяцев, уже осенью 1917 года, демократия, рожденная Февральской революцией, была сметена контрреволюционным переворотом? Считаю, что подобное искривление жизнедеятельности российского общества, будучи неестественным, существенно сказалось и на всех последующих событиях истории, вплоть до сегодняшних дней.
А в то время люди, обессиленные войной, гибелью кормильцев, нищетой, ожесточались, нравственно дичали, становились все более безразличными к чужому горю и чужой боли. Оставалась только надежда на чудо. И здесь лежит разгадка восприимчивости к разрушительной идеологии революционаризма, в том числе и большевистской идеологии насилия. Разрушь – и наступит радостное упоение местью. Отними – и насытишься справедливостью. Убей – и тебя наполнит чувство силы и превосходства над другими.
Бывают в истории ситуации, когда и демократия становится в известном смысле великой ложью, как и другие общественно-политические концепции. Я имею в виду ее толпозависимость. Большевики блестяще пользовались психологией охлократии, рабски восторженной и беспощадной толпы – как при захвате власти, так и после. Озверевшие нелюди сдирали кожу с пленных, убивали отцов и братьев в гражданскую войну, зорко сторожили Иванденисовичей на гулаговских вышках, травили непокорных газами, дробили черепа, топили в прорубях священников. Нет на земле такой антихристианской мерзости, которую бы ни вытворяла толпа, воодушевленная ненавистью.
Любая революция – прямое следствие дефицита ответственности и знаний; она – результат тщеславия и невежества. Никакие ссылки на благородные душевные порывы не в состоянии оправдать насилие и человеческие жертвы ради призрачных целей. Революция – истерика, бессилие перед давящим ходом событий. Акт отчаяния, безумная попытка с ходу преодолеть то, что требует десятилетий напряженных усилий всего общества. Тяга к революции – плод больного мессианского сознания и нездоровой психики.
Миф, будто революцию вершат чистые, благородные умы, светлые души, люди, озабоченные исключительно счастьем человечества, не только лжив, он толкает на преступления. Ничто не поднимает со дна общества, из тихих социальных заводей столько всякой дряни, гнуснейших человеческих отбросов, как революции, гражданские войны и национальные конфликты.
И не только потому, что они до основания и с особой безжалостностью перепахивают устоявшиеся жизненные структуры. Но и потому, что в обстановке тотального переворота привычных устоев, когда события опережают способность людей разобраться в них и принять разумные решения, – в этих условиях уголовщине, как никогда, легко, удобно и выгодно рядиться в личину героев. Вчера – боевик, налетчик, бандит и мошенник, дешевое «мясо» на службе у политических демагогов. А завтра, глядишь, погарцевав в зареве пожарищ, поласкав свои звериные инстинкты, оказался в рядах «борцов за счастье человечества»…
Вспомним, как Иван Бунин цитирует сказанное ему однажды орловским мужиком: «Мы, батюшка, не можем себе воли давать… Я хорош, добер, пока мне воли не дашь. А то я первым разбойником, первым грабителем, первым вором, первым пьяницей окажусь…» Бунин назвал эту психологию первой страницей нашей истории.
Конечно, в революциях участвуют и альтруисты, и романтики, и просто порядочные люди. Их немало. Побеждающая революция обладает особым магнетизмом. А в победившей столкновение идеализма с уголовщиной становится неизбежным. Какие тут шансы у идеализма, насколько он, хотя бы психологически, готов к этой неминуемой схватке? А она неминуема: сосуществовать, ужиться рядом невозможно, отказаться добровольно от одержанной победы – тоже.
Всего этого Россия хлебнула вдоволь – и в 1905–1907 годах, и в феврале 1917 года. Некогда было подумать, все взвесить, притушить эмоции и обратиться к разуму. Железный каток событий без разбора подавлял все на своем пути.
Но если в период, рожденный Февралем, подобная практика необузданной дикости была антиподом целей и надежд революции, которая не сумела справиться с бунтарской психологией толпы, то октябрьская контрреволюция сделала психологию ненависти, мести и разрушения источником и опорой своей власти.
В условиях России, в которой всегда правили люди, а не законы, особое значение приобретает право. Правовое общество предполагает, что в обществе утверждается безусловное верховенство закона, основанное на свободах и правах человека. Ключевым элементом является создание действенной и независимой судебной системы, способной противостоять чиновничьей власти на всех уровнях и принимающей окончательные правосудные решения на основании закона.
Почему я повторяю эти, казалось бы, достаточно известные истины? Прежде всего потому, что они крайне актуальны для нынешней России в качестве практических проблем жизни. Их обязана была решить Февральская революция. В этом состояло ее историческое предназначение. Реши она эти проблемы хотя бы частично, Россия сегодня была бы другой страной. Но лидеры Февраля всего этого не ведали, не знали, а если и знали, то не сумели подчинить этим основополагающим принципам свою практическую деятельность.
Сумасбродность Февральской революции нашла свое основное выражение в митинговой демократии, очень часто перераставшей в горлопанство. Митинговали все и по самым различным поводам. Разные комитеты и советы иной раз заседали круглые сутки, без заранее выработанных повесток, обсуждая самые разные вопросы. Царила бестолковость и демагогия. Брали верх самые горластые.
Митинги втягивали в обсуждение важных политических вопросов людей, которые не были готовы даже к поверхностному пониманию политических, социальных, экономических проблем. Однако резолюции, чаще всего крикливые и лишенные здравого смысла, оказывали свое влияние и на позиции партий, и на деятельность правительства. В такой ситуации популистская политика с ее крайним упрощением в оценках и решениях находила широкий отклик.
В конечном счете митинги и собрания становились важным орудием манипулирования сознанием масс в групповых интересах, действенным средством давления на структуры Временного правительства. В итоге крайне незначительная часть населения во многом определяла политику, а в конечном счете – и судьбу страны.
Правомерен вопрос: насколько эти митинги, собрания выражали настроения масс? История показывает – Февральская революция тому яркий пример, – что и революцию, и противостоящую ей контрреволюцию в конечном счете осуществляет в основном безответственное политизированное меньшинство при пассивной позиции или полной апатии основных масс населения. В результате, однако, именно «безмолвствующее большинство» больше всего и страдает от действий политизированного меньшинства. Сама техника бесконечных митингов, простые и доступные массам лозунги, в основном разрушительного характера, вели, по свидетельству современников, к вульгаризации и без того достаточно примитивного сознания.
Никто не учил людей думать, но все учили ненавидеть.
Дьяволизация противника, манипулирование образом врага были характерны для всех политических партий того времени, особенно для левоэкстремистских – большевиков, эсеров, анархистов. Митинговая демократия несла в себе бациллы саморазложения, укрепляла идеологию нетерпимости. Революцию шаг за шагом заменяли бунт и анархия. Страна медленно вползала в хаос безвластия. Борьба с самодержавием обернулась борьбой с народом и разрушением самих основ человеческого общежития. Законов, защищающих новую Россию, так и не появилось.
Февральская революция не только не укрепила политический центр, но и размыла его, подорвав тем самым основы стабильности. В России так и не нашлось силы, опирающейся на здравый смысл и способной противостоять как самодержавной реставрации, так и вульгарной политике революционаризма. Все это создавало благодатные условия для перерождения демократии в анархию.
Обществу не удалось разумно воспользоваться свободой. Застилала глаза самонадеянность, мешало высокомерное отношение к практическим повседневным делам. Именно тогда получила распространение практика «революционной целесообразности», которая была поставлена выше закона, что неизбежно вело к гибели демократии, готовило почву для большевистского экстремизма.
Демократические силы не стали тем стержнем, вокруг которого объединилось бы все жизнеспособное в обществе, все здоровое и разумное. Вера в возможность построить более свободную, счастливую Россию на пути демократии быстро испарялась. В этой ситуации любая группа решительных заговорщиков получала преимущество перед любыми демократическими объединениями.
Когда я пишу строки об обстановке тех дней, то ловлю себя на мысли, что они являются как бы слепком дней сегодняшних. Уж очень все похоже. Но в том и печаль, что пишу о событиях, которые были тогда, перед октябрьским переворотом, а не сегодня. Хотел бы надеяться, что повторяющаяся логика событий и ошибок не приведет к тем же результатам. Если не мы сами, то, может быть, История сжалится над Россией.
Что еще важно подчеркнуть?
Бескровная, ненасильственная смена государственной власти в значительной мере исключала возможность гражданской войны со всеми ее последствиями. Открывались заманчивые перспективы согласованных действий всех общественных сил. Утверждалось, что Февральская революция была революцией практически всех классов и общественных групп. Но эти рассуждения были вызваны скорее революционной эйфорией, чем отражали реальные интересы тех социальных слоев общества, которые определяли пульс жизни. Общественного согласия так и не удалось достигнуть.
Летом 1917 года разброд среди партий Центра привел к расколу их рядов. В одних случаях это находило выражение в формировании отдельных фракций со своим руководством, в других – в разделении партий на самостоятельные организации. Этот разброд в Центре привел к усилению крайних флангов, что, в свою очередь, углубляло поляризацию общества. Дело дошло до прямой пробы сил в июльские дни – во время корниловского похода на Петроград. Правительство Керенского настолько ослабло и растерялось, что пошло на единые действия с большевиками против генерала. Это было грубейшей ошибкой правящей тогда группировки.
Разрушительные тенденции революции брали верх над созидательными. Силовое решение рисовалось в наиболее предпочтительных красках. Слабость Временного правительства, его некомпетентность и, как результат, резкое ухудшение экономического положения в стране, ожесточенная политическая борьба порождали усталость, цинизм, неверие, а это намного облегчало подготовку к любому перевороту.
В результате к осени 1917 года власть оказалась под холодным дождем октября, затоптана в грязь осенней распутицы. Так случилось, что она, эта власть, не была нужна никому, кто был способен употребить ее хотя бы не во зло. Ни купечеству, ни заводчикам, ни усталым и обедневшим дворянам, ни равнодушному обывателю. Лишь интеллигенция продолжала восторгаться переменами, пела гимны свободе, но не более того.
И мало кто понимал, что безвластие правительства Керенского удесятеряло жажду власти у радикалов, у тех, кого нельзя было допускать к ней ни в коем случае. Все происходило второпях и делалось впопыхах. Никто не предостерег общество, что верх в подобных случаях берут правые или левые авантюристы, начиненные динамитом радикально-популистской фразеологии. И не столь важно, правые они или левые, а существенно то, что это авантюристы, исторические временщики, носители маргинального люмпенского сознания. Политические перекати-поле, гонимые переменчивыми социальными ветрами.
К власти пришли радикальные сторонники «социалистического эксперимента»: большевики, меньшевики и социал-революционеры. Страна покатилась под откос с еще большей скоростью. За поражением Февральской революции – вся последующая жизнь страны, ее кровь, нищета, социальные конвульсии, гражданский раскол:
Февраль убрал самодержавие, но открыл дорогу для контрреволюции. Октябрь навязал России диктатуру. Таков трагический результат насильственных потрясений, независимо от того, кто и что разрушал. Исследование причин тех социальных и политических потрясений, которые испытала наша страна три четверти века назад, не только поучительно для понимания сегодняшних событий, но и имеет первостепенное значение для будущего нашего народа.
Мы низвергли все власти, какие только были у нас за последнюю тысячу лет. Не раз начинали великие дела. Но никогда не доводили их до конца – не хватало терпения. И снова некая сила подзуживает сказать нечто в привычном русском варианте: авось повезет на этот раз. Нет, не повезет, если не преодолеем самих себя, нашу нетерпимость и лень.
В послефевральские дни 1917 года вожди революции этого сделать не смогли, что и привело к октябрьской контрреволюции.
Глава третья
Октябрьская контрреволюция
Начиная главу о безмерной трагедии нашего народа, как не вспомнить великого Бунина, который еще в 1924 году писал:
«И вот образовалось в мире уже целое полчище провозвестников „новой“ жизни, взявших мировую привилегию, концессию на предмет устроения человеческого блага, будто бы всеобщего и будто бы равного. Образовалась целая армия профессионалов по этому делу – тысячи членов всяческих социальных партий, тысячи трибунов, из коих и выходят все те, что в конце концов так или иначе прославляются и возвышаются.
Но, чтобы достигнуть всего этого, надобна, повторяю, великая ложь, великое угодничество, устройство волнений, революций, надо время от времени по колено ходить в крови. Главное же, надо лишить толпу „опиума религии“, дать вместо Бога идола в виде тельца, то есть, проще говоря, скота. Пугачев! Что мог сделать Пугачев? Вот „планетарный“ скот – другое дело.
Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру потрясающее; он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек – и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? На своем кровавом престоле он стояч уже на четвереньках; когда английские фотографы снимали его, он поминутно высовывал язык: ничего не значит, спорят! Сам Семашко брякнул сдуру во всеуслышание, что в черепе этого нового Навуходоносора нашли зеленую жижу вместо мозга; на смертном столе, в своем красном гробу, он лежал, как пишут в газетах, с ужаснейшей гримасой на серо-желтом лице: ничего не значит, спорят!»
И в сегодняшней России спорят об очевидном: убирать Ленина из Мавзолея или нет, считать его великим автором счастья или нет, сохранять его изображения в бронзовых уродах или нет. О какой нравственности может идти речь, если палача и преступника до сих пор держат за народного благодетеля?
Насильственно захватив власть, Ленин назвал октябрьское событие 1917 года «переворотом». Позднее его переименовали в «революцию», а затем – в «великую».
На самом деле это была контрреволюция. Самая разрушительная перманентная контрреволюция в мировой истории. Без полного осознания этого факта нас еще долго будут преследовать мучительные вопросы, что же с нами случилось в прошлом и что происходит сегодня.
С самого начала Ленин создавал партию как воюющую партию, а государство – как «орудие пролетариата в грандиозной войне», причем в мировом масштабе. Но самое разрушительное в его modus operandi исходило из его убеждения, что революция – это форма гражданской войны, истребительной и жестокой. Ленин свято верил в очищающую роль братоубийственной войны в России, но только с одной целью: зажечь мировой революционный пожар.
Из этой глобальной задачи Ленин делает вывод, что гражданская война «неизбежно ведет к диктатуре», которая означает «не что иное, как ничем не ограниченную, абсолютно никакими правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть». Превращение войны империалистической в войну гражданскую он объявил программной целью своей партии.
Оставил Ленин своим наследникам завещание и стратегического характера. Говоря о характере переходного периода, он предрек, что этот период «займет целую эпоху жесточайших гражданских войн».
Свою властную деятельность большевики начали с обмана. Второй съезд Советов декретом от 26 октября (8 ноября) 1917 года, учредив Совет народных комиссаров, заявил, что он является «временным рабочим и крестьянским правительством», осуществляющим власть «до созыва Учредительного собрания». Выборы на это собрание состоялись 25 ноября, уже при новой власти. Большевики их проиграли, а потому в январе 1918 года Учредительное собрание было разогнано силой. После поражения на выборах Ленин понял, что иного пути удержания власти, кроме насилия, у него нет.
Да и сам захват власти был связан с изменой Отечеству. Уже в ходе Первой мировой войны Ленин увидел возможности для захвата власти, развернув агитацию за поражение собственного правительства в войне. Он писал, что единственной политикой партии большевиков является «политика использования пролетариатом затруднений своего правительства и своей буржуазии для их низвержения. А этого нельзя достигнуть, к этому нельзя стремиться, не желая поражения своему правительству, не содействуя такому поражению».
Обнаруживается все больше свидетельств, что октябрьская контрреволюция совершена на кайзеровские деньги, полученные в качестве платы за выход из войны с Германией. Берлин тех лет воспринимал большевиков как свое подспорье в военных действиях на восточном фронте. Надо было нейтрализовать Россию, ликвидировать восточный фронт, ибо на Западе после вступления в войну Америки обстановка для немцев становилась катастрофической. Большевики должны были заключить мир с Германией, чтобы восточную группировку немецких войск можно было перебросить на Запад. Задача не была трудной, ибо Ленин был готов на все, лишь бы удержать власть. В этих целях патриотизм объявили буржуазным предрассудком. У пролетариата, утверждали большевики, нет отечества!
Так вершилось предательство России.
«Вожди» октябрьской контрреволюции 1917 года любили ссылаться на опыт французской революции 1789–1793 годов. Они спекулировали на этом опыте, учитывая в том числе и его международный авторитет.
Перестройка конца 80-годов, уже сделав крупные шаги на пути к демократии, продолжала находиться в тисках марксистско-ленинских революционных концепций.
В этих условиях сложилась крайняя необходимость поговорить вслух на достаточно высоком политическом уровне о верховенстве прав человека, последствиях мессианских заблуждений, о том, что любая революция неотвратимо вырождается в нечто отвратительное, если средства начинают господствовать над целью, если насилие, становясь практикой государства, провозглашается добродетелью.
Я искал повод для такого разговора. Возможность открылась в связи с 200-летием Великой французской революции. Московская общественность отметила это событие на торжественном собрании, которое состоялось 11 июля 1989 года в Колонном зале. На него приехал министр культуры Франции.
Я долго работал над докладом, взвешивал каждое слово. Искал ключевое определение, которое бы прозвучало уже в первой фразе. Написал несколько вариантов и остановился на следующем:
«Глубинный смысл судьбоносного для человечества события, каким, несомненно, является Великая французская революция, в том, что она провозгласила в политике и общественном сознании великие принципы свободомыслия, которые вошли в плоть и кровь мировой культуры».
Я видел особый смысл начать доклад с фразы, где бы в единстве звучали слова – «свобода мысли» и «культура».
То было время, когда наша страна продолжала стоять на развилке – или возврат в прошлое, или продолжение либеральных реформ. Поэтому я считал исключительно важным обратить внимание на то, что «вожди» октябрьского переворота 1917 года насильственно втиснули в реальную жизнь России наиболее отвратительное из опыта французов, не предложив в то же время ничего созидательного, что демонстрировала французская революция, когда речь шла о правах и свободе человека.
Либеральная интеллигенция восторженно встретила мой доклад, но вскорости, как это принято у нас, забыла начисто. Руководство страны, в частности, Горбачев и мои коллеги по Политбюро промолчали. Большой интерес к докладу, к иной, чем было принято в советской историографии, трактовке этой революции проявил французский президент Франсуа Миттеран. Он попросил свое посольство в Москве перевести доклад на французский язык и направить перевод лично ему.
Позднее, уже после августовского мятежа 1991 года, Миттеран пригласил меня в Париж на конференцию «Племена Европы и европейское единство». Президент произнес по этому поводу прекрасную речь. Я тоже выступал. Присутствовавшие на конференции горячо поддерживали идею Гавела – Миттерана об объединении Европы.
В беседе со мной Миттеран вспомнил о московском докладе и сказал, что разделяет мои подходы к ключевым проблемам революции. Тогда же, в разговоре, возникла идея об образовании «Демократического интернационала». Миттеран сказал, что готов предоставить в Париже помещение для такой организации. Он согласился с тем, что в социал-демократическом движении появились кризисные явления – как в теории, так и в практике. Общедемократическая идея может оказаться более приемлемой для многих партий и движений. Проект, однако, не нашел своего дальнейшего развития. Миттеран заболел, а меня засосала текучка и суета мирская.
Я счел полезным включить сжатые тезисы этого доклада в свои размышления. Объясняю это необходимостью вычленить и сопоставить некоторые события французской революции 1789–1793 годов и октябрьской контрреволюции 1917 года.
Действительно, в практике большевистской группировки много похожестей с практикой лидеров французской революции. Однако по своему глубинному содержанию и историческим последствиям они отличаются кардинальным образом.
Если переворот в октябре 1917 года носил явно разрушительный характер, то французская революция сумела сконцентрировать в своем духовном арсенале важнейшие достижения европейского социального опыта, науки и общественного сознания XVIII века. Она вобрала в себя плоды эпохи Реформации и Просвещения, которые показали неизбежность глубоких интеллектуальных, нравственных и социальных изменений в историческом развитии.
Это был век Вольтера с его отвержением деспотизма, с его едкой иронией в адрес клерикальных предрассудков, с его гимном деятельной личности.
Век Руссо, который острее, чем кто бы то ни было из его современников, возвысил идею равенства людей.
Век Монтескье, защищавшего демократические принципы разделения законодательной, исполнительной и судебной властей.
Век экономистов-физиократов Кенэ и Тюрго, возвестивших принцип, за которым стояла идея свободы инициативы, невмешательства государства в экономическую жизнь.
Век Гельвеция, считавшего «пользу» критерием новой этики и основанием всех законодательств.
Плеяда выдающихся мыслителей вынесла феодальным порядкам нравственный приговор. И хотя они во многом расходились, но объективно делали одно общее дело – вспахивали интеллектуальное поле для перемен. С присущим им блеском они показывали, что старый порядок, пронизанный лицемерием, мертвящим догматизмом и схоластикой, противоречит разуму, находится в конфликте с самой природой человека, его стремлением к созданию общества, в котором частный интерес каждого совпадал бы с общечеловеческими интересами.
Французская революция предложила миру великую Декларацию прав человека и гражданина. Она создала основы современного правосознания, поставила перед человечеством вопросы, многие из которых принадлежат к числу вечных. Революция провозгласила: «Цель каждого государственного союза составляет обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека». Она утверждала, что «свободное выражение мыслей и мнений есть одно из драгоценнейших прав человека, каждый гражданин поэтому может высказываться, писать и печатать свободно, под угрозою ответственности лишь за злоупотребления этой свободой в случаях, предусмотренных законом». Декларация выдвинула принципы разделения властей, ответственности и подотчетности должностных лиц.
Итак, идеалы прекрасны, чисты и благородны, обращены к человеку.
Ни одна из революций, которые предшествовали французской, не провозгласила столь возвышенные демократические идеалы. Но она же обнаружила глубокую пропасть между разбуженными ожиданиями и реальностями жизни. Свобода оказалась ограниченной, царство разума – идеализированным, ожидания – обманутыми, святая вера в идеалы – фарисейством.
Перерождение идеалов революции оказалось быстрым и гибельным. Уже в октябре 1789 года вышел закон о применении военной силы для подавления народных выступлений. После упразднения в феврале 1791 года цехов, этого института средневековья, был принят закон, запрещавший проведение стачек и создание рабочих организаций. Цензовое избирательное право, установленное конституцией 1791 года, находилось в противоречии с Декларацией прав человека и гражданина, провозглашенной двумя годами раньше.
Революция постепенно заболела мессианством, всегда опасным своей ложью. Вожди французской революции, по крайней мере многие из них, были глубоко убеждены, что ведут борьбу за освобождение всего человечества, за вселенское торжество справедливости. «Погибни свобода Франции, – восклицал Робеспьер, – и природа покроется погребальным покрывалом, а человеческий разум отойдет назад ко времени невежества и варварства! Деспотизм, подобно безбрежному морю, зальет земной шар». Вот они, семена большевистского мессианства, связанные с мировой революцией.
Французская революция рельефно высветила проблему, с которой пришлось столкнуться едва ли не всем последующим революциям и которая остается актуальной и в наши дни. Я имею в виду проблему целей и средств, когда цели, которые провозглашаются великими, оправдывают любые средства их достижения.
Революция показала, сколь значительна в процессе общественных преобразований роль трибунов, таких, как Марат, Мирабо, Дантон, Робеспьер, Сен-Жюст и других, делавших историю. Но проявилось и иное. Когда борьба общественных групп и партий перерастает в борьбу вождей, направление борьбы меняется столь причудливым и неожиданным образом, что вчерашние соратники предстают друг перед другом разъяренными противниками, презревшими честь и достоинство. Сегодня летят головы левых якобинцев Эбера и Шометта, завтра – «снисходительного» Дантона, послезавтра – самого Робеспьера.
Марат апеллировал к «топору народной расправы», который без суда должен отрубать головы сотням тысяч «злодеев». «Террор, – по Робеспьеру, – есть не что иное, как быстрая, строгая и непреклонная справедливость; тем самым он является проявлением добродетели». Освобожденный от рамок законности, меч насилия произвольно использовался теми, кто находился у власти. Гильотина срубила головы великим французам – химику Лавуазье и поэту Андре Шенье. Побеждала злая воля властолюбцев, одетых в блистательные наряды борцов за свободу и права человека.