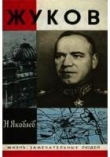Текст книги "Омут памяти"
Автор книги: Александр Яковлев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 45 страниц)
Трудно сказать, что повлияло на секретаря ЦК: то ли клятвы визитеров в своей верности линии ЦК, то ли указания «сверху», то ли забота о собственном выживании, только Демичев заверил их, что антипартийной линию журнала никто не называл, никакого документа в ЦК о неправильной линии журнала не существует. Просто старшие товарищи, обеспокоенные некоторыми ошибками в журнале, попросили ЦК ВЛКСМ помочь журналу избавиться от них. Что касается борьбы с буржуазной идеологией и защиты патриотизма, то эта линия заслуживает полной поддержки. Демичев добавил также, что нередко в журнале снаряды идут мимо цели, а иногда и бьют по своим. Стрелок хромает на одну ногу – это отдел критики. Ногу надо лечить или заменить. Наша встреча, продолжал Петр Нилович, вселяет надежду на то, что дело поправимое. Мы не хотим, чтобы ЦК комсомола перегнул палку. Подобное «отеческое» внушение и забота о том, чтобы комсомольцы не перегнули палку, окрылили «молодогвардейцев». О «явно ошибочном крене» уже никто и не заикался.
В целом же общественные настроения тогда были очень смутные. Единомыслие заметно сдавало свои позиции даже в партийной среде. Однажды, еще до отъезда в Канаду, где-то в году 70-м, я поехал по делам в Краснодар. На другой день появился там Виктор Голиков – помощник Брежнева по пропаганде и сельскому хозяйству. Голиков – заядлый охотник, часто навещал этот край. Поселились в партийной гостинице. Вечером зашел Григорий Золотухин – первый секретарь крайкома партии. Выпили, закусили, стали играть на бильярде. Завязался разговор.
Мы с Голиковым заговорили о положении в писательской среде. Модная тогда тема. Весь свой темперамент Голиков направил на «Новый мир», на Твардовского, Симонова, Евтушенко, Астафьева, Быкова, Абрамова, Гранина, Бакланова, Белова, Овечкина и многих других наиболее талантливых лидеров творческой интеллигенции. Он упрекал и меня за мои дезориентирующие, с его точки зрения, записки в ЦК, например, о журналах «Октябрь», «Молодая гвардия», о газете «Советская Россия», о военно-мемуарной литературе.
Спор был долгим и достаточно эмоциональным. Суть его сводилась к следующему: Голиков пытался доказать, что писатель в условиях «обострения классовой борьбы» должен служить власти четко обозначенными политическими позициями. Я же утверждал, что талантливая книга – как раз и есть высшее проявление того, что называется служением народу и обществу. «Очернители», как тогда называли писателей критического реализма, включая деревенщиков, значительно больше приносят пользы стране, чем «сладкопевцы», которые своими серыми сочинениями только дискредитируют власть и сеют бескультурье.
В частности, зашел разговор о дневниковых записках Симонова о войне. Они лежали у Голикова в сейфе. Я читал их. Голиков утверждал, что Симонов слишком много пишет о хаосе и поражениях, выпячивает глупость и безответственность командиров, противопоставляет им героизм солдат. Я, естественно, не мог согласиться с подобной точкой зрения, пытался объяснить ему, что в дневниках Симонова – реальная фронтовая жизнь, они не искажают правду о войне, а, наоборот, вызывают чувство гордости за солдата. Лучше правды – только правда. Спорили и о конкретных произведениях писателей-деревенщиков, которые, по мнению Голикова, подрывали веру в колхозный строй, извращали положение на селе.
Голикова трудно было переубедить. По его мнению, нужна такая литература о войне, которая бы поднимала боевой дух сегодняшней армии, а не запугивала ужасами войны. Что же касается литературы о внутренней жизни, то в качестве образцов верного служения Отечеству Голиков называл имена Кочетова, Софронова, Проскурина, Алексеева, Иванова и некоторых других, подобных им.
Григорий Золотухин внимательно слушал нас, а затем, обращаясь к Голикову, сказал:
– Слушай, Вить, ты ответь мне на такой вопрос. У нас в крае десятки формально организованных писателей, больше сорока. Так вот, кто поталантливее, те против нас, но их мало. С просьбами не обращаются, жалоб не пишут. Те же, кто за нас, – одно говно, все время толкутся в моей приемной, чего-то просят, кого-то разоблачают. Скажи мне, Вить, почему так получается?
– Плохо работаете с интеллигенцией, – буркнул Голиков.
– Это понятно, – ответил Золотухин. – Пошли выпьем, да и спать пора.
Подобные разговоры были характерными в те годы. Что касается моей работы, то значительная часть времени уходила на рутинную круговерть, на записки о тех или иных «ошибках» и «просчетах» газет, журналов, телевидения, радио. Партийные и советские деятели на местах любили писать всякого рода жалобы и опровержения на критические выступления прессы. Эти письма надо было «закрывать», как тогда говорили. Обычно в записках указывалось, что редактору газеты или руководителю телевидения и радио сделано замечание. На самом же деле никаких замечаний в девяноста случаях из ста не делалось – все зависело от опыта и характера того или иного работника ЦК.
Приведу пример. Звонит мне Алексей Косыгин и говорит, что в «Правде» опубликована «неправильная» статья об одном из министров, кажется о Костоусове. (В статье говорилось, что закупленное за рубежом новейшее оборудование валяется на заводских дворах, ржавеет и разворовывается.) Скажите об этом Зимянину (главный редактор «Правды»), потребовал Косыгин. Я, естественно, пообещал выполнить указание председателя Совета министров. Но не выполнил. Через некоторое время звонит первый заместитель Косыгина и член Политбюро Дмитрий Полянский и произносит восторженные слова по поводу той же статьи. Как и Косыгин, Полянский попросил меня сказать об этом Зимянину. Я не выполнил и это указание. В какой-то мере рисковал, но понимал, что оба они хотят свести какие-то счеты чужими руками. Звонки подобного рода других высоких начальников случались чуть ли не каждую неделю.
По характеру своих функций отдел пропаганды обязан был жестко контролировать средства массовой информации, демонстрировать постоянную бдительность, дабы все соответствовало решениям и указаниям ЦК. Но была и другая, негласная функция – защита прессы. И вовсе не из-за какой-то любви или беспринципности, а по другой причине – ведомственной. Во-первых, это «своя епархия», тебе ближе журналисты, а не жалобщики и критики. Во-вторых, если слишком много «признается» ошибок, то и цена отделу невелика, подвергаются сомнению «деловые» качества его работников. В этом отношении отдел пропаганды всегда был на острие различных интересов. Если, например, отраслевые отделы занимались делами, о которых мало кто знал, то культура, информация и пропаганда была у всех на виду. И все были недовольны, хотя и по разным причинам.
Итак, коммуно-националистическое крыло в литературной сфере одержало победу, хотя и далеко не полную. Труднее стало работать и мне. Некоторые заведующие секторами – Клавдий Боголюбов, Ираклий Чхиквишвили, Иван Кириченко, почувствовав «новые» веяния, заметно ожили. На моем столе все больше появлялось записок о тех или иных прегрешениях на телевидении и радио, в газетах, журналах и в издательствах. Многие из них умирали сами собой в моем секретариате, другие были достаточно легковесными и бездоказательными, их я отправлял на доработку. В отделе хорошо знали, что если я возвращаю бумагу, то второй раз ее посылать не следует. Но была и третья категория бумаг, которые приходилось подписывать. Приходилось считаться с тем, что у многих секретарей ЦК была своя как бы агентура в отделах.
Мои отношения с журналами «Октябрь» и «Молодая гвардия» оставались по-прежнему натянутыми. Главный редактор «Октября» Всеволод Кочетов был достаточно известным писателем. Считался верным помощником ЦК. Когда на его страницах происходили чисто литературные разборки, то ими занимался отдел культуры. Наш отдел выходил на сцену лишь в случаях, когда дело касалось непосредственно политики.
Однажды «Октябрь» напечатал передовую статью сугубо антисемитского характера. Она критиковала определенную часть интеллигенции, которая, по мнению журнала, плохо помогает партии воспитывать советский народ в духе коммунизма. Обвинения были достаточно банальными, сами по себе они не заслуживали внимания, если бы не объяснения причин происходящего. Все это происходит потому, утверждал «Октябрь», что большинство интеллигенции происходит из евреев.
Я долго думал над тем, что делать с этой статьей. В конце концов принял решение написать записку в ЦК. Пригласил Кочетова, стал с ним разговаривать, но он уперся, пытаясь доказать, что статья не антисемитская, она – об идейных настроениях интеллигенции.
Писать записку о том, что журнал проповедует антисемитизм, было делом бесполезным. В лучшем случае на ней расписались бы секретари ЦК – читали, мол. Надо было как-то схитрить, например, сослаться на какое-нибудь решение. Подспудно я рассчитывал на то, что Суслов очень берег авторитет уже принятых решений ЦК. Я решил сослаться на так называемую «махаевщину». Был в начале 30-х годов инженер Махаев, активный проповедник антисемитизма. Тогда ЦК принял специальное решение по этому поводу.
Это обстоятельство, собственно, и выручило. Мою записку обсуждали на закрытом заседании Секретариата ЦК, чего я совсем не ожидал. Суслов в мягкой форме начал втолковывать Кочетову, что надо быть внимательнее, более строго подходить к редактированию. Говорил ему, что некоторые статьи вызывают нежелательную реакцию, которая нам, в ЦК, не нужна. В сущности, шел разговор единомышленников, но один из них, который постарше, внушает младшему, что тот не всегда аккуратно себя ведет. На сей раз Кочетов Соглашался с критикой.
На том дело и закончилось. Однако на другой день мне позвонил Суслов. Он сказал, что беседует с Кочетовым, и попросил принять его. Минут через десять – пятнадцать заходит совершенно другой Кочетов, улыбающийся, доброжелательный. Сказал, что ЦК преподал ему хороший урок, что отдел поступил правильно, обратив внимание на эту статью. Упомянул, что его не было в редакции, когда печатался журнал, иначе он не пропустил бы подобной чепухи. Потом все-таки стал рассуждать о том, что есть много фактов, которые говорят об опасных настроениях интеллигенции.
Не сложились у меня отношения и с руководством газеты «Советская Россия». Редактировал ее генерал Московский. Однажды он позвонил мне и сказал, что собирается напечатать статью с критикой бардов, разных шансонье, которые, по его мнению сбивают с толку молодежь, несут в себе реакционное начало мелкобуржуазности, расхлябанности. Кроме того, упомянул, что в ней хочет критически отозваться и о Владимире Высоцком, который постепенно превращается в кумира, записи его песен ходят по рукам, они разлагают молодежь.
Меня насторожила его информация. Попросил прислать мне гранки статьи. Прочитал. Статья была разбойной. Сказал генералу, что я против этой публикации. Но вдруг дней через пять статья появилась на страницах газеты. Я спросил редактора – в чем дело? Он в достаточно наглом тоне ответил, что согласовал эту статью с моим заместителем Дмитрюком, курирующим печать. А также кое с кем и повыше. Потом оказалось, что он звонил по этому поводу своему приятелю – помощнику Брежнева Голикову. Меня все это задело и в личном плане, но особенно потому, что статья действительно была хулиганской. Я решил написать записку в ЦК, хотя был почти уверен, что никто эту записку рассматривать не будет. В то же время знал, что для Суслова самая святая идеология – партийная дисциплина. Я рассчитывал именно на это. И действительно, уловка сработала. Суслов вынес вопрос на рассмотрение Секретариата.
В ходе обсуждения выяснилось, что Московский вместе с Голиковым сочинили письмо, критикующее отдел пропаганды за то, что, курируя печать, он слабо борется с разного рода ревизионистскими настроениями среди интеллигенции, поддерживает музыкальный ширпотреб на радио и телевидении, а это мешает борьбе за «подлинное искусство». Заведующий сектором печати моего отдела Виктор Власов (царствие ему небесное) обвинялся в «наполеоновских» замашках в руководстве газетами. Что это означает, никто не знал. Я обвинялся в том, что не поддерживаю ту часть литературного цеха, которая стоит на принципиальных партийных позициях, но благоволю к тем, кто отличается неустойчивостью, идейными вихляниями и прочими грехами.
В порядке психологического нажима на Суслова они заявили, что их письмо читал сам Брежнев. Вот тут они крепко просчитались. Суслов не любил подобные ссылки. Да и Брежнев не указ Суслову, если речь шла об идеологии.
Сначала слушали Московского. Старый генерал, известный политической окаменелостью, был верным сторожем в лавке идеологических древностей. Его выступление было агрессивным. Как потом оказалось, они с Голиковым заранее договорились, что генерал заявит о необходимости кадровых изменений в отделе пропаганды. К тому же было известно, что Голиков очень хочет стать заведующим этим отделом. Знал об этом и Суслов. Равно как и о том, что Голиков постоянно пишет записки Брежневу о «ревизионизме» секретаря ЦК Пономарева, которого Суслов поддерживал.
Секретари ЦК на этом заседании помалкивали. Только потом я узнал, почему помалкивали. На предварительном обсуждении за закрытыми дверями, перед тем как начать Секретариат, Суслов уже выразил свое отношение ко всей этой истории.
Агрессивность Московского и ссылки на Брежнева вконец испортили спектакль, затеянный редактором газеты и Голиковым. Они упирали на идеологическую сторону вопроса, а Суслова эта сторона дела в данном случае мало интересовала. Он спросил Дмитрюка:
– Вы давали разрешение на публикацию статьи?
– Да.
– А где вы в это время были?
– В больнице.
– Если в больнице, то должны были лечиться, а не руководить отделом, тем более что в отделе есть человек, который отвечает за его работу.
Затем Суслов спросил меня:
– А вам звонил Дмитрюк, когда давал согласие на публикацию?
– Нет.
– Товарищ Дмитрюк, как же вы можете работать в ЦК, так грубо нарушая партийную дисциплину?
Затем, обращаясь к Московскому, Суслов спросил:
– Товарищ Московский, это правда, что вам не рекомендовали печатать статью?
– Да, Михаил Андреевич. Было не рекомендовано Яковлевым. Но вопрос принципиальный, и я счел возможным посоветоваться с товарищами из Секретариата товарища Брежнева.
Тут Суслов совсем рассердился.
– Постойте, а кому ЦК поручил оперативное руководство печатью? Насколько я понимаю, отделу пропаганды. В чем дело, товарищ Московский?..
Хочу повторить, что Суслов ни разу не коснулся содержания статьи, ни разу не сказал, хороша она или плоха, надо было ее печатать или не надо. Он увидел в этом факте опасный сигнал, когда один из заместителей заведующего отделом нарушил издавна заведенные порядки в партийном аппарате. Да и руководитель газеты начал вести свою линию, опираясь на тех, кто не имел права распоряжаться печатью. Партийные интриганы запамятовали, что идеология подвластна Суслову и никому другому. О заседании этого Секретариата долго вспоминали в аппарате ЦК. Это был своего рода показательный урок. Суслов напомнил номенклатурной пастве, кто есть кто в партии.
В конце заседания Суслов заявил:
– Вы, товарищ Московский, имейте в виду, что в партии одна дисциплина для всех, и вы обязаны ей следовать. А вам, товарищ Дмитрюк, видимо, надо сменить место работы.
Так оно вскоре и случилось.
Несмотря на то что Брежнев устраивал всех, закулисная борьба не утихала. Если говорить об общей фабуле номенклатурных схваток, то я помню, что в аппарате жужжала, как муха, идея о том, что во главе страны должен стать Косыгин – тогда предсовмина. Спокойный, неразговорчивый человек. Профессионален, деловит. Ему с трудом удавалось играть роль лояльного брежневского соратника.
Как-то я привез из Канады министра иностранных дел Шарпа. На встречу с Косыгиным пришлось лететь в Пицунду, там он отдыхал. Перед встречей Алексей Николаевич пригласил меня пройтись по берегу, чтобы получить информацию по Канаде.
Я рассказывал, он внимательно слушал. Задавал вопросы. Сказал мне, что знает о моих хороших отношениях с премьером Канады. Его жена, Маргарет, регулярно переписывалась с дочерью Косыгина Людмилой. Именно она посоветовала Маргарет назвать третьего сына четы Трюдо Александром.
…Берег моря, тишина, мы одни, течет спокойная беседа… Казалось, можно откровенно поговорить не только о Канаде – о положении в своей стране… Я маялся, все порывался начать настоящий разговор, но так и не решился. Что-то непреодолимо сдерживало. Да и Алексей Николаевич был скуп на слова.
Помимо ориентации на Косыгина существовал и другой фронт – молодежный. Так называемая «молодежная группа» видела во главе партии Александра Шелепина. В аппарате, и не только в центральном, активно «обсасывалась» информация из Монголии. Там была партийно-правительственная делегация во главе с Шелепиным. Одно из застолий, видать, было затяжным и обильным. В конце его Николай Месяцев провозгласил тост за будущего Генерального секретаря ЦК Шелепина. Тем самым судьба молодежного клана была предрешена. Но Брежнев дал им возможность «порезвиться» еще какое-то время и выявить себя в более трезвой обстановке.
Вскоре состоялся пленум ЦК. Со своим заведующим Степаковым я шел пешком со Старой площади в Кремль. В ходе разговора он буркнул: «Имей в виду, сегодня будет бой. С Сусловым пора кончать. Леонид Ильич согласен». В кулуарах, еще до начала пленума, ко мне подошел Николай Егорычев – первый секретарь Московского горкома КПСС – и сказал: «Сегодня буду резко говорить о военных, которых опекает Брежнев».
Я не советовал Николаю Григорьевичу выступать на эту тему, сказав ему, что аудитория еще не готова к такому повороту событий.
– Нет, я уже решил. Вот увидишь, меня поддержат.
Егорычев произнес хорошую речь, острую, без оглядок. Он критиковал министра обороны Гречко за бездарное участие в арабо-израильской войне, за дорогостоящую и неэффективную противовоздушную оборону, в частности, Москвы. (Кстати, он оказался прав, пример немца Руста, приземлившегося на Красной площади без всяких помех, подтвердил правоту Егорычева.) Были и другие острые пассажи. Но главное было в другом. Партийных иерархов насторожил агрессивно-наступательный тон выступления.
Оратору на всякий случай слегка поаплодировали. Все ждали реакции Президиума пленума – таковым по традиции всегда было Политбюро. Там было заметно волнение, некоторая суетливость, забегали помощники и чиновники из Общего отдела. Я сидел и переживал за Егорычева, ждал речей в его поддержку, но их не последовало. Его предали. Наутро выступил Брежнев. Кто-то сумел за одну ночь подготовить ему речь, достаточно напористую. Естественно, что, получив такую «высокую команду», выступающие начали критиковать уже Егорычева, говорить о том, что атака против военных ничем не обоснована, принесет вред обороноспособности и авторитету вооруженных сил, ну и т. д.
Егорычева вскоре освободили от работы. Сначала послали в какое-то министерство. Он и там стал проявлять деловую активность, что тоже не понравилось. Тогда его направили послом в Данию.
У меня были хорошие отношения с Егорычевым. Мне нравились его энергия, чутье на новое, стремление разбудить заснувшую столицу. Как только его направили в министерство, он зашел ко мне, просил дать ему выступить по телевидению или в газетах с разъяснением его идей по новому ведомству. В чем они точно состояли, я уже не помню. Осталось только впечатление, что предложения были достаточно разумными. Но я не мог выполнить просьбу, поскольку было указание Суслова не допускать Егорычева к средствам массовой информации. Сказать об этом Егорычеву я тоже не мог.
Вскоре освободили от работы заведующего нашим отделом Степакова, тоже причисленного к «молодежной группе». (Как мне потом говорили, я был тоже в списке людей, которых «молодежная группа» якобы намеревалась использовать в будущем руководстве. В каком качестве, не ведаю. Об этом мне сказал, сославшись на Микояна, первый заместитель председателя Гостелерадиокомитета Энвер Мамедов, впоследствии уволенный с работы по настоянию Лигачева.) Эту группу подозревали в заговорщических намерениях.
Хотел бы обратить внимание на то, что главными действующими лицами «малого заговора», если был таковой, оказались Шелепин – перед этим председатель КГБ, Степаков – бывший начальник УКГБ по Москве и Московской области, Месяцев – следователь по особо важным делам еще при Сталине. Все из спецслужб. Что касается Егорычева, то он скорее «примкнувший», на самом-то деле он был человеком Косыгина. Вскоре были освобождены со своих постов и менее значительные работники номенклатуры из политического окружения Шелепина.
Таким образом, планировалось, если свести все разговоры и намеки воедино, следующее: Шелепин – генсек, Косыгин – предсовмина, Егорычев – его первый заместитель, Степаков – секретарь ЦК по идеологии, Месяцев – председатель КГБ.
Итак, моего начальника Степакова направили послом в Югославию. Я оставался исполняющим обязанности заведующего, в коем качестве был четыре года. Слава богу, меня так и не утвердили в этой роли. Это теперь «слава богу». А тогда? Тогда было горько. Тебе не доверяют, тебя игнорируют. А раз Брежнев не доверяет, все должны «соответствовать». Таковы законы номенклатуры.
Когда освободили Степакова, я был в резиденции Брежнева «Завидово». Сочиняли очередное «нетленное». Арбатов, мы с ним играли на бильярде, сказал мне: «Тебе, Саша, надеяться не на что. Тебя не утвердят». Тогда мы были с Арбатовым в «никаких отношениях». Это потом стали друзьями. Тем же вечером Александр Бовин с присущей ему прямотой сказал: «Ты, Саша, не расстраивайся, мы тоже подложили дерьма в твой карман». Надо полагать, соответственно настроили Андропова.
Следующим вечером Брежнев пришел в комнату, где обычно по вечерам собирались все «писаки», сел рядом со мной и спросил:
– Ну, кого назначать будем на пропаганду?
Виктор Афанасьев – главный редактор «Правды» – предложил кандидатуру Тяжельникова – секретаря Челябинского обкома КПСС, своего земляка. (Через восемь лет он все же стал заведующим этим отделом.) Все другие промолчали. Я думаю, мои чувства и огорчения того времени понятны. Теперь-то я рад, что не взлетел на эту орбиту. Куда бы унес этот полет, одному Создателю известно.
В то время я долго не мог понять, в чем дело. Но однажды Александров, помощник Брежнева, посоветовал переговорить с Андроповым, поскольку, по мнению Александрова, загвоздка вся в председателе КГБ. Я не прислушался к этому совету, на поклон не пошел. Получить власть из рук Андропова – последнее дело, совестно было. Все это походило на политическую вербовку.
Повторяю, я продолжал работать в неутвержденном качестве заведующего отделом еще четыре года, пока не написал статью «Против антиисторизма», опубликованную 15 ноября 1972 года в «Литературной газете». В ней я публично определил свои позиции в остром общественном споре на страницах журналов «Новый мир», «Октябрь» и «Молодая гвардия». Показал эту статью академику Иноземцеву, помощнику Брежнева Александрову, заведующему сектором литературы ЦК Черноуцану, главному редактору «Комсомолки» Панкину. Все они весьма одобрительно отнеслись к статье. Дал ее почитать и Демичеву. В своей обычной манере он выразил сомнение относительно публикации, но по содержанию статьи замечаний не высказал.
Моя статья, как и статья Дементьева, была выдержана в стиле марксистской фразеологии. Я обильно ссылался на Маркса и Ленина, и все ради одной идеи – в острой форме предупреждал общество о нарастающей опасности великодержавного шовинизма, местного национализма и антисемитизма. Критиковал Лобанова, Чалмаева, Семанова и других апологетов охотнорядчества.
Главный редактор «Литературки» проницательный Александр Чаковский спросил меня:
– А ты знаешь, что тебя снимут с работы за эту статью?
– Не знаю, но подозреваю.
Брежневу не понравилось то, что статья была опубликована очень близко по времени к его докладу (декабрь 1972 года) о 50-летии образования СССР. Поскольку я участвовал в подготовке этого доклада, то, согласно традиции, не должен был в это время выступать в печати: нельзя было, как говорится, «растаскивать идеи». Кроме того, секретари ЦК компартий Украины и Узбекистана Шелест и Рашидов, угодничая, а может быть, и по подсказке «сверху», инициировали обращения местных писателей, в которых говорилось, что я «оскорбил старшего брата», обвинив некоторых русских полуполитиков-полуписателей в великодержавном шовинизме и антисемитизме, а также безосновательно упрекнул некоторых деятелей из республик – в национализме. Михаил Шолохов по наводке специально съездившего к нему Анатолия Софронова написал в ЦК письмо о том, что Яковлев обидел честных патриотов. В то же время я получил более 400 писем в поддержку статьи, их у меня забрал Суслов, но так и не вернул. Куда он их дел, не знаю до сих пор.
Разрушительный шовинизм и национализм под флагом патриотизма пели свои визгливые песни. Уверен, что и сегодня в утверждении агрессивного национализма в России во всех его формах и на всех уровнях значительную роль играют люди и группы, которые рядятся в одежды «национал-патриотов». Я понимал тогда чрезвычайно опасную роль националистических взглядов, но у меня и мысли не возникало, что они станут идейной платформой развала страны, одним из источников формирования русского фашизма, за который народы России заплатят очень дорого, если не поймут его реальную опасность сегодня.
Меня обсуждали на Секретариате ЦК. Обсуждали как-то стыдливо, без ярлыков – я ведь участвовал в подготовке разных докладов почти для всех секретарей ЦК. А Борис Пономарев вообще ушел с заседания. Когда я попытался что-то объяснить, Андрей Кириленко, который вел данный Секретариат, заявил:
– Ты меня, Саша, в теорию не втягивай. Ты учти – это наше общее мнение, подчеркиваю, общее (он, видимо, намекал на отсутствовавшего Суслова). Никаких организационных выводов мы делать не собираемся, – добавил он.
Незадолго до этого у меня была встреча с Брежневым, который пожурил меня за статью, особенно за то, что опубликовал ее без его ведома. В конце беседы сказал, что на этом вопрос можно считать исчерпанным. И в знак особого доверия барственно похлопал меня по плечу.
Может быть, вопрос и был исчерпанным. Может быть, и верно, что не собирались делать оргвыводов. Бог их знает. Сразу же после Секретариата я зашел к Демичеву. Повел я себя агрессивно. В ходе разговора о житье-бытье я сказал, что, видимо, наступила пора уходить из аппарата. Демичев почему-то обрадовался такому повороту разговора. Как будто ждал.
– А ты не согласился бы пойти директором Московского пединститута?
Я ответил, что нет.
– Тогда чего бы ты хотел?
– Я бы поехал в одну из англоязычных стран, например в Канаду.
Демичев промолчал, а я не считал этот разговор официальным. Утром лег в больницу. И буквально дня через два получил решение о назначении послом в Канаду. Возможно, Демичев подстраивался к чьему-то настроению, изобразив дело так, что я сам захотел уйти из ЦК.
Кстати, посол в Канаде Мирошниченко был уже в аэропорту, возвращаясь к месту работы после отпуска, когда было принято решение о его освобождении. Его вернули назад. Он долго сокрушался по этому поводу.
Из «вождей» я зашел только к Федору Кулакову, с которым у меня сложились приличные отношения. Просидели у него в кабинете часов до двенадцати ночи. Он рассказал, что на Политбюро активную роль в моем освобождении играл Полянский. Суслов молчал, но и не защищал. Брежнев спросил, читал ли кто-нибудь статью Яковлева? Демичев не признался. Эту информацию подтвердил потом и Пономарев.
Андрей Громыко перед моим отъездом пригласил меня к себе и дал только один совет: «Учите язык, лучше всего слушайте по телевидению религиозные проповеди. Они идут на хорошем, внятном английском языке». В тот же день зашел к Василию Кузнецову – первому зам. министра. «Я знаю, – сказал он, – ты расстроен. Это зря. Со мной была такая же история. Мне сообщили, что я освобожден от работы председателя ВЦСПС и назначен послом в Китай, когда я был на трибуне Мавзолея во время праздничной демонстрации».
На следующий год (февраль 1974 г.) Брежнев летел на Кубу через аэропорт Гандер, что на острове Ньюфаундленд. Я встречал его. Был свидетелем острой ссоры между руководителями «Аэрофлота» и крупным чиновником из КГБ. Аэрофлотовец обвинял представителей КГБ в том, что они заставили посадить самолет на нерасчищенную полосу (был тяжелый снегопад с пургой). Могла случиться катастрофа. Они долго ругались, так и не выяснив, по чьей вине это произошло, кто конкретно дал указание о посадке. Ко мне подошел министр иностранных дел Канады Джемисон и сказал, что авиакатастрофа казалась неизбежной, что наземные канадские службы были в панике.
Я до сих пор не знаю, было это обычным разгильдяйством или преднамеренной акцией.
Мне было любопытно, как Брежнев встретит меня. Просто вежливо, с прохладцей или нормально. Прямо у трапа он обнял меня, расцеловал, потом взял под руку и спросил:
– Ну что будем делать?
– Вот еврейская делегация встречает вас, хотят поговорить.
– Ни в коем случае, – вмешался представитель КГБ.
– А как посол считает? – спросил Леонид Ильич.
– Считаю, что надо подойти к ним. – Группа была за изгородью.
– Тогда пошли! – и Брежнев энергично зашагал к группе демонстрантов. Состоялась достаточно миролюбивая беседа. Брежнев был очень доволен. «Надо уметь разговаривать с людьми», – ворчал он, ни к кому не обращаясь. Поручил мне взять у демонстрантов письменные просьбы и направить их в ЦК на его имя.
Когда через два часа двадцать минут я провожал Брежнева к самолету, он вдруг спросил меня:
– А что с тобой случилось?
– Ума не приложу, Леонид Ильич.
– А…а…а… Товарищи! – сказал Брежнев и с досадой махнул рукой.
Брежнев играл, кокетничал и лицемерил. Я проработал в Канаде 10 лет, день в день. Говорят, что однажды он вспомнил обо мне, ему понравилась моя телеграмма из Канады по организации и принципам ведения в этой стране сельского хозяйства. Эту телеграмму ему прочитали в Завидово дважды.
К этому времени с «оттепелью» было покончено. В заморозках в духовной сфере агрессивно-националистическое крыло увидело реальные возможности для практических действий, но, судя по всему, поторопилось. В самом начале 1981 года неожиданно был снят с поста главного редактора «Комсомольской правды» Валерий Ганичев. Никаких объяснений по этому поводу не последовало. Я имею основания предположить, что самому Ганичеву причины данного решения были объяснены достаточно недвусмысленно. В апреле того же года освободили от работы главного редактора журнала «Человек и закон» Семанова. Причем еще 18 апреля заведующий отделом пропаганды ЦК Тяжельников внес предложение о награждении Семанова орденом Трудового Красного Знамени в связи с пятидесятилетием со дня рождения, а через три дня срочно отозвал наградные документы.