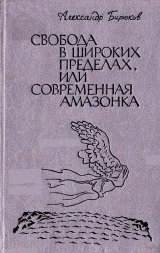
Текст книги "Свобода в широких пределах, или Современная амазонка"
Автор книги: Александр Бирюков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 35 страниц)
Татьяна. И нечего понимать. Это вас не касается. Немедленно уходите.
Нина. Почему ты его бросила? Почему ты ушла из дома? Что это за люди тут?
Татьяна (после паузы).Зачем ты пришла?
Нина. Я проездом, завтра уезжаю. Ты не бойся, я в гостинице остановилась.
Татьяна. Ты по-прежнему где-то там живешь?
Нина. В Магадане.
Татьяна. Замуж вышла?
Нина. В общем, нет.
Татьяна. А в частности?
Нина. За что ты на меня злишься?
Татьяна. Я не злюсь. Просто тебя уже нет. И это случилось давно.
Нина. Вы хорошо устроились, ребята! Как что, так раз – и нет. Тебя нет, Анны Павловны нет, меня тоже. С Борисом вот только неясно: есть он все-таки или его тоже нет?
Татьяна. Да, так оно и есть. А ты зачем там? Тебе что – места мало? Не верю.
Нина. А может, я о книгах соскучилась. Зашла посмотреть.
Татьяна. Книг нет. Зря время теряешь.
Нина. Все продали или ты их увезла?
Татьяна. Я в общежитии живу, комната – на четверых. Какие уж тут книги?
Нина. А где ты работаешь?
Татьяна. Тебе это очень важно? На стройке под Москвой.
Нина. Ты – на стройке?
Татьяна. Да, я на стройке, штукатуром.
Нина. С ума сойти. Такой вариант я не предполагала.
Татьяна. Ты много чего не предполагала.
Нина. А что еще?
Татьяна. Ты не предполагала, как скажется твой роман с отцом на нашей семье. Ты не предполагала, как скажется на его судьбе твое замужество. Ты не знаешь, что он сделал в том доме, где ты все бросила после свадьбы.
Нина. А что он там сделал?
Татьяна. Не хочу вспоминать про это, не могу. А теперь ты пришла посмотреть, целы ли книги. Возьми все, если там хоть что-то осталось, и уходи скорее.
Нина. Но что он все-таки сделал?
Татьяна. Уходи, я очень тебя прошу. Больше я не хочу с тобой говорить.
Нина положила трубку. Вольноопределяющийся, который, оказывается, все время тут и торчал, хмыкнул и с веселым топотком помчался куда-то – то ли докладывать, то ли просто так, от избытка чувств и неутоленной исполнительности. Свет во всех комнатах, через которые шла Нина, продолжал гореть. «Выключить его, что ли? – подумала она. – Впрочем, какое мне до всего этого дело? Татьяна права».
Лев Моисеевич дремал на кушетке, блаженно открыв рот и порывисто всхрапывая. Наверное, ему снилось что-то приятное, но беспокойное. Милый, приятный даже старичок, запущенный только. Странно было подумать, что Нину с ним когда-то связывало. Она уже повернулась, чтобы уходить, но он задвигался и открыл глаза.
– Как долго ты говорила. Или они все-таки передумали и отдали тебе кусок с розочкой?
– Я пойду, – сказала Нина, – я и так слишком много времени у вас отняла.
– Ничего-ничего, – отверг он этот вежливый пассаж, – ты не так часто бываешь. Когда теперь в следующий раз?
– Не знаю. У меня ведь и отпуск уже кончается – только на поездку время осталось.
– Да-да, конечно. А вот Татьяна у меня молодец, не забывает. Раз в два дня как штык объявляется, – наверное, ему очень понравилось, как он это сказал, и он повторил с улыбкой: – Как штык, да!
– Лев Моисеевич, – набралась смелости Нина, – вот еще что. Вы не помните, тогда, после свадьбы, в квартире на Каховке что было?
– Постой-постой, – засуетился он. – Каховка… Каховка… Глупость какая-то в голове, песенка эта вертится. В квартире, говоришь? А, ну я тогда там поселился. Думал, ты придешь, вещи будешь забирать, я тебя спрошу…
– А я в общежитие вернулась.
– Ну уж я не знаю, где ты обитала! А я там, на Каховке, прижился. И так, знаешь ли, мне там хорошо было – телефон только надоел, но я его отключил, – что меня оттуда уже насильно выдворяли, да.
– Как насильно? Соседи, что ли, или милиция?
– Нет, специализированная бригада «скорой помощи». Номер три у них, кажется, психиатрическая. Молодые такие субъекты, но спокойные.
– А дальше?
– А дальше все понятно, я думаю. Но ты не бойся, я в психушке долго не сидел. Диагноз: временное расстройство, реактивное состояние, по-ихнему. Через две недели Татьяна меня забрала.
– А Анна Павловна?
– Анны Павловны уже не было. Она еще раньше ушла.
– Умерла?
– Да, но не в этом дело.
– Скажите, Анна Павловна знала, что… Ну, что вы приезжали ко мне на Каховку?
– Да, Танька-змея выследила. Она мне как-то раз там, у подъезда, сцену устроила. Чуть до мордобоя не дошло, – Лев Моисеевич хохотнул, вспомнив тот веселый случай. – Представляешь, кинулась с кулачонками, ты, кричит, папочка, подлец и мерзкая тварь. Еле от нее убежал. Она ведь не знала, что у нас с Анной Павловной все давным-давно закончилось.
Ну вот, кое-что уже ясно стало, можно и уходить. Разве что напоследок спросить, откуда все эти люди здесь появились? Но их и раньше, тихих мышек, в роскошной квартире Кантора было видимо-невидимо, только не так в глаза бросались, потому что тише себя вели. А сейчас, конечно, кого им бояться?
– Спасибо, – сказала Нина, поднимаясь с жесткого канцелярского стула (еще один ребус, но хватит уже, надоело разгадывать). – Я пойду.
Можно было, конечно, и о книгах спросить – хотелось даже, потому что ну что им здесь пропадать, кто их здесь читать будет… Однако что спрашивать, если и так ясно, что нету их уже. Куда делись? Мыши съели, сами не понимая, что едят, или понимали и в букинистический отнесли – многое ведь из квартиры исчезло, продали, наверное, чтобы такую ораву кормить, Татьяна наверняка содержать этот легион не может, даже если действительно штукатуром, а не экономистом работает. Но она-то как же так, а?
– А я тебе что-то покажу, – сказал, вставая, Лев Моисеевич, – хочешь? По глазам вижу, что да. Только ты отвернись, не смотри, откуда я это достану. А теперь смотри. Вот, видишь?
В руке у него поблескивал какой-то металлический предмет, длинная такая загогулина с углублением на конце.
– Это знаешь что такое? Американская платиновая ложка. Догадываешься, для чего?
– Нет, – сказала Нина, – а для чего?
– Это, деточка, хирургический инструмент. Для абортов.
Фу ты, гадость какая! Даже смотреть страшно.
– А платиновая зачем? – спросила Нина. – Ведь это очень дорого стоит.
– В том-то и дело. Но я ее, понимаешь, как продолжение руки чувствую. Вот какой это инструмент. Нравится?
– Конечно, – сказала Нина, – хорошо, что вы это сохранили. Все-таки память осталась.
– А хочешь, я тебе ее подарю? Тоже память будет. А мне она теперь зачем? Все равно сопрет кто-нибудь.
– Что вы, Лев Моисеевич! Это ведь очень дорогая вещь, если действительно платина. А потом я сейчас за границу еду. Куда я ее дену?
– Ну как хочешь. На обратном пути возьмешь. Ты ведь скоро будешь возвращаться?
– Спасибо, – сказала Нина, – я позвоню, когда вернусь. Спасибо вам большое за все. Я пойду.
– Иди-иди. Ты ведь все там, в Норильске, кажется живешь?
Нина не стала его поправлять.
Снова по всей квартире разнеслись топотки – мыши сбегались, чтобы ее проводить. Много их собралось в передней, а самые смелые высовывались из-за спины Льва Моисеевича, когда он открывал дверь, чтобы посмотреть, что на лестнице.
– Тортик тогда еще захвати, – сказал Лев Моисеевич, – они это любят.
Да, она позвонит, приедет, захватит, но все это потом – завтра, через неделю, через месяц, но только не сейчас, сейчас бежать отсюда скорее и подальше, бежать, бежать… Конечно, вернувшись в Москву через две недели, она и не подумала звонить на Солянку – ложка ей, что ли, эта действительно нужна? Пускай Лев Моисеевич сам ее, Нину, ищет, если хочет что-то сказать или передать. В Норильске он ее скоро найдет, тем более – с таким продолжением руки (…стрела задышит не насытясь как продолжение соска– но это уже про амазонок, А. Вознесенский, «Стрела в стене»).
36
…Сначала была медленная мелодия – словно тихое солнечное утро, и берег очень широкой реки или озера, и теплая вода, которая вдруг разлилась по ярко-желтому ковру и откуда-то прибывает и прибывает, поднимаясь по икрам, ножкам кресел и зеленеющим прутикам, и уже тронула колени. Они сомкнулись, вдавливаясь одно в другое, и напряженность сковала все тело.
Вот так она и застыла, словно парализованная, ощущая одновременно и вялую свободу в плечах, и схваченную цементом неподвижность ног, как будто и вправду не вода, а что-то гораздо более вязкое наливалось сейчас в комнату, а точнее – однокомнатную квартиру, обставленную столь дефицитным еще на Севере импортным гарнитуром, поблескивающим темными полированными поверхностями, потому что свет она не гасила, а сейчас уже пухла на горизонте ярко-желтая капля поднимающегося из воды солнца. Птахи какие-то щебетали.
Самым загадочным во всем этом представлении было щебетание птах. Они-то уж откуда взялись? Известно ведь, что в Магадане птиц почти нет. Есть – бог знает где живут – одичавшие сизари, замерзающие в оттепели, в сырость, когда им негде просушиться. Бывают воробьи залетные – приезжают, наверное, на пароходах, но не приживаются, хотя, по сравнению с прошлыми годами, мелькают чаще. Может, когда-нибудь и магаданский воробей выведется? Есть чайки, летящие часов в шесть утра летом и зимой с сердитыми криками к Магаданке, там она какой-то корм находят. Чаек бывает то больше – и тогда они пасутся на каждой помойке, то меньше – и тогда их только по утрам и услышишь. Отчего так – неизвестно. А вот пестрой, веселой птичьей мелочи, которая щебечет в кустах на материке, – такого в Магадане нет. Даже в любимой бухте, когда лежишь на теплых камнях, редко какой-нибудь посвист или треньканье услышишь – только волны шуршат, хотя тайга нехоженая (свои – не в счет) к самому берегу подходит.
А вот тут, в самый напряженный момент ожидания, – птички какие-то включаются. Можно было и без них обойтись, явный ведь атавизм, но, наверное, так все это у далеких предков происходило – на лоне природы, под птичье пение, потому и ей сейчас это щебетание слышится.
Может показаться странным, что раздается оно во вполне современном интерьере, дробится о полированные поверхности, отскакивает от довольно низкого потолка, но так уж совместилось прошлое (весьма далекое), настоящее и неясное будущее, потому что дальше – что будет вслед за этой квартирой, этим гарнитуром – Нина Сергеевна пока не видит и, может быть, никогда и не увидит. Она думает об этом не часто, но с грустью, потому что: ну хорошо – достигла она всего этого и еще уютного служебного кабинета, налаженного быта и продвижения по службе, но дальше-то что?
Впору опять анкету заполнять, чтобы подсчитать имеющиеся свершения и ресурсы, чтобы дальше двигаться. Но что тут подсчитывать? Все заранее известно – недавно считали, ничего нового ждать пока не приходится. Пока?
Софьюшкина трагедия прошла мимо Нины, хотя она, ее учительница и самая надежная подруга, все время, кажется, рядом была – ближе не придумаешь. Все про нее Нина знала: и про трудности на работе, и про разрыв с Виктором, и про неблагоприятные жилищные условия… Так, кажется, всегда было, есть и будет. Ну что, спрашивается, за трагедия, если из очередной школы пришлось уйти? Не из первой ведь! Больше не осталось, в какую можно перейти? Но есть ведь еще всякие детские клубы в подвалах, клубы выходного дня при школах, куда тоже воспитатели юных душ требуются. Дом пионеров… Можно в сторожа пойти, если трудно уже с детьми справляться и с более молодыми коллегами ладить, – возможно, у них (детей) уже и запросы другие и у коллег новые требования. Не свет клином на воспитательной работе сошелся. Но можно ведь и вообще нигде не работать. Конечно, сто двадцать рублей (предельная для Софьюшкиного уровня пенсия), особенно роскошествовать не дадут, сорить деньгами, как она это делала всю жизнь, уже не удастся – наоборот, придется каждую копейку считать, но ведь прожить все-таки можно, тем более – при ее запросах, она, кажется, сухой коркой обойтись может, никогда себя ничем не баловала. Можно, к тому же, и вязать что-нибудь для знакомых потихоньку – сейчас вязаные вещи в моде, некоторые энтузиастки даже в вязаных пальто ходят, но это уже слишком. А не лежит душа к вязанию – можно прополкой собственной библиотеки заняться, пока ее всю тараканы не съели. Много ведь осело на полках ненужного, несостоявшегося, хотя и манившего, обещавшего когда-то что-то. А сколько вообще человеку книг нужно? Имеется в виду художественная, ну еще философская литература, – только по самому высокому счету? Смотря какому человеку, конечно. И в каком возрасте. В юности, молодости, когда жажда жить, жадность захлестывают, кажется, что все нужно – особенно то, что еще только начинается: новые имена, новые линии… А потом, после видишь, как меркнут эти имена, ничего так и не осветив, закатываются или вообще смердить начинают; когда собственная жажда ко всему иссякает, больше смотришь назад, возвращаешься к классике, с которой так плохо, без интереса, тебя знакомили в детстве, и оказывается, что она только и нужна, а без всего, что было потом, почти без всего, можно обойтись довольно спокойно. И если так рассуждать, то полоть на Софьюшкиных полках и полоть – несколько чемоданов можно отнести в букинистический. Так что могут быть и такие поступления.
Ну а что касается других материальных сторон существования, то ведь и они Софьюшке не в новинку – привыкла она и к своей коммунальной квартире коридорного типа, и к обедам в столовой (на ресторан не очень разбежишься), раз кухни как таковой нет – только столик около двери в коридоре, и в баню ходить. Да мало ли к чему может привыкнуть человек за пятьдесят с лишним, почти шестьдесят лет жизни, большая часть которой к тому же прошла в Магадане, где, конечно, тоже жить можно (не надо верить всяким глупостям, которые о нас говорят, да и мы их тоже, бывая в отпусках, бездумно распространяем), однако не легче – увы, не легче все-таки, чем на материке: примерно одинаково, одни плюсы другими минусами уничтожаются.
Ну а что же тогда? Не из-за Виктора же это, на самом-то деле, произошло – давно уже Виктор ушел, Софьюшка о нем и не вспоминала, кажется.
Почему-то думают, что трагедия всегда вызывается какими-то значительными причинами: смерть ближнего, проигрыш в карты (это раньше было), крах карьеры… Но чаще, наверное, бывает так, что накапливается в душе усталость, складываются, накладываются одно на одно неблагоприятные обстоятельства – и словно ломается что-то, нет сил терпеть дальше, жить не хочется. И у Софьюшки так, видимо, получилось.
Тогда ввели в Магадане нормированную продажу сливочного масла – не талоны, как в других городах и районах (было кое-где такое и в Магаданской области), а просто стали масло придерживать, продавать каждый день не больше определенного количества. А потому его заранее развешивали и начинали торговлю в одно и тоже время – в обед и после работы, чтобы и работающие граждане наравне с тунеядствующими элементами могли его приобрести. Стали, конечно, выстраиваться длинные очереди, потребность в масле резко возросла, потому что если оно лежит в свободной продаже, то оно мне и не нужно, а если его нет, то надо обязательно взять – такова обычная психология покупателя.
И Софьюшка днем, в обеденный перерыв, в такую вот очередь встала, отстояла минут сорок, к прилавку подошла, а продавщица ей и говорит:
– Имейте совесть, гражданка, вы сегодня ко мне третий раз подходите, и вчера столько же. Стыдно спекуляцией заниматься.
– Простите, – говорит Софьюшка, – я вчера вообще масло не покупала и сегодня первый раз подошла.
– Нет, вы посмотрите, – не уступает продавщица, – она меня еще учит. Да как тебе, нахалка, не стыдно? Ты же видишь, что масло кончается, из-за тебя людям даже по одному куску не хватит!
– Правда, гражданочка, – говорит стоящий за Софьюшкой мужчина, – вы бы постеснялись, масло-то ведь кончается, а люди на обед спешат.
– А я, простите, что – не человек? Мне обедать не надо? – пытается защититься Софьюшка.
– Да не слушайте вы ее, отпускайте масло! – кричат из очереди.
Продавщица стала брать чеки у стоящих за Софьюшкой, а она так и осталась с протянутой над прилавком рукой, словно милостыню просила. Продавщица больше и не глядела в ее сторону.
– А мой чек что же? Ну-ка бери! – крикнула Софьюшка и взмахнула пустой авоськой. Наверное, она хотела показать, что авоська у нее пустая, что масло она сегодня не брала, но получилось так, что она как бы пыталась ударить продавщицу, хлестнуть ее этой плеткой, но не дотянулась – просто щелкнула по высокому металлическому прилавку-холодильнику.
– Ах ты еще и драться лезешь? – крикнула отпрянувшая было продавщица. – Женщины, позовите кто-нибудь милиционера, он около винного отдела.
– Ну и черт с тобой! – сказала Софьюшка, сунула чек в карман, даже деньги в кассе возвращать не стала, и ушла.
Вот и весь случай, если это он, конечно. Но больше вроде ничего не было, потому что той же ночью, встав с измятой после бессонницы постели, Софьюшка повспоминала, где у нее валяется оставшийся неиспользованным кусок бельевой веревки (брать замызганную для такого дела не хотелось), и накрепко привязала его к карнизу над окном. Оставалось совсем немного – минут пятнадцать, чтобы написать записку, в которой не следовало, конечно, ударяться в исповеди, раскаяния или оправдания (по поводу неполученного масла, например), а нужно было по-деловому распорядиться остающимся имуществом, в первую очередь книгами, потому что все остальное – труха и мура, которые можно сразу нести на помойку.
Книги, конечно, следовало оставить Нине и Алле Константиновне, хотя и многое в их библиотеках совпадало, но не будешь же сейчас сортировать – это Дергачевым, а это у них есть, поэтому отдать в какую-нибудь школу, до утра хватит разбираться, а может, и дольше… Но тогда, если она напишет только, что книги оставляет Дергачевым, получится какая-то недоговоренность, недосказанность. Что это, действительно, за текст: возьмите мои книги, и привет. Словно она и на них сердится, даже им ничего объяснять не хочет. А если сесть объяснять, то это ведь сколько писать надо! Тоже до утра хватит, а может, если все с самого начала рассказывать, то на несколько лет растянется, выйдет такой никому не нужный роман, хотя Горький и говорил, что каждый человек способен написать по край ней мере одно произведение – о собственной жизни. Только найдется ли читатель? Потому что каждый человек живет своей собственной жизнью и что ему описание чужой? Может ли оно его чему-то научить? Наставить? Поддержать? Нет, конечно. Иначе все было бы очень просто – прочел и усовершенствовался, и нет уже на свете дураков, трусов и тиранов, потому что никогда ведь литература дурных качеств не пропагандировала, а высмеивала их и осуждала и учила добрым. Только вот не научила никого и ничему.
А если это так – а так оно, к сожалению, и есть, – то зачем она будет думать о книгах в последнюю минуту, об их судьбе заботиться, в хорошие руки передавать? Да гори они синим огнем, пусть их соседи на что хотят растащат, пусть дети в окно повыбрасывают – что эту макулатуру беречь!
Пушкин, Даль вспоминал, нелепо с книгами перед смертью прощался: «Прощайте, друзья!» Но ведь Пушкин насильственной смертью умирал, у него еще запас иллюзий оставался, ему ведь еще и сорока лет не было, тридцать семь всего. В тридцать семь и Софьюшка еще многого не знала, на многое не так смотрела, как сейчас. Смешно (или страшно?) вспоминать, что в тридцать семь она и Булгакова еще не знала, то есть о пьесе «Дни Турбиных», что много лет шла в Москве, слышала, знала, что инсценировку «Мертвых душ» для Художественного театра (или Малого? да Художественного, конечно) он делал, тоже читала где-то. А о «Мастере и Маргарите» и не слышала. И это страшно, наверное, если бы она так и умерла, не прочитав этот роман.
А что тогда все ее предыдущие рассуждения о книгах стоят? Выходит, что она поторопилась их все списывать в макулатуру? И как ей такая вздорная мысль пришла! Наверное, от бессонницы, от того, что не шла из памяти противная морда продавщицы из молочного отдела, ее гнусное обращение: «Женщины, кто-нибудь позовите милиционера!» Женщины! Такое слово в очередях марать! Так, конечно, и тронуться, с ума сойти можно, и весь мир – под напором очевидного хамства – перечеркнуть. Только стоит ли?
Тут звякнуло, расширяясь, разрастаясь до громадных размеров, окно, смешно кувыркаясь и все никак не долетая до пола, стала падать рама, столкнув по пути оказавшиеся и вовсе крошечными стоявшие на подоконнике, который был теперь мраморным порогом, кастрюльки и баночки, а в комнату вместе с пронзительным магаданским ветром внеслись на лошадях Нина и Алла Константиновна – обе совершенно голые, только у каждой за спиной развевалась какая-то накидка или плащ, черный у Аллы Константиновны, отчего ее тело выглядело точеным из слоновой кости, и пурпурный у Нины, игравший яркими отсветами на каждой ее поразительной выпуклости. Они пронеслись по кругу в ставшей бескрайней комнате, не касаясь пола. Нина при этом громко трубила в сверкающую трубу.
«Зельем, что ли, каким-то намазались? – подумала Софьюшка, припоминая предпоследнюю сцену из булгаковского романа. – А у меня ведь нет ничего. Мне Воланд подарков не делал. Про лошадь я уже и не говорю. А они-то где, интересно, взяли?»
Она потянулась к табуретке, на которой лежал ссохшийся тюбик крема «Ланолиновый», и увидела, как тюбик на глазах, по мере приближения ее руки, стал пухнуть, расширяясь, а потом сам, не дожидаясь прикосновения, стрельнул молочно-белой, светящейся в полумраке каплей. Софьюшка подхватила ее в горсть и почувствовала ее неожиданную теплоту и тяжесть.
«Ну вот, значит, и мне что-то перепало, – без испуга, с удовлетворением подумала она, зачем-то пересаживаясь с тахты на табуретку. – Я так и знала, что когда-нибудь это должно случиться. Потому что не может же быть так, что все только кому-то и кому-то, а мне – ничего. А как же справедливость?»
Ее ничуть не пугало и то, что с табуреткой, на которой она сидела, происходило что-то явно необычное – та стала словно разбухать и вытягиваться и тоже заметно тяжелеть и теплеть. Было это, напротив, даже интересно, и только хотелось, чтобы превращение произошло поскорее, потому что, хотя Алла Константиновна и Нина по-прежнему парили на своих прекрасных лошадях в немыслимом для двенадцатиметровой комнаты отдалении и не обнаруживали намерения исчезнуть так же стремительно, как и появились, но и ей пора уже было трогаться, чтобы не задерживать всю компанию. Тюбиком она уже изрядно попользовалась.
Нина снова поднесла ко рту серебряную трубу, Софьюшка почувствовала толчок, могучий, но теплый ветер (откуда только такой в Магадане) сорвал с нее одежду, и она взлетела к дожидавшимся ее спутницам – тоже на громадной лошади, которая несла ее как пушинку.
Последний круг над оставляемым, уносящимся вниз и все мельчающим бытом, и три всадницы, три амазонки в развевающихся плащах – черном, алом и голубом, одна за другой вымахнули из широкого трехстворчатого окна дома на проспекте, которое в этот миг стало словно шире и выше, и неслышно понеслись вверх, к телевышке, слабо отразившись в сознании милиционера, дежурившего в подъезде одного из соседних домов: «Вот это да! Бабы голые на лошадях! И как им только не холодно!», – и он потянулся за новой папиросой, потому что до утра еще далеко и дым успеет проветриться, если держать форточку открытой.
А всадницы, забираясь вверх и вверх, были уже над бухтой; тяжелой, неразличимой во тьме массой лежали по сторонам ее скалистые берега, далеко в море светились огни подходящих к порту Нагаево кораблей, а еще дальше, на востоке, уже поднимала небо розовая полоска зари. Туда они и летели.
– Свободна! Свободна! – крикнула во всю ширь ставших громадными легких Софьюшка. – Свободна!
И не было вопросов, от кого свободна, для кого свободна… Просто свободна, понимаете, и все, – свободна!
Соседи обнаружили, что Софьюшка умерла, только в середине дня, когда кто-то постучал к ней в дверь по мелкой хозяйственной надобности. В комнате горела на стольная лампа. Софьюшка сидела на тахте в длинной ночной рубашке, на ее лице застыла злая, нехорошая улыбка, как накануне, когда она стеганула авоськой по прилавку. Окно, разумеется, было закрыто. На свесившуюся с карниза веревку никто не обратил внимания.
Заботу о похоронах взял на себя горком профсоюза. Оказалось, что у Софьюшки много верных учеников, которые ее помнили и любили, много благодарных коллег, которые учились у нее педагогическому мастерству и принципиальности. Поэтому все было, как и полагается в таких случаях, – и соболезнования, и венки, и речи. Правда, – гражданскую панихиду в клубе решили не устраивать, так как общественных регалий у покойной было недостаточно, но речи со всеми этими словами и традиционными напутствиями все-таки сказали на кладбище, прямо у могилы. Произнося полагающиеся, по их мнению, слова, ораторы избегали смотреть на стоящий рядом гроб – уж больно нехорошо улыбалась им оттуда Софьюшка, злорадно даже, – стоило ли, в самом деле, из-за куска масла так злиться! А с другой стороны, вот ведь что делается! Дали бы ей этот кусок – и, глядишь, жил бы еще да жил человек. Невнимательны мы все-таки к людям! (видел кто-то эту сцену накануне смерти Софьюшки, и ее пересказывали в толпе провожавших на кладбище).
Книги, как и все имущество, описали и опечатали, но перед тем как это случилось, те из близких, кто были в комнате последними, сговорились и взяли по одной книге – на память, так полагается. И Алле Константиновне с Ниной по книге досталось. Ближе их у Софьюшки людей не было, они-то получили эти книги по праву. Виктор на похороны не пришел. Может быть, и не знал даже, что Софьюшка умерла, потому что никто его специально, кажется, не разыскивал.
Это пришло как наваждение через несколько дней после похорон. Где бы Нина Сергеевна ни была, чем бы она ни занималась, у нее перед глазами стоял занесенный снегом палисадник их дома в Школьном переулке. Дела, люди, с которыми она в это время общалась, словно заслоняли ей этот пейзаж, влезали в него своими головами и бумагами, и она яростно расталкивала все эти помехи, как бы нелепо ни выглядели ее действия со стороны (а попробуй разумно объяснить подчиненным или начальству, что не может она сейчас думать ни о чем другом), чтобы быть все время наедине с этим видением.
Палисадник (она видела его из окна комнаты, близко-близко, словно сидела, как в детстве, на постеленном на подоконник голубом одеяле), заваленный пухлым, но не тающим снегом, в котором от проложенной мамочкой к ограде тропинки идут прямо к окну редкие, глубокие следы, вернее – к завалинке, опоясывающей весь небольшой домик. И что-то должно здесь произойти, кто-то должен снова прийти, ступая след в след по глубокому снегу, приблизиться к самому окну, а потом вдруг вскочит на подоконник веселый Петрушка в красной рубашке и синем колпачке с помпончиком.
Шальное, странное видение. И страшное потому, что произойдет потом: свалится вдруг этот кто-то с завалинки, и двое каких-то мужчин будут пинать его, а потом, как куклу, перебросят через забор и Петрушку бросят вслед тому, убегающему. Но и это еще не самое страшное, потому что какое ей дело, особенно теперь, через двадцать пять лет, до какого-то дяди с Петрушкой… А если это не какой-то дядя был – вот что самое страшное. А мамочка это знает, Алла Константиновна все знает, она тогда, Нина это запомнила, недалеко стояла.
В том, что Нина стала это вспоминать, случайности не было. И тогда, на несуразных с этими венками и речами похоронах, и на робких, застенчивых каких-то поминках (Алик Пронькин даже не стал в комнату заходить – сунул свой безошибочный нос в приоткрытую дверь, оглядел чужие – а там мало кто кого знал, все словно сбоку припека – лица и исчез, больше не появлялся), и после уже, где бы она ни была, Нину не покидало чувство вины перед так внезапно ушедшей из жизни Софьюшкой. Да и не просто ушедшей, а с этой злой, вымученной улыбкой. Все они были виноваты в том, что Софьюшка так улыбалась, и она, Нина, может быть, больше других, потому что ничем ей, любимой своей учительнице Софье Исааковне, а потом все более милой и непрактичной Софьюшке, не помогла. А хотела ли, думала ли об этом хоть когда-нибудь? Да нет вроде – жил под боком милый, хотя и несколько нескладный человек, и ладно, хорошо живем. А Софьюшке хорошо было? И так все это в памяти раскручивается – с первого Нининого класса, точнее – со второго, куда ее Софья Исааковна взяла после неудачных попыток летать в третьем, и до сегодняшнего или позавчерашнего дня, когда Софьюшка еще была жива, тряси эти дни и перелистывай – нет в них ничего надежного, благоустроенного и счастливого, поэтому Софьюшка так и улыбалась.
И вот когда Нина эти страницы листала, вдруг отделился, отлетел обрывочек, сбивчивый клочок разговора, который она подслушала в тот вечер, когда ее провожали в Венгрию. Говорили Алла Константиновна и Софьюшка, а Нина на диване уже куда-то лететь собиралась и тут услышала, как мамочка говорит: «Десять лет за хищения… амнистия вскоре… говорили на лестнице… он плакал…»
А что если тот дядя с Петрушкой, которого потом из палисадника выкинули, не дядя, а ее отец был? Если Драконша научила кого-то, чтобы на него напали и с ним расправились, так как не хотела, чтобы отец с дочерью виделись? Но неужели у Аллы Константиновны хватило на это жестокости?
Вот оно, оказывается, как было. А она все надеялась на встречу с отцом в разных городах, даже в магазине «Сыр» в Москве на улице Горького. А его уже, если он тогда, в 54-м, в такого превратился, и в живых-то давным-давно не было, наверное, умер где-нибудь под забором – может, у того палисадника как-нибудь ночью, когда Нина спокойно спала. А Драконша, может быть, и в этот момент у окна сидела, наблюдала, как все это происходит. Расскажет ли она об этом теперь? Едва ли, но попробовать-то можно – нельзя не попробовать.
И вот тихое чаепитие. Нина зашла после работы в магазин, купила какой-то тортишко, у Аллы Константиновны нашлась индийская заварка (а с чаем в Магадане что-то стало плоховато), – хорошо сидим. Ну вот, теперь и спросить можно.
– Мам, – говорит Нина Сергеевна, – это, конечно, глупости, но мне почему-то вспомнилось, как к нашим окнам в Школьном мужчина с куклой приходил – Петрушкой, кажется.
– Действительно, – говорит Алла Константиновна, – глупости какие, нашла что вспоминать.
– Только не смейся, но скажи, пожалуйста, не могло ли быть так, чтобы этим мужчиной был мой отец?
– Отец? Да ты что! Разве он походил на того ненормального? Да с чего ты взяла-то это?
– Ты же сама говорила Софьюшке, помнишь, что он сидел?
– Ну и что? Он и сидел-то меньше года, а потом амнистия была.








