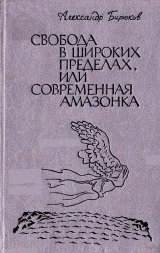
Текст книги "Свобода в широких пределах, или Современная амазонка"
Автор книги: Александр Бирюков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 35 страниц)
Этим открытием срочно хотелось поделиться с мудрой, высоколобой и, конечно, квалифицированной (старшекурсницы в этом деле шли в первых рядах) редколлегией, которая значилась в правом нижнем углу каждого номера. Нина даже придумала, составила в голове текст дерзкого письма, которое можно было опустить в допотопный деревянный ящичек, висевший неподалеку (только надписи около него не хватало: «Милые детки, пишите заметки в следующий номер вашей газетки!»), пусть там восхитятся ее прекрасным предложением. Но не написала – что я, действительно, как маленькая, буду заметки писать! – хотя понимала, что лукавит, что просто боится, даже не подписавшись, предстать пред светлы очи: что они о ней скажут? – дурочка какая-нибудь, наверное, с первого курса, дурочка из переулочка.
Ей самой была удивительна и досадна эта трусость, столь не идущая к ее характеру Крылатой Амазонки, – ведь это и она (и, может быть, в первую, очередь именно она) такая – Крылатая Амазонка, чего же ей-то бояться, да она и не такого не боялась. Но письмо так и не написала. А эта дефиниция – не только ее сущности, ее нынешнего блистательного окружения, но и, возможно, целого явления – запомнилась и полюбилась. Вот так – Крылатые Амазонки. Красиво, не правда ли? ЭКОНОМИСТ(ка)!
В газету Нина попала, можно сказать, случайно. Подошла комсорг группы – девица ничем не примечательная, к тому сияющему миру никакого отношения не имеющая, и сказала, что факультетской газете для подготовки праздничного номера требуется корреспондент (может, она и слова этого не сказала, как-нибудь иначе назвала) из их группы и не хочет ли Нина им быть? Ну если так, отчего же нет? Я рад господа!(см. «Ревизор» Гоголя)! Досадно было только то, что если они во всех группах (а их на курсе целых десять) такую работу провели, то это же какая толпа в редакцию сейчас привалит! Стадо целое. Разве будут на него (и на нее в том числе) Крылатые Амазонки смотреть с интересом?
Но никакой толпы не получилось. В назначенное время пришли только двое: она, Нина, и еще девочка с их курса по фамилии Базарная – ну эта ей явно не конкурентка, тоже мне, Крылатая Амазонка нашлась, замуж бы скорее выходила, что ли, чтобы фамилию сменить. Настоящих Амазонок тоже было немного (и это хорошо – не так страшно. Но чего она, спрашивается, трусит? Это же смешно, черт подери!) – две или три вертелись (парили, наверное) в маленькой, для семинарских занятий аудитории, составляя узкие исчирканные столы, чтобы приступить к действу. Был здесь и Амазон (или Амазонт? Зонт над Амазонками! Тоже неплохо, кажется. А в просторечии Зонтик) – инспектор учебной части Бубенцов, большой как медведь мужчина со страшным шрамом через всю щеку, в войне, наверное, участвовал.
– А вы первокурсницы! – сказал он Нине и Базарной, словно они без него еще эту истину не усвоили. – Значит, к нашему шалашу?
Да, с Зонтиком амазонкам, кажется, не очень повезло – должен быть на его месте кто-нибудь поблистательней и поэлегантней. Но, с другой стороны, он ведь их сверкание прикрывать должен, закрывать их от дождя, ветра и прочих стихий. Так что, наверное, такой и должен быть неказистый, но прочный, все испытавший, с крепкой, могучей ручкой (а у него лапищи вон какие!).
Базарная (Света, кажется) нашла себе дело скоро: постояла за спинами амазонок, слюнявя, обсасывая кончики воротничка (а что с нее взять? это у Тургенева, кажется, такая дура, что только тряпок не сосет) и смешно отшатываясь каждый раз, когда та или другая, не видя ее, вспархивала, чтобы переместиться по другую сторону стола или еще куда-нибудь, но потом ее спросили: «Клеить умеешь?», и Света что-то промычала про свои в этом деле необыкновенные способности, еще в детском саду заметно отличалась – ну вот и клей, пожалуйста! А Нина все так и пребывала столбиком, не зная, как себя приспособить, – было ей хорошо, приятно даже здесь находиться, но ведь без дела нельзя, поглядят-поглядят и прогонят. И тут ее Зонтик выручил.
– Девочки, – сказал Бубенцов, он наверняка у них вроде редактора или наставника был, – а не завести ли нам новую рубрику – «Трибуна первокурсника»?
Амазонки отнеслись к этому предложению без особого энтузиазма, реплики были в диапазоне от «ну их на фиг, чего этим малявкам еще отдельную рубрику давать?» до «ладно, пускай проявляются, а материал где?».
– Попробуем-попробуем, – заводил их Зонтик. – Вон у вас дырка, кажется. Садитесь, пишите, – это уже Нине. – Сейчас все будет готово, – это опять амазонкам, чтобы не очень шипели и крыльями хлопали, хотя откуда у амазонок крылья? И плащей они, кажется, не носили, так что сзади развеваться нечему вроде.
Так что же написать? Это легко сказать – сейчас будет. А что готово, если в голове ни одной мысли? Мне голос был он звал утешно…Вот и Анна Андреевна заранее соболезнует: хотелось в эту компанию попасть – попала, а зачем? Но что же еще?
– Я подумаю, – сказала Нина и вышла в коридор, чтобы собраться с мыслями и правда попробовать чего-нибудь сообразить, не испытывая этого угнетающего и ослепляющего сияния, исходящего от несравненных девиц.
– А если вот про это? – спросила она себя, стоя под куполом и глядя на опустевшую сейчас, после обеда, лестницу, когда занятия кончились и, все разбрелись кто куда, в основном в читалках сидят.
Вот про это! И сразу пришел заголовок – «Блестящий марш амазонок, и вообще». Под него стремительные длинноногие амазонки, скинув свои изумительные мини и все остальное (но это, конечно, между строк и даже еще глубже), идут на приступ мира, и он рушится и вопит под их острыми шпильками, укладываясь в новый жесткий порядок, который исходит из просторного кабинета с темной полированной стенкой.
Бубенцов, посапывая, пробежал глазами лишь несколько строчек, а потом вернул ей исписанный с двух сторон листик.
– Ну-ка, читай сама! А вы слушайте! – это поглощенным своими делами амазонкам, те, недовольные, отвернулись от столов.
– Блестящий марш сегодня и всегда! – выкрикнула назло им, психуя от страха и восторга, Нина, и полетели эти фразы, как дым боевых сражений, как грохот мчащихся навстречу врагу коней с изготовившимися к стрельбе амазонками, как победный клич, вырвавшийся в единый миг из тысяч грудей, до тех пор пока все не смешалось в общий гвалт в этой маленькой аудитории с оттесненными к стене стульями и распростертым, как флаг будущих побед, полотнищем газеты «Экономист».
Это была победа! Кажется, только Светка Базарная, испуганно перебегавшая взглядом от одной вопящей амазонки к другой, не понимала этого, как и всего того, что здесь сейчас творилось. Но что с нее взять? Ей замуж прямая дорога, чтобы хоть фамилию свою позорную сменить. Дура-ренегатка, что с нее взять?
Теперь все зависело от Зонтика, старого, могучего не то предмета, не то явления, способного сейчас или прикрыть всю эту шумную шарагу, распустить редакцию по домам (но тогда прости-прощай новый номер газеты, а он не какой-нибудь – праздничный, как же в праздник без газеты обойдешься?), или согласиться с этой дерзостью, санкционировать ее, прикрыть своим авторитетом, положением, еще бог весть чем.
– Не пойму, – сказал Бубенцов, – отчего вы все такие бунтари? Все, кажется, хорошо и ясно, а вы игры какие-то устраиваете.
Он еще развивал и развивал свою ворчливую мысль, но главное слово, которое все решило, уже было произнесено – «игры». Ну конечно это игра, игры, если угодно, так как играет сразу много человек и не один день и месяц – здесь множественное число больше подходит; игры. А потому чего во всем этом страшного – игры ведь, поиграем и забудем, отчего бы не поиграть, и когда еще играть, как не в молодости? На этом основании заметку Нины решили поместить, только сменить рубрику: вместо «Трибуны первокурсника» («Нечего с такой дурью вылезать на трибуну, – сказал Бубенцов. – Бузите где-нибудь в коридоре или на лестнице, если так хочется») поставили «В порядке обсуждения» («Всыпят вам на орехи в следующем номере более умные девушки, – все тот же Зонтик, – и мне заодно. Ну да уж ладно, веселитесь пока»).
И они веселились. Быстренько заметку перепечатали, наклеили. А когда Нина вспомнила про это самое «ка» – «ЭКОНОМИСТ(ка)», где КА – это Крылатые Амазонки, наступило и вовсе ликование, а Бубенцов, не желая видеть этот разгул страстей, переходящий в вакханалию, ушел, бежал, можно сказать, – вот он, первый поверженный, хотя Зонтика, конечно, никто топтать не собирался, он еще пригодится и выручит не раз.
17
Через день или два газету повесили (там еще нужно было что-то подрисовать), а через час тот же Бубенцов неумело приклеивал на место Нининой заметки какой-то срочно изготовленный листик, но заметку уже успели прочитать, о ней знал весь факультет, и КА стало общественным явлением, тем более что на эти буквы, скромно приклеившиеся к названию газеты, взыскатели сначала не обратили внимания.
Вчера еще безвестная первокурсница Н. Дергачева в считанные часы стала знаменитостью, и спустя еще много дней Нина чувствовала, как ее рассматривают, слышала шепотки за спиной. Это очень походило на ту далекую школьную ситуацию, когда она тоже прогремела и все ждали от нее чего-то и вовсе фантастического – полетит или не полетит. Но теперь-то она не первоклассница. Так что пусть глядят и шепчутся, она знает, что она может и чего хочет. Вот, пожалуй, что важнее всего – чего она хочет.
Чернеет дорога приморского сада желты и свежи фонари я очень спокойная только не надо со мною о нем говорить
О ком «о нем»? О будущем, конечно. А вы о нихтолько и думаете. Стоят ли онитого?
Бодрящая пробежка утром невзирая на погоду (даже в худшем случае – это лучший магаданский вариант), чашка любезного растворимчика – и дальше день летит стремительно и точно, как верно пущенная стрела. Не хватало только, пожалуй, тира и приятных ощущений от стрельбы, ну хотя бы два-три раза в неделю. Но тут уж ничего не поделаешь. Нет стрелковой секции в спортклубе МГУ на Моховой – есть легкая атлетика, гимнастика, игровые виды, даже бадминтон затевают, а стрелять извольте на Ленинских горах. Но это, когда живешь на Стромынке (в Сокольниках), учишься в центре (на Моховой), – еще ездить на другой конец Москвы, на Горы… Далековато, черт побери, хотя и прямая линия от Сокольников до университета на Горах, но остановок много, и там от метро дойти, здесь от метро до общежития – слишком долго. Так что обойдемся без стрельбы, хватит и утренней пробежки для поддержания спортивной формы.
Культурные влечения предполагалось удовлетворять в клубе МГУ, благо он тут же под боком, на улице Герцена. Там одних кружков, студий, ансамблей и оркестров, вероятно, десятка три, не меньше. Целый театр есть драматический, им руководил Ролан Быков до отъезда в Ленинград. Симфонический оркестр Анатолия Кремера, лауреат Московского фестиваля молодежи и студентов. Театр миниатюр со своими уже довольно знаменитыми звездами Марком Розовским и Ильей Рутбергом (последний сыграл в прекрасном фильме «Девять дней одного года» молодого глупо-пьяненького физика, который все порывается сказать, что будет, если взять атом, на что ему доброжелательный собеседник неизменно отвечает, что не надо брать атом или что-то там еще, – пьяненький физик – это, конечно, необычно). Есть, наконец, литературное объединение, которым руководит не то П. Антокольский, не то Н. Старшинов, не то оба они вместе. Вот сколько соблазнов.
А потом выяснилось, что и тир у гуманитарных факультетов есть свой, рядом со входом в поликлинику на Моховой 11, в подвале, – временно по какой-то причине был закрыт. Но когда стрелковая секция возобновила работу, Нине уже было не до нее, равно как и не до всех этих ансамблей, театров и студий, – уже появилась в ее жизни газета «ЭКОНОМИСТ(ка)», в которой после сенсационного появления – не то вопреки, не то благодаря ему – она заняла заметное место. А была еще и учеба, в которую Нина ушла с головой – так было интересно.
Стремительный марш Амазонок (КА) продолжался, главные бои за тот кабинет с полированной стенкой еще были впереди, и, чтобы выиграть их, нельзя было давать себе ни малейшей поблажки, воевать предстояло не луками и мелкашкой и не остренькими безжалостными шпильками, а знаниями, и их нужно было брать и, брать – без них не победишь.
И вот наладилась такая прекрасная, победительная жизнь, где дел – учебных и общественных – столько, что в программе дня и вечера, кажется, щелочку какую-нибудь для чего-то постороннего не найдешь, письмо маме или Софьюшке написать некогда, с любимой Анной Андреевной разве что в воскресенье пообщаться можно.
Все несется, куда-то, катится с семи часов утра, а потом глядишь – уже двадцать три, соседки с танцев или из читалки тянутся (на Стромынке тоже читальный зал есть), и можно падать в койку, не дожидаясь, пока они погасят свет, и засыпать скорее, не слушая их дурацких сплетен. Мало все-таки настоящих КА, Но, с другой стороны, было бы странным, если бы любая и каждая с одинаковым успехом претендовала на это высокое звание. Что с них взять, если у них только тряпки да мальчики на уме. Пусть потрепятся, выпустят пар ушедшего дня – весь он у них в пар и уйдет. А ей нужно себя к новому дню готовить – поэтому спать.
И вдруг все распалось – после зимней сессии наступили каникулы. Наступили совершенно неожиданно, словно легковая машина, потеряв управление, врезалась в витрину и все посыпалось. А дальше что? Лететь домой дорого, да и незачем, если по правде сказать. Одноклассники, Софьюшка, – мама – все это хорошо и мило, конечно, но, если все так же честно говорить, не очень важно сейчас (и не станет уже, наверное, важным никогда). Неплохо бы прилететь, покрасоваться перед ними – вот, мол, я какая, не то что в прошлый раз, с побитым личиком. Но это ведь все тщеславие и не более того, маленькое, гаденькое самолюбие… Стоит ли его тешить, тем более что и стоит это удовольствие так дорого? Не стоит, конечно.
Будь Нина предусмотрительнее, представь она себе этот провал заранее (словно отряд – стая, клин – амазонок, мчавшихся на штурм замка – хотя не было в их времена еще замков, но какие-то укрепления неприятеля уже существовали – с ходу провалился в замаскированный ров и теперь не может выбраться), она сходила бы в профком или через профорга группы попросила бы путевку в университетский дом отдыха «Красновидово» – это под Москвой, около Можайска, там природа, снег, Бородинское поле, лыжи, естественно, которые заменили бы утренние пробежки или дополнили их. Может быть, и там было бы не очень весело, но хотя бы разнообразия для, и эти две недели прошли бы скорее. А что теперь делать на пустынных просторах Стромынки?
Читать? Но «что толку жену обмануть, ведь ей же отдашь на расходы» (это из какой-то пародии совсем по другому поводу, однако начинается в соответствии с моментом – «И скучно, и грустно…»). Но делать-то ведь что-то действительно нужно – не будешь же целый день валяться даже с самой любимой книгой.
Пусто в коридорах Стромынки. И никакие стремительные амазонки не скачут – промелькнет лишь изредка какая-нибудь (такая же!) растрепанная бедолага в халатике (для кого накручиваться и вообще натачиваться? На Стромынке живут студенты первых курсов гуманитарных факультетов – мальчишек, мальчиков, этих, черт побери, почти нет. Они на технических факультетах. А те с первого курса на Горах живут). И Регин в жесточку не играет. То есть, может быть и играет, но он уже на третьем курсе, тоже на Горы переехал.
На второй день (больше не выдержала) Нина собралась и поехала. Куда – это было и самой неясно. Но нельзя же бесконечно сидеть в опостылевших стенах. Ехала автоматически, по этому маршруту хоть с завязанными глазами пройдет – через дорогу на остановку трамвая (троллейбуса, но он меньше нравится), на чем-то из них до метро «Сокольники», тут микроколебание: Что идет в «Орионе» и клубе Русакова, но и в кино не хотелось, поэтому в метро до Охотного Ряда. На Манежной площади следовало определиться: если на Горы (а эта цель, хоть и несформулированная и невысказанная – а кому, спрашивается, высказывать – существовала), то следовало идти на остановку сто одиннадцатого, если не на Горы, то… А зачем на Горы? Что ей там делать? Кого она там знает? Знакомых – никого. Ну пустят ее туда по студенческому билету, ну войдет она в этот прекрасный дворец, а дальше что? Жесточника, что ли, искать? Да не нужен он ей вовсе – и вспоминать об этом даже противно. К тому же без заранее поданной заявки ее в «мужскую зону» (произошло такое печальное разделение в Доме студента МГУ в 61-м году) не пустят. Ну это, положим, можно обойти, можно попросить кого-нибудь из проходящих ребят, чтобы поднялся к себе и такую заявку написал. Правда, их там сейчас, когда каникулы, тоже мало совсем – будешь стоять как дура целый час, дожидаться… Но ведь, главное, не нужен ей этот жесточник. Да и нет его, наверное, тоже уехал. Это значит, что к первому попавшемуся, кто случайно в этот момент подойдет и согласится ей пропуск заказать? Другого-то ведь и не встретишь – танцев у них в гостиных во время каникул тоже нет, наверное. Значит, к первому попавшемуся? Взгляни на меня, прохожий? Почти по-цветаевски. Я тоже была прохожей, прохожий остановись!
Но от метро она двинулась не к остановке автобуса, а совсем, в другую сторону – на факультет, хотя там-то уж точно никаких дел не было. Да и вахтеры могли не пустить – что, действительно, делать на факультете, если каникулы? Соврать, что на кафедру какую-нибудь или в библиотеку? Но библиотека тоже может быть закрыта. Тогда сказать, что на кафедру, там наверняка кто-нибудь да сидит.
Но и вахтера не было на входе и в гардеробе никто не сидел – прямо мертвое царство какое-то, запустение. Ее пальто единственное на вешалке мотается. А может, во всем здании вообще никого нет?
Под самым куполом было непривычно, необыкновенно тихо. Белела внизу пустынная лестница – кажущаяся особенно широкой оттого, что ни одной фигуры не темнело на ступенях. Плавная, светлая, пустынная – она словно ждала, когда стремительная кавалькада (вот наконец то самое слово – не отряд, не стая, а именно кавалькада!) амазонок ринется за бегущим врагом, меча (не то!), разя его звенящими, вылетающими, кажется, из распахнутой, разверстой груди (грудей!) стрелами и сминая потными конскими телами, чтобы потом насладиться сокровенной местью – топтать их подлые, жалкие трупы.
Она услышала, как под куполом шевельнулся уловленный бог весть откуда нарастающий гул – словно кавалькада и впрямь двинулась, покатилась из-за Исторического музея, – пока еще еле отличимый от шума машин, и тотчас что-то сковало ее, она словно увязла по пояс в каком-то упругом месиве и отчаянно замотала руками, стремясь вырваться, выбраться, успеть к этому приближающемуся гулу, в котором уже отчетливо слышались и сухой, звонкий стук копыт, и пронзительные крики девиц, бросивших поводья и вскинувших тугие луки, – да пустите же меня, наконец, что вы стоите и смотрите, когда мне совсем не здесь быть нужно, это же больно, больно, наконец, что вы там со мною делаете!
Но кавалькада прокатилась, промчалась, исчезая на последней верхней ступеньке, словно скрываясь за невидимым занавесом, – и было так, что вот пропала лошадиная морда, вот исчезли вытянутые руки девицы с луком, вот нет и ее, а вслед за ней и конский круп исчезает; когда пронеслось это воинство, она наконец оторвала взгляд от лестницы и всмотрелась в человека, который уже давно, когда амазонки еще только помчались сюда, стоял и смотрел на нее из-под арки, выходящей на балкон.
– Валентин Федорович, это вы? – спросила она, узнав в сутулой, с длинными опущенными руками («на Гегина-то как похож!») фигуре Бубенцова. – Что вы тут делаете?
– Смотрю, – сказал Бубенцов, не двигаясь с места, – а ты зачем пришла? Соскучилась?
– Да на Стромынке нет никого.
– Ну пойдем, будешь со мной писать отчет о вашем курсе. Только без глупостей, ладно?
– А вы сейчас никого не видели?
– Где?
– Вон там, на лестнице.
– Не видел.
– И не слышали ничего?
Бубенцов закурил, поискал, куда бросить спичку, потом подошел к ней, стал рядом около перил.
– У вас сейчас там холодно, наверное. Ты ведь из Магадана?
– Ничего, жить можно.
– Далеко, – согласился Бубенцов, словно Нина с ним спорила. – Ты бы в кино сходила. В «Метрополе» три зала. В каком-нибудь да есть что-нибудь.
– Знаю, – сказала Нина, – сейчас пойду.
– Ну и хорошо. А мне еще про вас писать и писать, двоечницы несчастные.
– У меня одна четверка.
– У других хватает. А кому ты там махала? Ты не одна, что ли, пришла?
– Одна.
– А махала кому?
– Они двоек не получают.
– А фамилии как?
– Сверху не разглядишь. Только волосы и плечи. И, простите, без одежды.
Бубенцов курил сигарету с фильтром и еще по старой, наверное, привычке вставлял ее в наборный мундштук – сооружение получалось громоздкое, и когда он вынимал мундштук изо рта, походило на то, словно он водил по воздуху длинной дымящейся указкой.
– Объясни мне, – сказал Валентин Федорович, – видишь, мы сейчас одни. Отчего вы все, молодые, беситесь? Чего вам не хватает?
– Новых реальностей.
– А эта вас не устраивает?
– Почему? Устраивает. Но одной мало. Нужны еще сон, искусство, болезнь. И алкоголь тоже, хотя вы меня сейчас за это будете ругать.
– Но ведь все спят, все книжки читают, да? И выпивают, бывает. Хотя у нас с этим делом лучше, чем юристов, правда? Но ведь все это так, отвлечение. А главное-то все-таки не это.
– Нет, – сказала Нина, – и это тоже. Иначе с ума от скуки сойдешь. Не человек, а робот.
– Петух вас в одно место не клевал, – сказал с сожалением Валентин Федорович. – Это хорошо, конечно. Но с жиру ведь вы беситесь. Ты это понимаешь?
– Но ведь и это хорошо – что с жиру, Валентин Федорович. Ведь все для того и было, чтобы не только нищета и разруха или фашисты кругом, а чтобы жить во всех этих формах и реальностях.
– А ты случаем не того, не сдвинешься?
– Нет, – сказала Нина, – я умею.
– Тогда хоть не пей. Тебе знаешь сколько жить?
– Знаю, я не пью. У нас мало кто пьет.
– На первом курсе мало, а дальше – больше.
– Нет, – сказала Нина, – амазонки не пьют. Иначе они дисквалифицируются.
– Крылатые?
– Да, только это фигурально. А вообще-то они на конях, верхом. Понимаете?
– Это которые мужчин когда-то завоевывали, грабили и жгли все кругом?
– Да, только не когда-то, а сейчас. И дальше больше будет.
– Нет, – сказал Валентин Федорович, – мне это в отчет не годится. Там и так столько ваших грехов, что хоть сейчас заведение закрывай.
– Это не грех, – сказала Нина, – это закон развития – наше время идет, понимаете? И скоро вообще все нашим будет!
– Матриархат установите?
– Что-то вроде. Только название будет другое, это какое-то неприличное.
– А нагишом скакать хорошо?
– Хорошо, – призналась Нина, – только вы этого не поймете.
– Ну а дети? – спросил вдруг Бубенцов. – Дети-то у вас все-таки будут?
– Наверное. Только не у всех. У нас другая социальная организация установится: эти воюют, эти работают, эти рожают. Или, может быть, по очереди.
– Как в муравейнике?
– Совсем не так. Просто женщина – более высокий, универсальный, что ли, тип. Может быть, единственная наша слабость в том, что слабостей у нас нет. Но это еще не все понимают.
– Универсальный?
– Да, если не использовать ее для забивки свай.
– На физические работы вы рабов, наверное, покоренных мужчин поставите?
– Если механизмов хватать не будет. Но со временем роботы их и оттуда вытеснят.
– Дела! – протянул Бубенцов. Он пошел выкинуть окурок и тотчас вернулся, вставил новую сигарету в мундштук. – Но тогда, наверное, вам придется младенцев мужского пола сразу после рождения уничтожать?
– Какую-то часть, может быть, да. Но это только сейчас, а потом пол ребенка будет регулироваться.
– И что же – совсем мужчин не станет?
– Кроме небольшого количества, необходимого для воспроизводства. Ну, еще, может быть, какие-нибудь комнатные породы выведут – карликовые, например, будут бегать по комнатам с погремушками и бубнами, или совсем лохматые, как болонки, но тоже очень небольшие.
– Или как пудели? – спросил, попыхивая сигаретой, Бубенцов.
– Ага, их по утрам можно будет прогуливать. Ты, скажем, бежишь на стадион, а он рядом припрыгивает.
– Можно и соревнования между ними устраивать, – предложил Бубенцов. – Как тараканьи бега. Или прыжки какие-нибудь.
– Да, – сказала Нина, – но все остальные будут жить отдельно.
– Занятно, – сказал Бубенцов. – Только ты никому об этом не говори. А то с вами и вовсе сладу не будет.
– Но это все равно обнаружится. Зачем скрывать?
– А я думал, – сказал Бубенцов, – может, ты прыгнуть туда хочешь? Но почему? Сессию сдала хорошо, общественница, ни в чем плохом не замечена. Может, у тебя денег нет?
– Есть.
– Дома что-нибудь случилось? Может, родителям позвонить?
– Ну что вы, право, как нянька. Все у меня прекрасно. Вы лучше на себя посмотрите.
– Дерзишь.
– Я правду говорю. Ведь я вам все объяснила, а вы меня утешаете.
– Но что же ты тут-то стояла?
– Ну вот, опять двадцать пять. Я же вам про амазонок говорила. Они только что здесь были.
– Да? – спросил Бубенцов и тоже посмотрел на белевшую внизу лестницу.
– Да не сумасшедшая я! – крикнула Нина. – Что вы на меня так смотрите?
– Конечно, не сумасшедшая. Но ведь видишь, никого там нет.
– Конечно нет – промчались уже.
– Да, – грустно сказал Бубенцов, – это что-то новенькое. Двоечницы были и есть. Прогульщицы. Воровки, как ни стыдно в этом признаться. Драчуньи, пьяницы… Но амазонок еще не было. Может, ты правда в кино сходишь?
– Еще одно доказательство. Дайте сигарету.
– Вашего превосходства? – съехидничал Бубенцов, но сигарету дал.
Они постояли еще минут пять, покуривая, хотя Нина, конечно, не затягивалась, а только набирала в рот дым, и он расползался вокруг ее головы.
– Родители у тебя кто? – спросил Бубенцов.
– Мама в библиотеке работает.
– А отец?
– Не знаю. У амазонок родство по материнской линии считается.
– Прости, я забыл. Ладно, иди в кино. А я отчет про вас буду дописывать. Приходи еще, если скучно будет.
– До свидания, – сказала Нина. – Только вы про нас пока ничего не пишите. Скоро все сами узнают.
Внизу, у начала этой плавной белой лестницы, она задрала голову, чтобы увидеть, что Бубенцов все так и стоит и смотрит на нее. На фоне уже поблекшего купола у перил действительно виднелась его голова, плечи и рука с сигаретой, вставленной в мундштук, казавшийся отсюда, – снизу, дирижерской палочкой. И еще сверху на нее падал, колыхаясь в воздухе, легонький столбик пепла.
С Центрального телеграфа, до которого от факультета было пять минут хода, она дала телеграмму матери: «СРОЧНО СООБЩИ АДРЕС ОТЦА Я ЗНАЮ ОН МОСКВЕ ЖИВУ ХОРОШО». Почему-то она и правда была уверена в эту минуту, что отец где-то здесь, Может, сидит сейчас в этом зале или идет рядом по улице, в магазин «Сыр» через дорогу зашел, надо только знать, как он выглядит. Интересно, догадается мама сообщить его фамилию и имя-отчество или забудет, подумает, что она и так это знает.
Телеграмма пришла на другой день туда же, на Центральный телеграф до востребования, как было условлено раньше, потому что на Стромынке почта терялась. «АДРЕС ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА НЕ ЗНАЮ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ЦЕЛУЮ МАМА».
А что случилось? Ничего, действительно, не случилось. Можно в кино пойти, в «Метрополе» три зала, в какой-нибудь да попадешь, ждать не придется. Или на Кузнецкий заглянуть – там какая-нибудь новая выставка может быть. Или в Столешниковом просто так потолкаться.
Никто никому не должен мне радостно что мы врозь целую вас через сотни нас разделяющих верст
Вот так. Поверим Цветаевой. И не о чем переживать. Нечего гоняться за призраками. Мало ли что может померещиться. Что Бубенцов, например, ее отец. Глупее, конечно, и выдумать нельзя. У нее и отчество совсем другое. И он сам ее о матери и об отце спрашивал, Стал бы он интересоваться, если бы сам этим отцом был! Но ведь померещилось – в ту самую секунду, когда Нина глядела на него снизу, с лестницы, на замершую над ее головой дирижерскую палочку, на летящий покручиваясь столбик пепла. Так явственно померещилось, что она и кинулась сломя голову на Центральный телеграф давать эту дурацкую телеграмму. Только маму напрасно встревожила.
Но она тоже хороша. Ну что, спрашивается, старая ханжа из таких пустяков тайны устраивает? Над сокровищами своими, над воспоминаниями трясется, боится слово проронить! Разве Нина не имеет права знать имя этого человека – своего отца? Имеет, конечно. Впрочем, имя-то она, конечно, знает – Сергей. А дальше как? Почему она должна ломать голову в дурацких предположениях над тем, что ей принадлежит по праву? И что мамочка для себя таким образом обретает? Ничего – дым, мираж, пустое место… Глупость какая-то.
На кой черт ей сейчас «Метрополь» со всеми его тремя залами, выставка на Кузнецком или какая-нибудь чепуха в «Подарках», когда нет ни одной близкой души вокруг? Ни одной? Но ведь не Пронькин же близкая душа. Или все-таки ничего – более или менее знакомая? Уж она-то, Нина, кажется, все про него знает, все в нем разглядела в те тихие вечера на полутемной кухне, когда уже смеркалось и свет падал только из окна ванной комнаты. И еще больше додумала-передумала в те яростные минуты готовящейся мести – ему? себе? И он, наверное, о ней думал, не мог не думать – хотя бы после того, как оказался запертым в уборной.
Вот и прийти сейчас к нему, сесть на пятый автобус или третий троллейбус, доехать до Новослободской, там где-то рядом Сущевская, и – «Здравствуйте, Алик! Извините, шла мимо, захотелось повидаться». – «Здравствуйте, Ниночка! Ах, как вы похорошели! Раздевайтесь, пожалуйста». – «Как? Сразу?» – «А зачем же время терять. Ведь мы его и так столько упустили». – «У меня здесь застежка заедает. Ах, какие у вас руки теплые!» – «Холодно на улице? Вы замерзли совсем. Долго, наверное, искали?» – «Нет, совсем недолго. Сначала стихи почитайте, а то кто-нибудь придет».
Или она сама со стихами к нему явится? Чтобы хоть повод был. Дня за три напишет десяток про робкое дыхание и трели соловья. «Может, посмотрите? Это, конечно, не шедевр. Но, может, что-то получилось?» И он, похмыкивая, распуская свой хамский селедочный дух, авторитетно уставится в глупейшие строчки, как будто ей и впрямь важно, как он их оценит и что скажет.
Нет, тогда уж лучше к Гегину – может ведь он, черт побери, остаться в Москве на каникулы, явно ведь не миллионер, не из Демидовых, а ехать до Урала тоже недешево. Наверное, тут подрабатывает или ворует, это все равно, время на жесточку остается.








