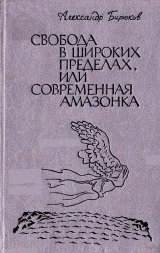
Текст книги "Свобода в широких пределах, или Современная амазонка"
Автор книги: Александр Бирюков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 35 страниц)
24
Мама написала:
Здравствуй, дорогая дочь!
Твое последнее письмо было не совсем хорошо. Я ждала от тебя большего понимания и гуманности, однако от расстояния, что ли, которое сейчас между нами, я, наверное, переоценила твои возможности. Я решила, не видя тебя, что ты взрослее и больше, чем ты есть на самом деле. Обычно матери страдают тем, что до конца дней своих считают своих детей маленькими карапузиками, хотя те уже давно взрослые люди, я оке впала в другую крайность – понадеялась на твою взрослость, с высоты которой (именно с высоты, дающей возможность окинуть взглядом происходящее и правильно оценить его) ты могла бы правильно понять меня. Но, видимо, ты этой высоты еще не достигла. Хотя, если судить по другим параметрам, к тебе уже вполне применимо понятие взрослый человек». Будем, однако, надеяться, что оно уже недолго будет оставаться отвлеченным, а скоро воплотится в реальные дела и отношения, в частности – к матери.
Ты не думай, что я на тебя сержусь. Напротив, я очень горжусь твоими успехами в учебе (а то, что ты, прирожденный филолог, как все считают у нас в библиотеке, столь круто изменила свою судьбу – это ли не взрослость! – и сумела на новом, несвойственном тебе поприще удержаться и добиться успехов, не только радует, но и удивляет). Я рада, что ты проводишь лето с интересными людьми, общение с которыми духовно развивает тебя. Рада, что каникулы не отрывают тебя от Москвы, которую ты успела полюбить за эти полтора года и в которой, конечно, так много неизведанного и притягательного для умной молодой провинциалки, какой ты сегодня являешься. Все это так, но если тебе вдруг станет по какой-то причине хотеться домой, ну хоть на неделю – на две, сейчас же дай телеграмму – я вышлю деньги. Думаю, что ты вполне заслужила право на такую прихоть. Можешь не беспокоиться, все у нас в доме по-прежнему, тебя ждут твои вещи и книги, никто без тебя ничего не трогает. То, что случилось в моей жизни, ни в коей степени не коснулось твоего быта. И не коснется его, если ты захочешь, как и прочих обстоятельств. Это я могу обещать тебе совершенно определенно.
Но пора тебе, наверное, что-то написать о Сергее Захаровиче. Если бы мы сидели сейчас за столом и я видела твое лицо, я бы сказала тебе, глядя в глаза, что это большой, может быть, даже очень большой и заслуженный человек. Но, не видя тебя, я боюсь, что в этот момент у тебя на лице может появиться несоответствующее случаю и даже глумливое выражение, поэтому не буду употреблять никаких торжественных прилагательных, ограничусь лишь перечислением некоторых известных мне фактов. Сергей Захарович, разумеется, не молод, ему… Впрочем, какое это имеет значение? Я даже думаю, что в указании возраста любого человека есть что-то унизительное, словно коня или собаку на рынке продают и таким образом оценивают их достоинства или недостатки. Поэтому хватит об этом. В прошлом он, как я догадываюсь, очень ответственный сотрудник учреждения, ныне уже несуществующего, переформированного, а точнее сказать – расформированного вовсе.
Наверное, ты понимаешь, о чем я говорю. Когда наступили известные тебе времена и это учреждение стали переформировывать, Сергей Захарович был направлен в Магадан, но не для работы, хотя, наверное, мог бы еще принести немало пользы, а только для жительства. Ему дали квартиру в новом доме, достаточную, как я догадываюсь, пенсию, и, кажется, все. Правда, у него в шкафу я как-то случайно видела его военный мундир с очень большим количеством наград и погонами, на которых сверкало золото самое настоящее, но что это за мундир, я спросить у Сергея Захаровича не решилась, а сам он не говорит, поэтому я его точного отношения к этим наградам и воинскому званию не знаю. Но думаю, Что все это у него есть, что все это – его.
Он живет в Магадане уже более десяти лет, и, конечно, ты знаешь его в лицо, так как он иногда заходил к нам в библиотеку, там мы, собственно, и познакомились. Меня поразило в этом человеке удивительное сочетание твердости характера и больших знаний, касающихся самых различных областей, включая музыку и балет, поэтому ты поймешь, что такой человек не мог не обратить на себя внимание, а обратив, не мог не подчинить себе любого другого человека.
При всем том Сергей Захарович чрезвычайно скромен, и даже соседи по лестнице не знают, не догадываются вовсе о его заслугах. Жизнь мы тоже ведем самую скромную, круг общения очень ограниченный, хотя, как я думаю, многие из наших руководителей захотели бы встретиться с Сергеем Захаровичем, если бы знали о нем хоть четверть истины. Однако этого нет. Сергей Захарович любит бывать у нашего известного певца Вадима Алексеевича, и там, под звуки старинных полуцыганских романсов, отдыхает, как мне кажется, душой Мне эти романсы говорят меньше, потому что я почти не застала тех времен, когда наш любезный (ты ведь знаешь его по библиотеке) Вадим Алексеевич был в зените своей славь но все равно его искусство до сих пор покоряет. И кошки у него совершенно чудесные, целых три. А кота по имени Бульдовер – красавец, громадина, черно-белой окраски – можно вообще в цирке показывать. Представляешь, он лапами ест, то есть берет лапой маленький кусочек мяса – Вадим Алексеевич специально его мелко строгает – и подносит ко рту, то есть к пасти, наверное. Выглядит это совершенно фантастически.
Бываем и в театре, раз уж заговорила о цирке. Владимир Яковлевич Певиновский, режиссер, кстати сказать, музыкального профиля, пытается вдохнуть жизнь в нашу полудохлую драму. Удачной показалась их новая работа «Традиционный сбор» по Виктору Розову, хотя некоторые реплики звучат довольно двусмысленно, если не сказать больше. Здесь я целиком согласна с Сергеем Захаровичем. Интересна Майя Казакова – она еще больше, кажется, похорошела. По-прежнему дарит обещания (когда-то она будет их отрабатывать?) умненькая Танечка Иконен.
На каникулы вернулись многие твои одноклассники, заходят в библиотеку, спрашивают о тебе, радуются, когда я говорю, что все у тебя в полном порядке. Все-таки удачный у вас получился выпуск. Погляди, сколько человек в каких прекрасных институтах учатся. А ты у меня, конечно, лучше всех. Это я говорю совершенно объективно.
На, приезжала, группа московских писателей и в ее составе, представь себе, наш Алик Пронькин. Вот уж не думала, что он, с его сиволапостью, получит в столице признание. Но и здесь Алик, как всегда, отличился. Они выступали у нас в библиотеке на встрече с читателями, и Алик был, конечно, пьяный. Впрочем, все они были весьма навеселе, но наш Алик – больше всех. И ли это мне так показалось, потому что он обниматься полез? К другим то я близко не подходила. Но перед читателями было, конечно, стыдно. Посмотришь на такого, с позволения сказать, писателя и невольно подумаешь: «Что же ты, дорогой, народу скажешь, если сам свинья свиньей? И какое право ты имеешь к чему-то призывать и чему-то учить, если сам себя элементарно вести не можешь? И за что только бог дает талант таким недостойным людям? Удивительно!»
И еще одно происшествие у нас было, но уме более трагическое. Душевно заболел тихий и добрый наш сосед Поляков. Никто и не заметил, как это случилось. Был тихий Иван Сергеевич, возился там со своими молотками и гвоздями, никто его и не видел, а он пришел после работы, вздремнул часок и опять на работу пошел. И там целую ночь трудился – все окна в кабинете председателя облисполкома досками заколотил. Пришли утром сотрудники спрашивают: «Зачем вы это сделали, Иван Сергеевич?», а он «Китайчики-дракончики!», и все. Сотрудники вызвали «скорую помощь», он и не сопротивлялся даже, сам поехал на двадцать третий километр. Поставили там диагноз: помешательство на почве алкоголизма. Вот вам и китайчики-дракончики! Надежда Викторовна, конечно, ужасно переживает, мне ее жаль, и понять я никак не могу – ведь он и не пил вроде никогда, ничего такого я за ним не замечала.
Я понимаю, что мои опасения смешны, что тебе никакие «китайчики-дракончики» не грозят, но все-таки прошу тебя быть в этом вопросе поосторожней, в вашей молодежной среде злоупотребление алкоголем не только не сокращается, к сожалению, но и усиливается даже.
Вот, кажется, и все наши магаданские новости – большие и маленькие, серьезные и смешные. Береги себя, пиши так же аккуратно. И не болей, конечно. Да, как у тебя с гардеробом? Пожалуй, обносилась уже совершенно. Прикинь, сколько тебе прислать на это дело, и телеграфируй. Еще раз повторяю, что своими успехами ты заслужила немало льгот и можешь смело пользоваться ими (в пределах моего кошелька, разумеется). Целую тебя, моя взрослая, умная (последнее еще нуждается в усилении) дочь.
Мама.
Не многовато ли информации для одного письма? Обо всех мудрейшая Алла Константиновна вроде написала, вот только о любезной Софьюшке – ни слова. Отчего? Или она новому Лампиону не понравилась и контакты прерваны? Что-нибудь такое при первом же свидании вывезла и впала в немилость? Или по анкетным данным не прошла – по пятой, например, графе? У нас ведь – в семье, разумеется, – теперь с этим строго будет.
А как вообще относиться к появлению его – не только нового человека, но и вот такого, некогда блистательного, а теперь несколько потускневшего, как Высоцкий поет: «бывший лучший, но опальный стрелок». Кажется, там и впрямь на месте прекрасно отрегулированных отношений одни руины остались. И кто же он, этот всемогущий разрушитель? Что-то Нина не помнит среди лампионов никого с генеральской выправкой. Или он так искусно маскировался, если из того ведомства? Тут еще раз десять подумаешь, стоит ли возвращаться, если все стало настолько иным.
А вот Ивана Сергеевича, конечно, жалко. Как же это с ним могло случиться? Конечно, это предположение ни на чем не основано, но, может быть, не случайно, что это произошло, когда в Магадане Алик Пронькин находился – мальчик смелый, лукавый, проворный? Ну находился, ну выпивали они, может быть, – и что из того? А без Алика Ивану Сергеевичу во всем Магадане выпить не с кем было, что ли? И китайчики-дракончики здесь при чем? Будь она там, на месте, все эти обстоятельства легко бы разъяснялись, а отсюда, из-под Москвы, как разобраться? Оказывается, не только в семье Канторов тайны имеются. Вот и у них теперь немало загадок появилось. Как-то: откуда взялся блистательный Лампион? Куда пропала Софьюшка (ведь не пронеслась она и после того раза – даже в виде видения)? Кто споил Полякова? И где, наконец, этот безалаберный Виктор, художник факта, сколько можно его дожидаться? Или прикажете им всем троим глядеть теперь на дорогу в надежде, что на ней появится когда-нибудь Виктор дефис Борис, ждать до тех пор, пока дефис этот не исчезнет вовсе и Виктор и Борис не сольются в одно лицо? Только ей, Нине Дергачевой, чужого идиотизма не хватало!
Дни катились медленно, сонные какие-то. Общение с Татьяной не доставляло былого удовольствия, потому что и та, кажется, лишившись привычной среды обитания – их московской квартиры, жадно внемлющего салона, сникла, нахохлилась, валялась целыми днями в их клетушке с книжкой в руках, не желая даже показаться на солнце, ничем, в общем, не напоминала тот стремительный полупрозрачный стяг, развевавшийся над несущимися в темноте гривами и лохмами. Какое уж тут движение и полет, если праздное лежание, тихое затворничество, глубокая затаенность – в надежде только на что, интересно? Может, и правда лучше было бы, если бы слился бездарный (хотя это еще как посмотреть) художник с их ненаглядным Борисом, осуществилась бы их сокровенная с Анной Павловной мечта и каждая получила бы себе то, что хотела (одна – сына, другая – брата)? Тут и Нине бы кое-что осталось. Но где же его теперь взять, обманщика?
И к Нининому уточнению судьбы тех девочек – Антошкиной и ее компании – Таня отнеслась спокойно, равнодушно даже, словно не сама придумала нм мученическую смерть от колбасного яда: «Да? А мне показалось. Разве Лизавета об этом не говорила?» Да проснись ты, чучело гороховое (как тут не вспомнить ее вид, когда она вышла в первый и последний раз на утреннюю пробежку!), расправься, полети!..
Нет, так и будет дремать, чуть вскидываясь в какой-нибудь очередной придуманной глупости, пока не найдут ей ее Пироговского, или Малиновского, или какого-нибудь еще …овского (который будет, конечно, вылитый Лев Моисеевич – по своим деловым и семейным качествам) и не станет она стопроцентной Анной Павловной, такой же вроде загадочной и столь же легко исчерпаемой. Потому что это – не передающееся по наследству сумасшествие, а строго рассчитанная привычная поза, в которой бывают конечно, некоторые крайности, перебор исполнения, но в общем-то все обыденно и просто – кривляние от безделья. А она, Нина, при вас, простите, какую роль играет? Добросовестного зрителя с заранее приготовленным аплодисментом? Дюжего санитара со смирительной рубашкой (но это фигурально, конечно)? До чего же глупо и скучно все это. Пропало дето. А мамочка в Магадане думает, что она тут чудесно развлекается, приобщается и вообще. Тряпками, что ли, действительно заняться, если все так получается, что и радоваться совершенно нечему? Дать маме телеграмму – пусть денег пришлет. Чего теперь церемониться, если этот Лампион появился и мамочка там нежным цветом цветет? Пусть хоть рублями (своими, конечно) поделится. Но все-таки как ни считай – пропало лето!
Оставались только книги и еще мечта, когда будут получены от мамы деньги (потребность в них Нина подтвердила письмом, слать по этому поводу телеграмму было бы слишком нахальным, наглым даже, да и мало ли что Алла Константиновна могла подумать, получив столь срочное требование), тратить их безмятежно, но не без оглядки конечно, на приобретение, фигурально выражаясь, нового корыта – наше-то совсем развалилось.Интересно, сколько Алла Константиновна пришлет? Потому что мини – это восхитительно и обворожительно, но надо бы и о зиме подумать, не будешь ведь голяком по морозу щеголять. Шубейку какую-нибудь надо, но, упаси бог, не цигейковую, а какую – зависит от размера щедрот.
Потом, когда деньги (куда больше, чем Нина предполагала) пришли, кратовская жизнь и вовсе распалась, развалилась, перестала существовать в тех ее формах, о которых мечталось весной. Потому что не было уже ни духовного общения, ни декламаций с придыханием, ни деликатных, но настойчивых попыток проникнуть в соседний душевный мир и осторожных – пустить кого-то в свой, а было утреннее, чисто функциональное, без всяких разнеживающих факторов, чаепитие (а перед ним, само собой, средней протяженности пробежка по пересеченной местности), потом стремительные сборы – и айда на электричку («Нет ли каких-нибудь поручений? Не надо ли чего-нибудь привезти из Москвы?»). Потому что не было еще в жизни Нины такого, чтобы она могла свободно (но в строгих пределах, разумеется) и легко (без глупостей) тратить деньги на свои наряды. То могучее и многоцветное движение Мини, которым она восхищалась, шло словно рядом с ней, не имеющей достаточных средств для достойной экипировки, и поэтому вызывало глубоко запрятанную горечь. Теперь же появилась возможность полностью окунуться в него, оставалось только исследовать возможности московских магазинов, ателье, мастерских, на что, естественно, требовались время и силы. Но сил было, конечно, не занимать, а время изымалось из кратовской жизни, которая тем самым прекращалась для нее, Нины, почти совершенно. Ну да так ей, этой жизни, и надо!
Следовало еще где-то и складывать сделанные приобретения (сиречь победы – белые цветы белые цветы!),не тащить же все это на дачу – странно бы она выглядела в глазах коренных обитателей со всеми этими свертками и коробками, ну впрямь северный нувориш, а не была она им ни в коей мере, обжилась ведь уже давно, и не ее вина, что возможность тратить деньги, купить давно желаемое она получила только сейчас, – скрывать все это следовало где-то в Москве. Но где? Лучше, чем на Солянке, не придумаешь, если Стромынка пока занята перепуганным стадом, а в квартире Канторов все равно каждую минуту кто-то был, даже если основные обитатели и хозяева отсутствовали, да и Нина там уже примелькалась, и пускали ее, что называется, без звука. Там же, на Солянке, можно было не торопясь и примерить очередную вещь, обдумать все в комплексе с купленным ранее и тем, что еще предстояло купить. Оставалось только дивиться женской мудрости Аллы Константиновны, которая придумала ей это не то развлечение, не то поощрение, но явно тронула за какую-то очень интимную струну. Как же Нина и себе это раньше не чувствовала?
Но была в эти сладкие минуты и еще одна, неожиданно горьковатая, мысль: как же она с таким гардеробом, с таким комплектом занятых плечиков, коробок и свертков переселится на Стромынку? Где она там все это разместит, если опять придется жить в комнате на пятерых или даже семерых. Ведь там шкаф один на всех, да и украсть все это запросто могут, такое еще не перевелось. А отправить все это в Магадан к маме и вовсе нелепо – зачем эти вещи покупались, если они там, за десять тысяч километров от нее, пылиться будут?
Потом (опять-таки впоследствии, уже став той совершенной Ниной Сергеевной, по праву перешагнувшей порог строгого, но элегантного кабинета) она вспоминала, что уже тогда, в те глупо-счастливые минуты разглядывания этой мишуры, она смутно чувствовала измену, да что там чувствовала! – знала, помнила ведь те строгие, но прекрасные принципы, сформулированные при выборе экономической карьеры, и был там запрет на тряпки (отнюдь не случайный, как не случайными были и все остальные), однако не желала тогда знать, слушать самое себя, а видела и слышала только эти вещи, – попалась, в общем, на удочку, которую расчетливо забросила мудрейшая Алла Константиновна, и в новой для нее полосе счастья не потерявшая ни крупицы прежнего ума и ее, родную дочь, как дурочку подсекшая.
И была в эти дни еще одна встреча, угрожающего значения которой Нина тогда не поняла, а, напротив, обрадовалась ей даже, – удивительно странная встреча с Зиной Антошкиной в магазине (ну естественно в магазине, а где она еще могла состояться, если в тот период весь мир Нины в этих дурацких учреждениях заключался), в «Косметике» на Петровке. Давали какую-то импортную безделицу (будущая оценка), но в красивом флакончике или баночке, поэтому очередь змеилась толстым сытым удавом. И тут впереди мелькнул знакомый затылок. Сначала сработала оторопь: «Она!», затем – сугубо тогдашнее, ханжеское: «Надо встать к ней, тогда будет быстрее, а то вообще может не хватить!», далее – уже более разумное: «Ну да, вот так подойти, с выгодой для себя, потому что человек десять она таким образом обойдет, а раз с выгодой для себя, то, значит, и дерзко – пусть Антошкина не думает, что она ее боится. А давай, милая, разберемся, что там Нина в их комнате украла? Но это потом, когда купят то, что дают».
– Привет, – сказала Нина, продравшись, – я с тобой?
Антошкина за прошедшие полтора года сильно изменилась – Москва, конечно, и ее обработать успела, мощный шлифовальный круг. Даже похорошела Антошкина от этой пластической операции. Или уж так хороши были кремы и маски, за которыми они сейчас стояли?
Антошкина молча сдвинулась вправо, вернее – лишь изобразила это движение, потому что реально совершить его в этой толчее не было возможности. Однако и так было ясно, что она не имеет ничего против обществе Нины, по крайней мере – в данный момент и в данной ситуации. Это уже хорошо, а говорить про жизнь будем позднее.
Вывалившись из благоухающей атмосферы этого магазина, а там к тому же и душно еще, да и вообще, если все это долго нюхать, бензиновый чад Петровки свежим воздухом покажется, они разлепились, распались (до того спрессованные толпой), еще миг – и разошлись бы, чего, вероятно, каждой и хотелось, но Нине нужно было установить истину, восстановить свое чистое, черт возьми, имя, поэтому она сказала: «Подожди, если не очень спешишь. Может, пойдем куда-нибудь?»– «Куда?» – довольно безразлично спросила Зина, что было естественно, потому что эта встреча восторга у нее вызвать не могла.
Куда? Тут всяких точек, где можно присесть на минуту, схватить пирожок или выпить кофе (плохого, конечно) немало, но тесно везде, везде нужно, наверное, в очереди стоять, лучше подальше от этого торгового бедлама (вот истинная нота прозвучала, даже не нота – пока легкая тень ее) отойти.
– Пойдем в кафе на улицу Горького, мороженого поедим.
Антошкина беззвучно согласилась.
Они шли молча, размеренно-деловым шагом, словно на не очень спешную службу. Хорошо еще, что Нина в этот день приехала в Москву позднее чем обычно и покупками не успела обвешаться, у Антошкиной сумка тоже была, видимо, не тяжелая.
В кафе, к счастью, было почти пустынно, официантка тотчас приняла заказ: два «солнышка», два бокала шампанского («Только сухое, девочки», – сказала официантка. Ладно, пускай, если другого нет), два лимонных напитка. Едва ли не все меню этого учреждения. У Антошкиной возражений не было.
– Ну как вы там? – спросила Нина, когда эта формальность была улажена, разглядывая свою прежнюю знакомую, еще недавно похороненную и едва ли не оплаканную. Интересно, слышала ли Антошкина что-нибудь про колбасный яд?
– Мы-то? – спросила Зина, выковыривая из белого шарика цукаты. – Хорошо. А ты?
– Прекрасно. Я ведь теперь на экономическом.
– Да, кто-то говорил, – довольно равнодушно сказала Антошкина, – не жалеешь?
– О чем?
– Что факультет поменяла?
– А ты думаешь в академики выбиться? Докторшей от филологии стать?
– Где уж нам! – усмехнулась Зина, но понятно, что этот выпад ее задел. Ну и что? Так и надо. Она-то Нину не жалела тогда. Но главный бой еще впереди, поэтому здесь пока нужно сгладить, смягчить ситуацию.
– Я просто подумала, – сказала Нина, – ну будет диплом филологический, а дальше что? В школу идти? В библиотеку? В науку-то не попадешь.
– Ну, ты себя как все не считала, – продолжала злобствовать Антошкина. – Откуда же вдруг такое самоуничижение?
Ишь ты, словечко какое подцепила! Не зря для нее эти два года прошли, конечно. К пятому курсу она так оснастится, что и не подступишься, и про то, как на первом курсе всем в рот смотрела, – думать забудет. С ней, конечно, раньше нужно расправляться.
– А что же вы, такие скромные и честные, сплетни распускаете?
– Это про воровство? – тотчас догадалась Антошкина. – А ты хотела, чтобы про тебя нею правду рассказали?
– А зачем рассказывать? Промолчать нельзя было? Ведь я же уехала. Разве этого мало?
– Мало, – сказала Антошкина твердо. – Потому что ты уехала – и с тебя как с гуся вода. Это еще в то утро было видно.
А она, оказывается, неплохо держалась, если Антошкина так думает. Это уже кое-что.
– А ты хотела бы, – Нина старалась не заводиться, но рядом с этим железобетоном трудно совладать с нервами, – хотела бы, чтобы я всю жизнь страдала и переживала?
– Ненавижу я вас, – сказала Антошкина, – кому все легко и просто. Просто – поступить, просто – учиться, просто – переспать, просто – бросить. Ведь вам же ничего не дорого, понимаешь? Ведь вы же на все плюете! Как с такими вместе жить?
– Вот ты и решила от меня избавиться навсегда, да? Закрыть мне дорогу на факультет своей клеветой? А кто тебе дал право судить, что хорошо и что плохо? Кто тебя назначил судьей?
– Жизнь, – сказала Антошкина, – она не приемлет таких вот шелкоперок (ну, тут эрудиция Антошкину явно подвела, шелкопер не имеет женского рода, да и вообще это из другой области, совсем не то, что она хотела сказать, – ха-ха!).
– Успокойся, приемлет, – сказала Нина. – Только умнее нас делает. Не будь того случая, чем бы я до сих пор занималась? Латынь зубрила?
– Ничего, ты еще сорвешься!
– А если нет? – Черт побери, сейчас бы закурить, потянуть бы из той бубенцовской козьей ноги, но нет ее, да и курить тут, кажется, нельзя, но тогда самое время шампанского хлебнуть. – Выпьем! – лучше не заводиться, ну что ей доказывать, что она дура и синий чулок, не порозовеет она от этого. – Выпьем за твою честную и непреклонную позицию, которая мне помогла.
– Помогла? – недоверчиво спросила Антошкина. – А чем?
– Помогла. А больше тебе знать не надо.
Видно, Антошкиной и самой нелегко – вон как она ухватилась за это крохотное признание ее заслуг. А что, иной раз и чужая прямолинейность может помочь – собственную гибкость, например, обнаружить и проявить, только нм, носителям этой прямолинейности, от этого легче разве? Так пусть хоть немного порадуется, стоя на обочине, когда лавина стремительных амазонок проносится мимо нее. Обочина тут, правда, совсем не к месту – не мчатся ведь прекрасные всадницы по готовым дорогам, а несутся целиной, степью, ну пусть где-нибудь в стороне, счастливая, постоит, глотая пыль из-под копыт. Чем бы ее еще порадовать? Бросить бы ей что-нибудь в утешение.
Теперь уже жалко, что Нина сегодня застряла в Кратове (молоко у Берты Лазаревны убежало, всей семьей изгоняли противный дух с веранды, прежде чем сели завтракать) и не успела совершить победный рейд по магазинам. Все-таки жалко этой дуре французские тени бросать. Но, с другой стороны, чем дороже будет эта подачка, тем царственнее, величественнее сам жест. Так что не надо жадничать.
– И не будем ссориться, – сказала Нина, – ведь все в конце концов хорошо устроилось. Пусть каждая при своем останется. А это тебе на память о нашей встрече, – она вытащила из сумочки французские тени.
Ах как вспыхнули глаза у Антошкиной, этой почитательницы всего сложного, в корне отвергающей легкие пути к достижению высокой цели, или она и против такого соблазна устоит? Это было бы весьма обидно.
– Что это? – спросила Зина, – В магазине этой прелести не было.
– Ага, и не будет. Я раньше с рук купила.
– Так ведь это же дорого! – сказала Антошкина. Она еще не решалась прикоснуться к подарку, но по глазам было видно, что возьмет, можно не сомневаться.
– Не дороже денег, – парировала Нина, сама удивляясь, как естественно удается ей роль легкомысленной фифочки. – Да ты бери, бери. Я еще куплю, у меня денег хватит.
– Замуж, что ли, вышла? – теперь уже с откровенной завистью спросила Антошкина.
Ну конечно! Не признаваться же, что деньги Алла Константиновна прислала, а она вот теперь шикует на мамочкины деньги, – это явно снизит ситуацию. Ну а где она еще могла деньги взять? Украсть? На панели заработать (а что? занятно было бы и такую роль разыграть: «Ах, вы меня оттолкнули! А теперь я видите кто? Видите, что вы сделали? Но я все равно вас всех с потрохами покупаю». Но это оставим в запасе, для другого раза, да и дура Антошкина от страха перед содеянным под стол полезет). А жених – это звучит.
– Да знаешь, появился тут один. Может быть, и выйду.
– Ну, за твое счастье! – нашла верный выход Антошкина и подняла бокал с остатками шампанского.
За счастье отчего не выпить? Но посуду мы здесь бить не будем, тем более что счастья и в помине нет, ничего не сглазишь. Хотя такую вот хапугу вокруг пальца обвести – это, сами понимаете, приятно, но, конечно, счастьем не назовешь. А она сейчас, совсем разомлев, с вопросами привяжется: кто он, да какой? Ну какой-какой! Ясное дело, что принц, и пойдем отсюда. Берешь ты эти тени или нет? Я не заплачу, если и откажешься, они действительно стоят порядочно, и неизвестно, отважится Нина еще раз себе такие купить. А все Берта Лазаревна с ее несчастным молоком!
– Ну как вы там? – спросила Нина перед тем как проститься, когда уже вышли на улицу.
– Нормально. Каникулы сейчас. А я в приемной комиссии работаю. Хватились уже, наверное, надо бежать.
– Девочки все здоровы? Никого не выгнали?
– Ханбекова от нас ушла, еще в том году, перед весенней сессией.
– Вы уже на Горах?
– Да, будем в августе перебираться.
– Ну, привет. Как-нибудь загляну.
– Приезжай, конечно.
Ах как хорошо посидели! Все у нас прекрасно и замечательно. Да, про колбасный яд она не спросила, но ясно ведь, что чепуха.








