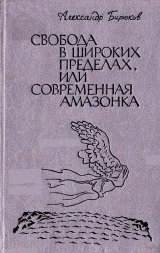
Текст книги "Свобода в широких пределах, или Современная амазонка"
Автор книги: Александр Бирюков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 35 страниц)
28
Тут подошла газета. Вернее, дата выхода уже подошла, на подходе была, а с материалами, как водится, полная нехватка, художниц-бездельниц днем с огнем не найдешь – им бы только на лекциях новые модели рисовать, модельеры доморощенные, а потому и неистощимые, корреспонденток с курсов (о группах уже и говорить нечего), которых Бубенцов бился собирал, тоже ни одну не поймаешь. Ну никого не поймаешь, никого нет, всем некогда, хоть ложись на эти листы, предварительно краской (или сажей?) намазавшись, запечатлевай волшебные контуры своего тела во всю его длину (но все равно на семь листов ватмана не хватит, надо еще кого-то положить, пусть, ногами одна от другой оттолкнувшись, две амазонки в разные стороны разлетаются – идея, а?), ну а вокруг каких-нибудь херувимов раскидать или купидонов со стрелами. Старомодно, правда, но красиво. Но ведь это – что? Мечты идиота, никто такую газету не пропустит, да и не нужна она, такая, никому, хотя, конечно, никакой порнографии в ней не будет и никаких злых идей, только прекрасные линии красивых тел. Ну вот, скажет Бубенцов, и оставьте их себе, и правильно, между прочим, скажет, нечего дурака валять, а изволь бегать с высунутым языком по коридорам во время перерывов, карауль преподавателей и бездарных вертихвосток, выбивай и вымаливай у (из) них заметки.
Суета, нервотрепка, бестолковость (плюс полное отсутствие литературных способностей у большинства авторов; Таньку, черт побери, – уже сто лет не видела, надо бы, преодолев страх, явиться к ним на Солянку как ни в чем не бывало, прийти пообщаться с этим талантливым полотнищем, знаменем и хоругвью, а то совсем чужие стали).
Вошла ты резкая как «нате» муча перчатки замш сказала знаете я выхожу замуж(ранний Маяковский, цитата по памяти, возможны неточности).
Простите, а замужество тут при чем? То есть почему – это понятно. Посмотреть, как челюсть у Льва Моисеевича отвалится. Он ведь думает, что покупает, что купил уже насовсем, на много лет вперед за две сотни в месяц (четыре визита по пятьдесят рэ, чаще, наверное, не будет), поймал ее на любви к тряпкам (…ловит нас на честном слове на кусочек колбасы, Булат Окуджава, «Черный кот»), а она – вот вам пожалуйста: «Знаете (очень это слово здесь на месте, «знаете» – сразу снижает ситуацию до обыкновенной, бытовой, расхожей), знаете, я выхожу замуж!» Монета(чашечка кузнецовского завода) покатилась, звеня и подпрыгивая. Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей… Я приближаюсь к месту своего назначения(отрывки школьной премудрости, оттуда же и строчки Маяковского). Ну хорошо, Льва Моисеевича мы таким образом непременно щелкнем. Но сама мысль-то откуда – не из этого желания щелкнуть ведь она родилась, да что за ребячество, право, разве с благодетелями так можно обращаться – щелкать… Мысль явно с другой стороны подвалила.
От той же умной Пугачевой – «ты ведь тоже не собираешься?». А после встречи с Розой и окрепла еще: если уж такая ненормальная особа себе иностранца отхватила, то уж нормальным-то, к тому же отнюдь не пренебрегающим правилами личной гигиены, и подавно пора – и не за каких-то Гегиных, а хоть за марсиан, если бы они и в самом деле существовали. И Софьюшкино известие тут, конечно, работало – Виктор исчез. А раз там исчез, то где-то, в том числе, может быть, и на Каховке, появиться должен – не сквозь землю же он провалился, где-нибудь да вылезет, ну вот и готовься. Какой из Виктора жених, говорите? Тут, конечно, думать и думать нужно, потому что возражений много, но ведь есть и аргументы за, те самые, что возникали потом на мягких полах полушубка, плавно летящего над рушащейся внизу землей, и будет тогда все это не на темной лестнице – головой об стену, и не в лесу неподготовленном – все волосы потом в смоле, а совсем в иных, куда более благоприятных условиях, и не будет уже мерещиться запах скипидара как недостижимого блага. Так что да-да-да, хотя и нет-нет-нет. Но думать об этом надо, если уже почти двадцать лет. И думать всерьез, а не за какими-то тенями бесплотными гоняться вроде Гиви.
Ну хорошо – всерьез. А всерьез – это кто? Гегин? Витя-художник? Те еще варианты, не правда ли? Ну так и что – не думать вовсе? Довольствоваться тем, что есть: вот этой квартиркой, твердым ежемесячным доходом и ролью подруги пожилого, но еще довольно прыткого мужчины? Немного, скажете? Не очень, но ведь у других и такого нет. А что нам, простите, другие? У нас своя жизнь, своя дорога, своя труба – будь готов, амазонка, вскочить на коня. Надо его только найти. Вот и поищи получше. А для этого не грех выспросить кое у кого, как это делается. Но не у Ханбековой, конечно, – неизвестно, как эта дурочка себя поведет, прямо бросается, словно это Нина виновата, что ее итальянец чем-то там болеет. Но можно у Антошкиной все разузнать, она-то ведь знает, наверное. Даже странно, что Антошкина ей эту новость еще в косметическом магазине на Петровке не выложила, когда они так неожиданно столкнулись. Разве новость того не стоит?
Отрываться от газетных дел было совсем некстати, но раз вопрос есть, его нужно выяснить. Засадив, наконец, художниц за раскрашивание полос с наклеенными заметками – блеклых, невыразительных, как какие-нибудь списки, даже странно было подумать, что не позднее чем завтра или даже сегодня вечером, если девицы не станут халтурить, все это заиграет и засветится и поскачут сверкающие амазонки по безлюдному коридору мимо дверей с табличками «Кафедра…», «Кафедра…» – вот пусть и стараются и поменьше курят, гуашью и кисточками их Нина обеспечила.
Она побежала на филологический факультет искать Антошкину – та наверняка в читалке сидит, если на какое-нибудь ответственное совещание не позвали, но если и позвали, то все равно она рано или поздно освободится и явится в читалку. К счастью (а то пришлось бы бегать еще и еще) Антошкина там уже сидела, книгами обложилась. Что они сейчас проходят, интересно? Но лучше об этом не думать, нечего без толку прошлое ворошить, каждому – дас зайн.
– Слушай, – сказала Нина после того, как обычный обмен любезностями (а с Антошкиной теперь – только так, как в лучших домах) состоялся, – чего это наша Ханбекова – замуж вышла?
– А, – сказала Зина, – разведала все-таки!
А что, спрашивается, разведала? И почему разведала, словно это государственная или военная тайна? Государство у нас, кажется, довольно лояльно к психам относится, жениться им позволяет – так что из этого тайну делать?
– Да я ничего не разведывала, – сказала Нина, – а она сразу кричать начала.
– Ну и правильно, – почему-то одобрила ее действия Антошкина. – Муж-то у нее знаешь кто? Твой Гегин.
Вот это да! Вот так итальянец – из каких-то Серег, не то Верхних, не то Нижних (какая разница?). Ну вот, достоялась, значит.
Можно даже представить, как это произошло. Стромынка. Ночь. В коридорах никого и лампочки только кое-где горят. Вася в отдалении, у своей двери тренируется с жесточкой, отчего по стенам носится сумасшедшая тень. Роза – у своей двери, вернее – под ближайшей к ней лампочкой, стоит, привалившись к стене, с книгой – днем выспалась, теперь наслаждается тем, что ей никто не мешает. Что она читала, интересно, – Камю, Сартра, Пшибышевского? Но об этом история, разумеется, умалчивает.
Но кто-то еще должен был сделать первый шаг. То ли Вася, не давая этой жесточке упасть, прискакал к ней со своей позиции и, все так же подбрасывая злосчастный мешочек с песком, устало просипел: «Дай попить!» – сам он не мог набрать воды из титана, потому что шел на какой-нибудь очередной рекорд, и Роза – из сострадания конечно – выполнила его просьбу, а дальше – проще: она его за муки полюбила, а он ее за что-то укусил… Или так: Розе понадобилась юридическая консультация по поводу какой-то ситуации в выпрошенной на одну ночь книге Кафки («Процесс», наверное) – ну за одну ночь она его, конечно, не осилит – за две, а то и за три, особенно если будет так отвлекаться, – и она сама пошла к нему, потому что слышала, наверное, еще с Нининых времен, что есть такой ненормальный юрист, который по ночам в жесточку играет, хотя, конечно, процесс у Кафки – не обычное судопроизводство, а имеет мистический, даже иррациональный смысл, но некоторые детали явно взяты из юриспруденции… Вот тут Вася ее и захватил без лишних слов – может, прямо к коридоре, или на лестницу уволок, обезьяна вонючая.
Ах, можно и еще очень сентиментальную версию предложить: Гегин обезумел от горя, когда Нина уехала (она ведь с ним не простилась), бродил по коридорам, звал ее (Мисюсь! Где ты? – А. П. Чехов, «Дом с мезонином», хотя едва ли Вася помнит этот тоскливый зов, не обратил на него внимания, даже если и читал), верной собакой, оставленной хозяином, укладывался под дверью комнаты и ждал, ждал., принюхиваясь к мелькавшим юбкам и шароварам (Роза носила и такое). Ну а отчаявшись, пошел за ней, когда позвала, – Роза ведь чаще других около него была, читала по ночам неподалеку от того места, где он лежал…
– Вот как? – сказала Нина. – Интересно. Поздравляю. А в зону «Е» они как попали? Там иностранцы живут.
– Его из профилактория не выпускают. Он с опытом своим не расстается.
– С каким опытом? Это с жесточкой, что ли?
– При чем тут жесточка. Он так и учится с первого курса – на одной памяти. И, представляешь, все без троек сдает. У них на факультете целая заваруха из-за него – упрашивали, собрания устраивали, врачей приглашали. Боятся, он не выдержит такого напряжения, а он говорит, что теперь и вовсе не может взять книгу в руки – за три года читать разучился. Вот его и держат в профилактории постоянно, чтобы подкармливать и за здоровьем следить.
Ну Вася! Ну чудило! Такой, наверное, один на весь Советский Союз. На каком он теперь курсе-то? Да на четвертом. С ума сойти – и все в голове держит. Гений да и только. Но разве можно было об этом подумать, когда он с жесточкой по коридору мотался и потом от него как от собаки какой-нибудь разило? А он, оказывается, гениальный обезьян.
Ну ладно, хорошо, – он гениальный. Но Нина-то в чем виновата? Почему Роза на нее чуть с кулаками не кинулась? Она ей, можно сказать, мужа под дверь положила, и не какого-нибудь замухрышку, а гения, как сейчас выясняется, а Роза ее словами разными обзывала – почему? Пуркуа па, как иностранцы в их секторе «Е» говорят.
Зина на это «пуркуа» тоже невнятно реагирует, тянет чего-то.
– Почему? Знаешь, он ей день на третий или четвертый говорит: «Снимай свой халат и шаровары. Ты Нинка – и хватит меня обманывать». Это – молодой жене. Ну, она, конечно, в слезы, потом взбесилась, потом к нам прибежала. Мы и не думали, что она когда нибудь откровенничать будет, а тут уж, наверное, просто не выдержала. Она и тебе собиралась написать – чтобы сняла ты с него свое колдовство или проклятье. Она в это верит. Ты не получала?
– Не получала.
(Может, она не написала, – смешно ведь в такую ерунду верить. А может, Алла Константиновна то письмо перехватила. Не хочется так думать про корректную и мудрую мамочку, но очень уж она быстро ее с Оротуканом в тот вечер разоблачила: «Возьми халат и тапочки. Больше в том доме ничего не нужно». Значит, информацией из письма этой сумасшедшей воспользовалась? Или природная мудрость и большой жизненный опыт сработали?)
– Теперь понимаешь, почему она тебя боится?
– Ясно. Но ты-то ведь не думаешь, что я его околдовала или еще что?
– Не думаю. Но только ты к ним не ходи, пройдет у него это все равно.
– Не пойду, конечно, не бойся. Ну, спасибо, что все разъяснила. Девочкам привет.
– Передам. Ты не пропадай.
Ладно, не пропадет. Хотя еще неизвестно, как вести себя в свете открывшихся обстоятельств. Ничего вроде и не случилось, но… и случилось что-то – на это ведь тоже нельзя глаза закрывать. Когда кто-то, даже пускай такой пахучий обезьян, твоим именем молодую жену называет – это кого хочешь восхитит и растрогает. Тут и сама не захочешь, а в сентиментальность впадешь.
Темнеет дорога приморского сада легки и свежи фонари я очень спокойная только не надо со мною о нем говорить
А надо ведь еще и о газете подумать. Что они там намалевали, интересно? Или вообще ничего не малевали – разбежались, гадючки, пока она у Антошкиной разные дурацкие обстоятельства выясняла? Очень ей надо было знать, почему на нее Ханбекова злится, без этого она, конечно, прожить не могла! Вот и ищи теперь их, капризуль и насмешниц, снова по всему факультету, а они, может, не будь дурами, уже домой укатили.
Нет, однако, вернулись – в буфет спускались, но все равно хорошо, что она быстро с Антошкиной закруглилась.
А ночью приснился сон. Словно она снова в родном Магадане, в котором не была уже полтора года (надо же, как время летит!), – и она тоже летит, кстати. Это во сне: словно плавно, на уровне второго-третьего этажа, она передвигается по (скорее – над) улицами Магадана (а в этом прекрасном городе ни троллейбусов, ни трамваев нет, поэтому можно не бояться, что зацепишься за провода). И сначала не ясно, как ей это удается, – просто летит и все, а дело происходит, наверное, в конце августа, в теплый, безветренный, золотой какой-то вечер, и потому, что погода так великолепна, на улицах много народу, все, кто вышел, спешил куда-то, превратились в гуляющих, и все теперь задирают голову и рассматривают ее – без страха и ликования, а просто с интересом: кто это там летит? А это она – здравствуйте, привет, давно не виделись. Но на чем же она все-таки летит? Не на метле, конечно, оставим ее Розе Ханбековой, и не на вонючем полушубке – можно представить, с каким недоумением, презрением даже смотрели бы дорогие земляки на болтающиеся рукава, а иного отношения такой транспорт и не заслуживает. Нет, у нее под ногами новый, благородной темной расцветки ковер, который степенно, как и полагается дорогому предмету, парит, проносит ее мимо знакомых зданий (надо Льву Моисеевичу когда-нибудь, со временем, намекнуть, что ей такси ковер нужен, просто необходим, когда она выскакивает и включает проигрыватель, но ведь он стоит, наверное, черт знает сколько, да и телевизора у нее еще нет, но все равно копер купим), над головами зевак. «Посмотри, – говорит она, – а вот эти четыре человека – единственные непьющие в Магадане, – и показывает на темные, но едва ли из металла (скорее – крашеный гипс, только как он столько лет мог выдержать) фигуры, установленные на фронтоне театра, – и знаешь почему?» Только кому она это говорит, простите? Кто это у нее в собеседниках сегодня?
А это Гегин, сидит по-турецки в центре ковра, Ханбекова, что ли, научила, и разглядывает открывающийся город. Слава богу, что он хоть сейчас со своей жесточкой не дергается. «И почему?» – степенно спрашивает Гегин, разглядывая эти фигуры, а Нина силится вспомнить их – кто они? колхозница со снопом? или шахтер с отбойным молотком? и никак не может вспомнить, хотя видела их, конечно, тысячу раз, но не приглядывалась специально. «А потому что высоко – никто поднести не может». – «Смешно», – говорит Гегин. Ему, конечно, смешно, он не знает, что этому анекдоту лет, наверное, тридцать.
Сейчас бы за театром повернуть, подняться по Школьному переулку на Портовую, а там подрулить к родным окнам, посмотреть, как мамочка поживает, что делает, может, и старец на месте окажется, но ковер вроде неуправляемый, то есть летит куда хочет и повернуть его нельзя. А чего он хочет?
Театр мы, значит, осмотрели, выплываем на перекресток около универмага «Восход», – черт побери, когда оказываешься вот так, посредине хоть и маленькой, но все-таки площади, даже страшно становится, потому что хвататься не за что, словно раньше можно было на каком-нибудь подоконнике спастись. Хорошо еще, что снизу, от автовокзала, не дует и ковер летит спокойно, только чуть покачивается, но не бросает его резко. Только куда мы все-таки летим?
– Тебе интересно? – спрашивает Нина Гегина, все так же возвышающегося в центре ковра, тот согласно кивает. Что-то здесь не то: или трусит Вася еще больше, чем она, или он вообще не Вася – откуда у Гегина такая степенность? Или правильно про Магадан говорят: дальше едешь – тише будешь?
Над сквером против Дворца культуры профсоюзов ковер-самолет (а действительно ведь сам летит, без всяких моторов, нарушая тем самым все законы физики, но ведь это во сне, это же только снится, так что пускай летит, ничего он не нарушает и не разрушает), ковер-самолет приостановился, прицеливаясь, потом края его стали загибаться, а середка вроде мелко задрожала (ну прямо «Ил-18» в начале полосы, перед разбегом), и вот так, свернувшись в трубочку, он кинулся прямо на Дворец, на его сверкающую стену, словно собирался об нее разбиться, – то-то стекол полетело бы на головы прохаживающихся перед входом родных магаданцев, – но, видимо, разглядел, хитрец, что-то там открытое или сам сделал, чтобы открылось, хотя высоченные окна зимнего сада у Инны Борисовны никогда не открывались (но на то и сон, чтобы было не так, как в жизни), и они влетели прямо в зимний сад, чуть ли не сквозь огромную клетку с волнистыми попугайчиками, а он, этот волшебный ковер, только чуть приоткрылся среди этих пальм и аквариумов, чтобы пассажиры увидели, где они, и перестали бояться – заботливый какой! – и снова сомкнул края и теперь уже и – вовсе – стремительно, кренясь и проваливаясь, понесся, с тихим шуршанием преодолевая неведомое пространство. А потом вдруг гул и невнятные голоса, ковер распахивается, он стоит в метрах над землей, и что вовсе не земля, а пол сцены, и огни за рампой, большой зрительный зал, наполненный людьми, и ковер медленно опускается, ложится на пол, словно он не чудо из чудес, а обыкновенное покрытие для пола, по которому всякий может ходить. Вот ведь какие дела!..
Но вы посмотрите на Васю! На нем вместо линялой ковбойки и мятых брюк темная, расшитая блестками рубашка с отложным воротником и такое же темное трико с какими-то золотыми узорами на поясе и бедрах, прекрасно рисующее все достоинства его развитых ног. А Нина – и вовсе голая в своем сверкающем светлом (для контраста, наверное) костюме ассистентки – танцующей такой, кошачьей походочкой идет к нему с блестящим подносом в руках, а на подносе, конечно, злополучная жестка, – даже здесь, во сне, без нее нельзя было обойтись, – только, конечно, несколько приукрашенная, расшитая теми же блестками. Сейчас она будет сверкать и переливаться, подброшенная этим гимнастом-виртуозом перед притихшим в немом изумлении залом.
Вот тут Вася и показал, каких вершин совершенства он достиг. Сверкающая жесточка перелетала у него с одной ноги на другую, спереди – за спину, откуда он ее точненько возвращал снова вперед, она то спокойно покачивалась у него перед грудью, то взлетала все выше и выше, неизменно возвращаясь при этом, словно была привязана к его ноге. Прибавьте сюда виртуозное соло на ударных, которое сменило гремевший сначала оркестр, и гигантские махи, которые проделывала неизвестно откуда взявшаяся трапеция (как ее только повесили прямо в зале, над рядами? люди же внизу! – но это все сон, сон, здесь все может быть…), а на трапеции – чудом удерживающийся, но держащий Васю под прицелом не то ружья, не то фотоаппарата, с длинным тяжелым стволом-объективом архитектор С. (он-то здесь для чего?).
И вдруг, подержав эту жесточку совсем как ручную – близко, Гегин посылает ее стремительно вверх – так высоко, что ее видит, да и то не до конца полета, только Нина, потому что жесточка улетает за портал, выше колосников и, может быть, выше крыши. Гремит напряженная дробь барабана, а этой сверкающей штуковины все нет и нет, и вдруг лязг тарелок, и на сцену падает, но с небольшой, наверное, высоты, взъерошенный и мятый какой-то… Петя, тот самый Петя, в докурсантском еще виде, смущенный девятиклассник, который собирался не то в кружок в Дом пионеров, не то в кино, а Нина его не пустила. Зал взрывается ликованием: надо же! была жесточка, мешочек с песком – и вдруг живой человек, к тому же знакомый некоторым из присутствующих. Мама и почтенный старец (вот он какой) проворно выбегают с двух сторон и вручают цветы. Кому? Пете. Но ему-то за что? Это даже неприлично, если вспомнить все случившееся тогда. Чудеса да и только.
Но чудеса, оказывается, только начинаются. Следуя неведомому (ей, по крайней мере) сценарию, Нина кидается за кулисы, а там Софьюшка (и ее, гады, приплели) уже стоит наготове с новой такой же жесточкой. Нина торжественной горделивой походочкой приближается к Гегину с этой блестящей ерундой на сверкающем подносе… Следует несколько виртуозных пассажей, снова сильнейший удар, жесточка улетает в неведомое под треск барабана, стремительные махи архитектора С. над замершим залом, лязг тарелок – Алик Пронькин собственной персоной, черт бы его побрал. Алла Константиновна и блистательный Лампион кидаются с букетиками.
Ну чудеса! Но не могли, что ли, Алика там как-нибудь приодеть, если решили на сцену выпустить? А то ведь срам один: выглядит как когда-то на кухне – в бумажном спортивном костюме и селедкой от него, наверное, пахнет. И это в то время, как, обратите внимание (Нина сама только что заметила), мамочка-то вскакивает на сцену в самом настоящем мини, хотя ей это вовсе не идет, да и Лампион в джинсах и какой-то модерновой курточке, а Софьюшка (в следующий раз снова можно будет убедиться в этом), скромная, тихая Софьюшка – разряженная и накрашенная, как молодящаяся красотка из ресторана, ну прямо шлюшка какая-то. К чему это, а?
Но подумать некогда. Софьюшка – ах, бедненькая, что с тобой сделали, но ведь все это снять и стереть можно, так что не переживай, – снова кидает ей на поднос сверкающий мешочек. Гегин, позабавлявшись им, забрасывает его к чертям собачьим (грубо, конечно, но как прикажете еще этот склад призраков называть?). Томительная дробь. Лающий вскрик тарелок. Кто там на очереди? Ну конечно Гегин. Сразу два Гегиных на сцене, один – блистательный артист, второй – мешковатый охламон. Обезьян и негодяй (хотя не только он, конечно, виноват в том, что случилось тогда на Стромынке). Публика наверняка не понимает, что это один и тот же человек, и привычно аплодирует. Мама и Лампион с букетами. Но почему все-таки Гегиных двое? А есть ведь еще и третий, который в зоне «Е» под надзором врачей обитает. Но это в жизни, а здесь – сон, сон, и нечего допытываться, во сне все бывает.
Следующий! Гиви. Ну, тут явная промашка. Не было у Нины с ним ничего, кроме одной сигареты на двоих в Московском гораэровокзале, а это даже поцелуем не назовешь. Могло ли быть? Может быть, кто знает. Но если по такому принципу представление устраивать, то это бог знает кого еще выставить можно. Тут они ошиблись, конечно, но об этом одна только Нина знает, так что ладно, пусть.
Следующий! Витя-фокусник. Два фокусника на сцене – не много ли?
Следующий! Лев Моисеевич. И его не пожалели. Однако держится он молодцом, не хуже других выглядит, несмотря на возраст. Но его, конечно, зря потревожили, можно было бы оставить в покое такого почтенного человека. Или его для финала как некий апофеоз выставили – именно из уважения к его заслугам? А теперь – общий поклон и уважаемую публику просят расходиться?
Но нет, представление не кончается. Гегин, хотя и взмокший, не покидает своего поста на сцене и даже косится, несет ли она новую жесточку. А зачем еще забрасывать? Не было ведь никого больше, всех уже показали, даже лишнего Гиви вытащили.
Но снова жесточка летит под небеса (крышу Инне Борисовне придется после этого спектакля ремонтировать, вся в дырах будет), дробь барабана, махи такой же сумасшедшей трапеции, замерший зал, и сейчас лопнет этот воздушный шарик, потому что не было никого больше. Вот смешно будет, когда он лопнет. Звон тарелок. Ну! Да что же это такое, черт возьми, – еще один появился, но ведь не виновата я!
Однако оставим этот вопль Катюше Масловой и посмотрим, кого нам Гегин послал? Хотя когда смотришь вот так сзади, много ли увидишь? Рост – выше среднего. Джинсы и свитер. В руке почему-то портфель-дипломат. Не расстается он с ним, что ли? Брюнет. Надо бы лицо запомнить, а то потом встретишь и не узнаешь, но Гегин оборачивается и шипит с застывшей на лице улыбкой: «Жестку тащи!» и слово не совсем хорошее прибавляет. Ах ты пенек сибирский! И этот «дипломат» на нее сердито смотрит: что же это вы своих обязанностей не выполняете! Но ты-то уж, голубчик, помолчи, тебя ведь и нет еще вообще – один эфир воздушный, хотя ты уже и с портфелем.
Нина без особого восторга повинуется и просит протягивающую ей новую жесточку Софьюшку: «Хватит! Выкинь ты их всех куда-нибудь!» А эта намазанная кобыла изумляется, сердится даже: «Как можно, Ниночка! Это же счастье такое!» Тебе бы такого счастья!
Удар. Треск. Тарелки. Теперь солдат демобилизованный. Китель еще снять не успел, сапоги на штатские ботинки не сменил, а туда же. Видишь, Софьюшка, какое счастье?
Но и это еще не все. Новый удар (и откуда только у Гегина еще силы берутся?) – теперь какой-то дяденька степенного вида: не то университетский преподаватель, не то хозяйственник с интеллигентной рожей. Надо бы их всех запомнить, лучше даже записывать – вот они все, голубчики, стоят, ни один никуда не уходит, даже робкий Петя на сцене до сих пор мается. Но как записывать, если она все время но сцене носится между Гегиным и Софьюшкой и подносик все время в руках?
Трах-тара-рах! Архитектор С. Ну этот ладно, хватит ему на трапеции носиться, расшибется еще, пусть на сцене спокойно постоит.
Трах-тара-рах! Работяга, тоже в сапогах.
Трах-тара-рах! Ну а этот на иностранца похож, усики, волосы мелко-мелко вьются. Разберемся.
Трах!
Трах!
Трах!
Боже, сколько их! Уже целая толпа на сцене. Алла Константиновна и шустрый Лампион уже не подбегают к каждому с букетом – цветы, наверное, кончились; и сил больше нет, стоят по краям сцены, как часовые, – и только кланяются, когда новый претендент (хорошо, что хоть такое слово подвернулось) появляется. Хотя они-то здесь при чем? Но кланяются, как китайские болванчики.
И у Нины уже сил нет совсем. С каждым таким появлением она чувствует себя все хуже и хуже, она уже боится смотреть на свои руки и ноги – такими они стали старыми, дряблыми и противными, она толстеет и толстеет с каждым разом, расплывается прямо на глазах, и все тело уже в ужасных складках и обвислостях. И та жалкая, хотя и блестящая концертная одежонка, что была на ней в начале этого сумасшедшего вечера, износилась, болтается на ней лишь несколькими лоскутами, да и те обрываются один за другим и падают на пол, и вот уже на ней ничего нет, совсем ничего – старое, жалкое, дряблое тело выставлено на всеобщее обозрение, и даже живот не прикроешь, потому что в руках этот дурацкий подносик с очередной жесточкой.
«Но я же бегать буду каждый день, всю жизнь!» – хочет крикнуть Нина, но когда уж тут кричать, если только успевай поворачиваться, взбесившаяся Софьюшка все сует и сует ей новые жесточки и смотрит на нее с неизменным восхищением.
Но почему Инна Борисовна, властный директор этого учреждения – Дворца культуры профсоюзов, не выйдет на сцепу и не скажет во всю мощь своего хорошо поставленного голоса: «Немедленно прекратите это безобразие! Я завтра же утром доведу до сведения надлежащих лиц, что вы здесь себе позволяли. Юрочка, уберите свет со сцены!» Но не выходит почему-то, и невидимый Юрочка свет не гасит. И доколе, доколе это будет продолжаться? Ведь и зрители уже не визжат и не аплодируют…
А где, кстати, они? Словно очнувшись, Нина видит совершенно пустой зал с нелепо висящей над рядами трапецией. Вот и мамочка с Лампионом исчезли, словно их кто-то выключил. А вот и Гегина нет – тоже выключили. И Софьюшки наверняка нет, можно не оглядываться. Теперь уже ничего нет – ни сцены, ни кулис, ни этого Дворца, есть только какое-то пространство, какая-то поверхность, может – просто земля, на которой стоят десятка три-четыре очень разных мужчин и перед ними она – старая, безобразная женщина, на которую они смотрят, однако, без отвращения, но и без вожделений, конечно, – как на нечто очень привычное: ну есть ты и ладно, но не пора ли все это сворачивать, наконец?
Правильно, ребята, давно пора. Сейчас я буду просыпаться. А вам – общий привет. Но жить я буду, оказывается, долго.
Жалко только, что никто эту группу не сфотографировал и нельзя будет проверить, сбывается гегинское предсказание или нет. А всех вас, голубчики, разве запомнишь? Ну, привет, стало быть. Или до свидания?








