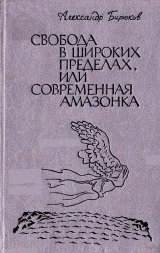
Текст книги "Свобода в широких пределах, или Современная амазонка"
Автор книги: Александр Бирюков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 35 страниц)
Но идти не хотелось. Была, конечно, Софьюшка, кое-кто из одноклассников в Магадане застрял, двоечница Пылаева, например, но все это надоело. И вообще ничего не хотелось – ничего.
– Мам, – спросила в один из таких вечеров Нина, – как же это все-таки получилось?
– Ты о чем?
– Почему ты мне ничего не расскажешь об отце?
– Вероятно потому, что ты хочешь знать больше, чем тебе полагается.
– Но ведь это мой отец.
– Ну и что? Я тебе уже все рассказала, что нужно.
– А что нужно? Когда я была совсем маленькой, ты говорила, что он уехал далеко-далеко. Потом сказала, что он давно умер. Я даже не знаю, кто он был по профессии, откуда родом. А может, он жив?
Алла Константиновна молчала. Казалось, что она так углубилась в чтение, что и не слышит ничего.
– Наверное, жив, – сказала она вдруг. – По крайней мере, три года назад был жив.
– И ты мне ничего не сказала?
– А зачем тебе, девушке, знать все эти пакости? Думаешь, тебе бы лучше жилось?
– Но ведь это мой отец.
– Что ты заладила – отец, отец! Этот человек был с другой женщиной даже в тот день, когда я тебя родила. Потом он сказал, что зашел к ней проститься, сказать, что между ними все кончено. И остался. Он мне еще записки носил в родильный дом, а я уже все знала – нянечка оказалась соседкой той женщины, к которой он ходил.
– А ты?
– А я принесла тебя домой, и, когда все ушли, я сказала, чтобы он немедленно убирался тоже, что если он задержится в Магадане хоть на три дня, я пойду в горком. Тогда с этим было строго, а он был на партийной работе, правда, на маленькой, но тем более не пощадили бы.
– Я думала, он полярник.
– А тебя в тот момент вдруг прохватил понос. И так я испугалась, что не заметила даже, как он ушел. И вспомнила о нем, кажется, только дня через два, когда собралась тебя первый раз купать, потому что одной это делать чрезвычайно неудобно. Да и боялась я, не знала, как к тебе подступиться.
– Ну а если бы нянька тогда ничего не сказала?
– Не знаю. А может, это так и надо – ребенка родили и расстались? Меньше вранья, по крайней мере. Конечно, одной очень трудно, но пусть будут алименты, пусть государство больше помогает. А счастливых семей я не видала.
– Деньги он присылал?
– Сначала присылал, но я все отправляла назад.
– А как же дальше, мам? Неужели ты больше никого не любила?
– А зачем? У меня была ты. Разве этого мало?
– Но ведь это – все?
– Всего никогда не бывает, доченька. Есть любовь – нет детей. Есть дети – нет квартиры. Есть квартира – ссоры в семье. И так до бесконечности. Надо довольствоваться тем, что есть.
– И что же тогда счастье?
– У кого как. Для меня это – чтобы ты всегда была здорова. Для Лидии Ивановны – чтобы муж не пил. Гнедкиной – квартира нужна.
…– Мам, но это все какие-то осколочки…
– А я тебе и говорю, что всего никогда не бывает. Может быть, это далее и не нужно? Когда ты здорова, когда у тебя хорошее настроение, мне все равно, где мы живем – там ли, в Школьном, или здесь, на Портовой, или в пятикомнатной квартире в Москве, хотя у нас там никогда ничего не было. Мне все равно – десять тысяч рублей у нас с тобой на сберкнижке или только десять рублей в кошельке. Все равно – цыкнет на меня завтра Светлана Федоровна или улыбкой одарит. Понимаешь, даже маленький кусочек счастья может стать фундаментом, на котором человек построит всю свою жизнь. И будет счастлив, потому что построил свою жизнь на реальном счастье, а не на вранье.
– А тебе никогда не хотелось, чтобы отец вернулся?
– Вернулся? Нет. А вот когда ты вылезала из какой-нибудь особенно вредной болезни, из стоматита, например, – помнишь, какой у тебя был жуткий стоматит в три года? Хотя откуда ты помнишь…
– Ты рассказывала.
– Да, вот когда с тобой происходило что-то особенно хорошее, когда ты выздоравливала, золотую медаль получила, в университет поступила, мне очень хотелось, чтобы – как бы это сказать? – все видели, какая ты хорошая. И чтобы отец тебя видел. И чтобы где-то недалеко от тебя и я стояла. И больше мне ничего не надо.
– Ух какая ты эгоистка, мам!
– Что поделаешь! А ты за это иди ставь чайник.
Поздно вечером, когда они, еще почитав, укладывались и Алла Константиновна поднялась в постели и потянулась над приставленной к кровати лампой, чтобы погасить ее, Нина увидела на миг очертания старого, увядающего тела, и острая жалость к матери уколола ее. «Какая же я свинья, – подумала она. – Что я делаю? Как живу?»
– Мам, – спросила она минут десять спустя, – а почему эта нянька оказалась такой жестокой? Разве она не понимала, что нельзя тебе это говорить?
– Не знаю. Я тоже думала об этом. Может, они с той женщиной враждовали и она решила ей отомстить. А может, это женская солидарность. Может, какой-то мужчина обидел ее и она решила мстить им всем. Так тоже бывает.
– Но ты-то здесь при чем?
– Она меня защищала. Как же ты этого не понимаешь? А может, это тот случай, когда человек строит спою жизнь на собственном несчастье. И тогда он становится опасным для всех. Спи, поздно уже.
Значит, человек, построивший свою жизнь на крупинке счастья, – счастливец и благо для окружающих, а тот, кто строит ее хоть на здоровенной глыбе несчастья, – страдалец и язва – такая вот философия. Что-то в ней есть, наверное. Можно подумать. И один вывод уже напрашивается: свое счастье надо искать – хоть какое-нибудь, не полное не абсолютное, но хоть в чем-то и на сколько-то. Поищем.
А с отцом так и осталось все неясным. Маме он явлением счастья не кажется и не казался. Так-то вот, товарищи самцы, фокусники жизни, артисты жестки, пираты слова. Вот что думает о вас обо всех пожилая, неглупая еще женщина. Или это, может, только от тщательно сберегаемого несчастья? И чего тогда стоит вся эта концепция – что и на чем строить, к чему стремиться? Стоит ли она хоть чего-то? И как проверить? Это ведь не тесто – раз так поставишь, раз иначе.
Надо маме утром сказать, чтобы в субботу пирог с рыбой испекла. С палтусом у нее хорошо получается.
12
Все хорошо, только денег мало платят – младший библиотекарь без надбавок. Да, конечно, в их семье деньги никогда не были культом (однако просто так разбрасывать пятерки, дарить их оригинальничающим дурачкам, чтобы те жгли и называли это безобразие искусством, такого и ее душа принять не могла, тем более что в итоге-то она, Нина, осталась ему должна пять рублей и, значит, он за эти деньги вправе от нее что-то потребовать, а это уж и вовсе чепуха с каким-то гнусным и грязным намеком), не собирали их и не тряслись над ними. Да и на еду вполне хватает, и купить понравившуюся книгу всегда можно (пока она в библиотеку придет да пока ее обработают – месяца два пройдет как минимум). Однако, пряча в кошелек легенькую эту горсточку купюр (чаще всего почему-то пятерками – чтобы с Витей, что ли, удобнее было расплачиваться?), невольно думаешь: и это все? И противная, искусительная мысль: а дальше ведь немногим больше будет, после окончания университета. Ну надбавки за стаж работы прибавятся, а сам-то оклад и у специалиста-филолога с высшим образованием немногим больше будет. Потому что куда он, этот специалист, впитавший в себя премудрость литератур всех времен и народов, пойдет? Да вот сюда, в библиотеку, или в школу, как Софьюшка, а в школе тоже немного платят, если, конечно, не нагружаться часами как верблюд. Это когда реально смотришь на вещи, потому что всякие там аспирантуры с последующими учеными степенями, научными институтами и академиями – это ведь труднодостижимое или недостижимое вовсе, соблазн души, предел мечтаний. А часто ли они исполняются?
А отсюда следует и вовсе крамольная мысль: если за всю эту премудрость так мало платят, значит, она столько и стоит? То есть, может быть, стоит она и бесконечно больше, может, она и вовсе бесценна, как та эстетическая эмоция, что ни съесть, ни выпить, ни поцеловать, но пусть она и остается только эмоцией, платонической любовью, а профессию себе нужно выбирать совсем в другой сфере (не может же любовь быть профессией, это, извините, проституцией называется, а весталки ныне ни в одном учреждении не предусмотрены штатными расписаниями), выбирать профессию из группы «А», так сказать, где и материальное вознаграждение соответствующее. Значит, восстанавливаться в университете нужно на совсем другой факультет – пожалуй, лучше всего на экономический, чтоб попасть в эту группу «А». Или даже поступать в какой-нибудь откровенно технический вуз.
В пользу этих рассуждений было и то, что Нина до сих пор представить себе не могла, как это она явится на свой факультет, встретит своих бывших подруг. Это по горячим следам, когда улетала, казалось, что все это только недоразумение, глупая выходка с ее стороны и все скоро забудется. А теперь, издалека, невольно думаешь: кто она им, чтобы они ее простили и приняли обратно? Да никто. Вот то-то и оно.
И второе, что толкало от любимого филологического. Никто ведь ее там восстанавливать не будет – нет на то, как написал замдекана, никаких оснований. Значит, нужно будет заново поступать, без всяких скидок и поблажек, к тому же и со шлейфом мерзкой репутации. Так почему бы, если поступать по-новой, не поступать на другой факультет? А филология пусть останется несбывшейся любовью.
Однако, как учит Просвещенная Мать (сокращенно ПМ, что может быть еще расшифровано как Пропасть Мудрости) Алла Константиновна, нужно сосредоточить внимание не на нерешенных проблемах и неприятностях, а, напротив, на крупинках и осколках, которые зажаты в ладонь или валяются под ногами. Их-то как раз и рекомендуется поднимать, обдувать и лелеять. Как с ними-то обстоят дела?
Ну конечно же, как и следовало ожидать, главное счастье – работа. Странно, да? И даже чуточку смешно. Но не вся работа, конечно, а только та ее часть, которая может быть отдана общению с книгой, когда есть какой-нибудь закуток, где и откуда тебя никто не дергает, есть эта книга, будь то Сологуб, Достоевский, Цветаева или Бабель, и ты паришь, грезишь или хлюпаешь носом (Да нет, что же это в самом деле такое? По какому праву все это делается? Я с вами уеду; за каретой вашей побегу, если меня не возьмете, и буду бежать что есть мочи, покамест дух из меня не выйдет) —так сказать, реальность номер три, если вернуться к самолетным размышлениям, и осколок, по воззрениям ПМ Аллы Константиновны. Это Раз. Такое Раз, что его – может быть, права ПМ – на всю жизнь хватит, всю жизнь на нем построить можно.
Но ведь есть и еще кое-что. Пусть по мелочи, но есть все-таки. Ну, например, когда ты лежишь на старом, отслужившем свой срок в каком-то общежитии, а потому и не очень чистом матраце, лежишь на животе (в спортивном костюме, разумеется), поддерживая левой рукой мелкашку, выполняешь под присмотром архитектора С. стандартное упражнение, и отдача, войдя в плечо, прокатывается по телу и гаснет в пояснице – та-тах! – словно налетаешь на что-то. Физиология, конечно. К состояниям души и очередным реальностям отношения не имеет. Но без нее как? Это Два.
Три – это, наверное, Софья Исааковна, осколок родного разбившегося детства, подружка верная моя. Это, конечно, тоже из разряда душевного (или духовного?), только этот Витя, творец дурнопахнущего искусства, все время теперь между ними, а когда его нет, Софьюшка все равно сама не своя, словно все время прислушивается, не идет ли, не свистит ли под форточкой, как собачке какой (один из его излюбленных шедевров). Но и в этой своей душевной растрепанности она мила Нине по-прежнему.
Где-то тут, рядом с Софьей Исааковной, завсегдатаи библиотеки – и светящие издали, как настольными лампами, своими головами за столами читального зала, и такие, как бодрячок-боровичок Вадим Алексеевич, когда-то очень известный артист-певец, а сейчас на пенсии, но нее равно целые дни шатающийся по театру и к ним, и библиотеку, регулярно заглядывающий, раз они нее еще в одном помещении, а книги он любит, с яростью хватает припасенную новинку. Ни с одним из них, а их человек пять наверное, Нина еще и словом не перекинулась. Но что слова? Слов и про себя каждый много знает. Слова пока не нужны. Главное, что есть эти люди, единомышленники в тайном деле, которое пока или еще не началось, или надежно законсервировано, но раздастся команда (тоже неслышная, конечно) и каждый из них займет в нем свое место, и Нина рядом с ними. А пока можно и не здороваться; чтобы не выдать никому секрета. Вот это, пожалуй, уже не душевное, а духовное. Но не все ли равно?
Да, ну еще и мама, конечно. Мамочка. Строгая и аккуратная, порядочная и умна Алла Константиновна. Чуть про нее не забыли! А это уж и вовсе свинство. Разве это не тот осколочек добра и любви, на котором можно построить целую жизнь? Уж мама не подведет и не выдаст, это бесспорно. Только что это будет за жизнь? Размеренная, интеллектуальная, интимные чаепития и разговоры о возвышенном в первом часу ночи (так и до балета докатимся, но не сразу, конечно), будет вот такой бесконечный синий чулок на все оставшиеся голы. Но ведь не все же время беситься? Может, Хватит уже? Может, и хватит, но вот только как строить всю жизнь на этом осколочке, если она, возводимая таким образом, уже и сейчас непрочна, потому что лжи в ней немало: не знает ведь ничего Алла Константиновна об инциденте на Стромынке (она ведь Нину до сих пор, наверное, девочкой считает, ни про Петю, ни про Алика не догадывается даже), не знает, что никакого академического отпуска нет, есть отчисление без всякой надежды на восстановление, – вот сколько лжи в сравнительно еще небольшом и невысоком строении. Как же его дальше строить? Выйдет ведь все (или почти все) наружу, и здание развалится. Ну, положим, и Алла Константиновна, Премудрая Матерь, не без греха. Один неизвестный папочка чего стоит. И еще, наверное, что-нибудь есть, потому что в жизни все бывает. И это тоже здание не укрепляет. Так какое оно будет?
Но обратимся к другим частицам и осколкам – другим вариантам построек. Отец, например. Ведь что-то от него осталось, не так ли? Что-то от него есть в ней самой, Нине Дергачевой, иначе бы она просто не родилась, не продают ведь ни в какой аптеке тех капель или таблеток, о которых говорила когда-то Алла Константиновна. Тогда, по крайней мере, не продавали и не скоро еще будут. Значит, частица какая-то имеется и, более того, сама Нина – словно здание, возведенное на этой частице. Но можно ли его строить дальше? Отец-подлец (готовая рифма) – кто он, где он? Неизвестно. Алла Константиновна надежно укрыла эту тайну. Впрочем, ведь были же где-то метрики, как раньше называли свидетельство о рождении. Или они, метрики эти, в милиции остались, когда Нине паспорт выписывали? Там ведь оба родителя записаны. Есть, наконец, загс, его архив, там в книге какой-нибудь это тоже имеется. Или они не были с отцом зарегистрированы и там в графе «отец» – прочерк? И отчество – так, миф, вымысел, бытовая фантазия? Вот ведь какая, оказывается, Алла Константиновна фантазерка была, с государственными установлениями не считалась: захотела – понесла. От кого? От мифа. Глядя на нее сегодняшнюю, такое и представить трудно. Но, может, так оно и было? И тогда Нинины – вот только как это назвать? – ошибки, ушибы, оплошности… Не то, не так она о них думает, хотя слова подходящего еще не подобрала. Ну, допустим, случайности. Тогда эти случайности, может быть, и не случайны, если они от родной мамочки к ней перешли. Вот ведь какое, оказывается, и на чем здание строится!
Но о папе. Был бы он как некая материальная величина, можно было бы на что-то реальное рассчитывать. Ну пусть не на какую-то часть фундамента – об этом что говорить? – но хоть на материальное участие. Те же алименты, ведь заработок младшего библиотекаря невелик. Впрочем, какие уж тут алименты, если она уже работает? Нужно было их раньше получать – поступилась бы Алла Константиновна частицей чего-то, что и назвать трудно. Но ведь не поступилась, и на что теперь новые сапоги покупать – неизвестно. А у мамочки просить при сложившихся обстоятельствах – вылетела ведь из университета? – верх наглости. Так что придется обойтись.
Но пойдем дальше… Архитектор С. Благодетель, конечно, – взял в секцию сумасбродную девицу с полным отсутствием выдержки, из-за чего результаты самые худшие в группе: чего, спрашивается, приперлась? Но не будет же Нина ему объяснять, что ей мама бегать на стадион запретила, а ей нужно что-то такое, что и сама она не очень понимает, но что делало бы ее жизнь несколько иной, не такой, как у других, у всех, – словно бы сообщало ей, ее жизни, еще одно измерение, что ли. Вот это, пожалуй, главное. Вы думаете, что это простое «та-тах!» и лежишь на не очень чистом матрасе, а это ведь еще одна жизнь со своими радостями и огорчениями, даже если она, Нина, никогда не будет замахиваться не только что на мировые, но и высшие областные и городские достижения. И пусть в качестве компенсации за доставленное удовольствие архитектор, С. – тоже, судя по всему, сумасброд порядочный, потому что зачем ему, человеку не то искусства, не то производства, эта самая секция, щебетание легкомысленных любительниц, вьющихся вокруг такого серьезного, отнюдь не дамского занятия, как стрельба, а мужчин в их секции раз-два и обчелся, и нет среди них ни одного кандидата в рекордсмены, – пусть этот С. в качестве компенсации разглядывает ее, пялится на нее, когда она лежит впереди, раскинув для большей устойчивости (хотя какая уж тут устойчивость, если лежишь распростершись?) ноги, отрываясь от этого прелестного занятия только для того, чтобы скорректировать, глянув в трубу, выстрел. Пусть уж. И, может быть, совсем не таким сокровенным и радостным было бы, если бы он не глядел, то чувство отдачи, которое прокатывается по телу после выстрела, начинающееся от локтей, переливающееся потом в плечи, одним толчком проходящее по спине, по позвоночнику, чтобы коротко ткнуться потом в живот, словно она с размаху налетела на что-то. Даже нужно, чтобы он незаметно глядел в этот миг, иначе это словно кто-то толкнул тебя или неосторожно задел, как в автобусе. Достаточно ли этой радости, чтобы на ней что-то строить, что-то из нее выстраивать? Едва ли. Но и отказываться от нее не стоит, пусть и она будет.
Что же еще? Сослуживцы. Но тут пока все неясно, слишком много сразу вроде бы знакомых – иные тут чуть ли не с начала века, с раннего Нининого детства, работают, – но представших, когда Нина пришла к ним не как дочка Аллы Константиновны, а как самостоятельный человек, сотрудник, словно заново, и ничего в них теперь не поймешь. Ну и не надо. И так ясно, что фундаментов, постаментов и прочих оснований здесь не найдешь, – при всей любви к литературе, к книгам не будет Нина век слоняться между стеллажами и вести одна борьбу против всех (а как еще прикажете жить в женском коллективе?), хотя, конечно, внешне все было вполне благопристойно и Нина оставалась для пожилых сотрудниц все той же студенткой, как и десять лет назад, когда прибегала сюда из школы, ну а для тех, кто стал работать в библиотеке позже, она была студенткой уже с полным основанием – поступила ведь и даже проучилась несколько месяцев (только почему так мало? И что это у нее за болезнь такая? Эти вопросы тлели, как угольки будущей склоки).
В общем, с ними все пока неясно. С кем – ясно? Поэт Алик Пронькин пошел высоко в гору, сейчас он на каких-то командных должностях в молодежной печати. Раз или два мелькнули его стихи в периодике – библиотека ведь все получает, краеведы вылавливают. Но… «на воде следов не остается, даже если вилами писать», как справедливо было сказано кем-то и когда-то. Поэтому что о нем говорить?
Тихий Петя то ли всем назло, то ли открыв в себе неизвестные ранее запасы мужества, то ли убоявшись вступительных экзаменов в институт (но это едва ли – он хорошо учился), пошел в военное училище. Где-то один, тихонький, бедненький… Задним числом Нине жалко его. Но кто знал, что так получится? А теперь можно было бы ему письмо написать, взять адрес у родителей. Но что ему напишешь, кроме обычной банальщины? Вы служите, мы вас подождем? (Мы вас подождем говорили нам пажити мы вас подождем говорили леса).Что она – береза или осина – Петю ждать? Да и не собиралась она никогда за Петю замуж выходить. И ни за кого она пока не собирается. Так что же писать?
Надя Демкина, конкурентка и зануда, активистка УХО – ученического химического общества, тоже медалистка, справилась, конечно, с поставленной задачей и поступила на химфак в Казанский университет (Ну конечно в Казанский! Ведь оттуда вся отечественная химия вышла! Очень это важно, не правда ли? A могло быть лучше, если бы Она оттуда и не выходила вовсе. Был бы воздух чище, и вообще…). Блаженствует теперь в авторитетной вони и упоительном дыме. Далее на каникулы не прилетела – ей очень некогда, не может от науки оторваться. Будет потом вдалбливать сей предмет несчастным школьникам лет тридцать, пока не посинеет. С ней, конечно, тоже никаких контактов.
Кто же еще остается, кроме нескольких опостылевших за годы совместной учебы одноклассников, – одна только Катька Пылаева, двоечница-просветительница, но девка лихая и добрая. Пристроилась в какой-то конторе машинисткой, барахлишком импортным с первых зарплат разжилась – в общем, цветет девочка-Анютины глазки, так ее в классе прозвали за немыслимое сочетание цветов в роговице. Но – пьет! Это и первую же встречу стало ясно, когда около «Восхода» столкнулись и она потащила к себе домой. «Пойдем, – говорит, – поболтаем, только бормотушки сейчас захватим, чтобы разговорчик лучше бежал. Ты к ней – как?». «Век бы ее не видала!» – сказала Нина вполне чистосердечно, у нее этот напиток прочно связался с той панической историей совращения не то Пети, не то себя самой – лучше не вспоминать. «А зря, – сказала Катя, – самого цимеса не понимаешь». Цимес, кайф, балдеж – господи, откуда они только эти слова насобирали, с каких помоек? Ну, цимес – это, вероятно, из еврейского, какое-то старорежимное еще словечко. Балдеж – родное, доморощенное, хотя к новация, наверное, в словари еще не попало. А кайф – это уже из арабского через английский, оттуда, где наркотики, галлюцинации и полное блаженство в безумном состоянии. С ума они, что ли, посходили?
В кайфе, то бишь в балдеже, в балдежном состоянии, Катька была еще горячее и стремительнее, чем обычно, хотя и в трезвом виде инертностью не отличалась. Все рвалась позвонить своему «кадру», вытащить сюда, чтобы показать, и лучше не одного, а с приятелем каким-нибудь, чтобы и Нине скучно не было: «Поглядишь, какой парнище. С виду никогда не скажешь. Вроде неприступный дядечка, все на «вы», на «вы». «Екатерина Михайловна, вы машинистка от бога, только не торопитесь, пожалуйста». А в интиме такие номера откалывает, что и сказать нельзя, но интересно, в общем». Но кадр на телефонный звонок, к счастью, не откликнулся, а потом и Катька свалилась на ходу, как споткнулась, успокоилась наконец. Посидели, называется.
Вот и получается, что нет никого ближе и роднее Софьи Исааковны, любезной Софьюшки, умненькой и бестолковой (в практических делах), – готовая свежевыстиранная жилетка (для слез), касса взаимопомощи (для долгов без отдачи). Только что-то случилось с нею – словно кто-то испугал ее, выкупа потребовал или измены любимому делу, и она теперь все на дверь глядит со страхом и надеждой. Знаем мы, кто этот инкогнито – фокусник жизни, художник факта. Но неужели Софьюшка, умная и добрая, не видит, что он просто хлыщ и пижон, несчастненький дурачок, которому нужно кого-то унижать и третировать (вот словечко новомодное, употребляемое, однако, в совершенно неверном смысле – в значении «угнетать, терроризировать»), чтобы казаться самому себе серьезным и значительным? Но не слишком ли дорогой ценой он покупает величие, и кто ему дал право на эту сделку?
А с Соней о нем говорить бесполезно. Сама она как-то спросила Нину: «Ну как тебе мой Виктор?» – и уставилась на нее, а в глазах – тревога и радость. Как ей объяснишь, что он фокусник и садист, если она через твое плечо на дверь смотрит?
Это уже обратный счет начался. Вспомним тогда тир – осколочек № 2, и маму, ее любовь и требовательность, умные глаза и небольшие карманные деньги – крупинка № 1. Вот и все основания для построек. Небогатая пища для размышлений.
Но надо было и что-то решать – то есть оставить все как есть, ничего не делать и отдать следующие восемнадцать (примерно) лет на то, чтобы ежедневно и ежечасно повторять подвиг дорогой мамочки, умной Аллы Константиновны, несравненной ПМ, – но это исключено, это невозможно, она не сумеет, не справится, не удержится, – или (значит) сделать то, что надо. Раз надо – значит надо (но разве это не чудовищно – платить такую цену… За что, спрашивается? За высокую ярость мести – вот вам всем, прячьте головы под подушки, хотя сама ведь виновата, если правду говорить, трудно было, черт побери, встать и занять им очередь за этими паршивыми макаронами с сыром). Так за что же она будет платить? За упрямство, за гордыню несусветную, за наглость, если хотите. И уж вовсе не за наслаждение какое-то, потому что не было его вовсе в ту ночь, и не ночь даже, а какие-то пять минут, когда скрипела кровать и он над ней опускался и поднимался, а она все ждала, когда закончится эта гимнастика, потому что боялась, что Антошкина все-таки встанет, зажжет свет и устроит скандал или слабонервная Оля Лобзикова забьется в истерике и все равно скандал получится, и столкнула его, как только наступил перерыв, громадного урода, чемпиона Стромынки по жестке.
А теперь надо избавляться. И весь мир сошелся на этом, словно больше ничего нет вокруг – только она и это дело. А ведь надо еще и маме сказать – ну хотя бы для того, чтобы объяснить свое отсутствие на день или два. Не будешь ведь врать, что у Софьюшки ночуешь, – мама увидит, что ее на работе нет, – или в туристический поход пошла, на Нюкле загорала (это в феврале-то?). А что еще придумать? Уехали на соревнования в Оротукан? Там и тира, кажется, нет. Но маме-то все равно, она этого не знает.
Ну так поехали, что ли? Наверное, так и придется. Потому что сказать маме, что она идет на аборт, – это… Это неслыханно, чудовищно, это приобрести себе злейшего врага на всю оставшуюся жизнь вместо песчинки, камешка для фундамента, не поймет ведь ее умнейшая Алла Константиновна и проклянет с высоты своего целомудрия, своих чистоты и порядочности. И правильно, наверное, сделает – только как после этого жить дальше?
А сказать можно Софьюшке – все, без утайки, и после пожить у нее день или два, если будет неважно и нельзя домой появляться в таком состоянии. Софьюшка все поймет и не осудит, готовая свежевыстиранная жилетка для рыдании и стенании, она и Виктора, наверное, на эти дни отсрочит, не хватало еще, чтобы и он в этой гнусной истории как-то участвовал. А Софьюшке можно довериться.
Но вышло отчего-то все не так.
– Мам, – сказала вдруг Нина и потянула из сумки, которую только что аккуратно уложила, совершенно ненужные для того дома вещи, – я ведь не на соревнования еду.
Алла Константиновна молчала.
– Я не в Оротукан еду, – сказала Нина. – Понимаешь?
Она обернулась и натолкнулась на сухой, твердый взгляд матери.
– Но я все равно пойду, – сказала Нина и села около сумки.
– Иди, – сказала Алла Константиновна, помолчав, словно собираясь с мыслями. – Возьми халат и тапочки. Больше ничего не нужно.
…Чернеет дорога приморского сада желты и свежи фонари я очень спокойная только не надо…Нет, лучше так: как родная меня мать провожала тут и вся моя родня набежала, гармошечка с перебором заливчатая.
– Ну, что ты сидишь? – спросила Алла Константиновна. – Пойдем. Я пальто твое и сапоги домой заберу. Там так принято.
Все знает, мудрейшая, хотя Нина голову может дать на отсечение, что не была она в этом учреждении никогда, – по крайней мере, сколько Нина себя помнит, не расставались они ни на день, если не считать студенческих месяцев. Но, наверное, если в женском коллективе всю жизнь работаешь, никаких для тебя тайн в жизни не остается, там все знают.
Ну пошел за ради бога небо ельник и песок невеселая дорога…Или вот еще к ее случаю хорошо подходит: – однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел был сильный мороз…








