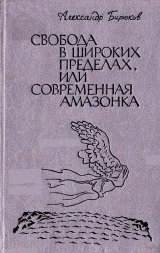
Текст книги "Свобода в широких пределах, или Современная амазонка"
Автор книги: Александр Бирюков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 35 страниц)
– Флаг РСФСР не советую, – продолжал свое рассмотрение Лев Моисеевич. – Прохожие сочтут наше жилище казенным учреждением и пойдут с жалобами и заявлениями. А их рассмотрение, как я понимаю, не входит в вашу компетенцию.
Тоже верно. Но ведь идею положено защищать, особенно – свою собственную. Так что попробуем.
– А если иностранный? – спросила Нина.
– Еще лучше! – рассердился Каплун-Канталуп. – Хватит того, что я вам ветчину достаю, а за иностранными тряпками бегать – увольте. К тому же какое вы на него имеете право? А соседи что скажут? А власти предержащие? А если какой-нибудь чудик у вас убежища попросит?
– Чудесно! – сказала Татьяна. – Папа, ты даже не представляешь, как это интересно.
– Я-то представляю, а вы, кажется, не очень.
– Папа, да ты послушай, как звучит: Великое королевство Кантрия! Или лучше – Кантория!
– Вот-вот, – сказал этот перестраховщик, – а соседи вас на другой день Контрией будут звать или даже Контрой. Чтобы и думать ни про какие флаги не смели.
– А мы повесим! А мы повесим! – совсем как маленькая завосклицала Таня. Сейчас, кажется, вокруг стола бегать будет.
– Татьяна! – строго прервал ее Лев Моисеевич. – Вспомни, что было прошлым летом в Воронеже.
– Ну и что?
– Ничего. Я прошу тебя помнить об этом – только и всего.
– Вечно у тебя так! – Таня резко встала из-за стола. – Помни-помни! Как будто я столетняя старуха. Не хочу я ничего вспоминать.
Она кинулась с веранды и дверью грохнула. Вот вам, пожалуйста, еще одна тайна семьи Канторов: прошлым летом в Воронеже. Паноптикум какой-то!
А впрочем, в какой семье их нет? Вот и в их, магаданской. С отцом неизвестно. А теперь еще старец появился, лампион несчастный. И вся жизнь Аллы Константиновны между этими вехами в свете последнего явления тоже довольно загадочной представляется. По крайней мере, сейчас уже не будешь так уверенно утверждать, что ничего и никого там не было. Да что говорить о маме, о почти двадцати годах ее жизни – от рождения Нины до сегодняшнего дня, когда даже а Нининой самостоятельной жизни – а это всего лет пять, не больше, – разве тайн мало? Алик Пронькин (тут и Петя был, как теперь говорят, задействован), Гегин, художник факта Виктор. И каждый ведь тайна, никому о них не расскажешь. Это только про Гиви можно рассказать кому угодно – хоть маме, хоть Татьяне: встретился такой смешной добрый человек (не могу вам сказать очень странные люди бывают с чемоданом в руках он под вечер спустился сюда– ну, в отличие от симоновского варианта, сказать-то, конечно, можно). И, конечно, что-то у Татьяны есть, что она вспоминать не хочет. Но ведь можно вместе вспоминать? Нина свое, Таня – свое, обмениваться, что ли. И тогда воронежская история прояснится. А там, может быть, что-нибудь и с Борисом связано. Должен же он, наконец, выплыть когда-нибудь?
– А Борису вы этот адрес сообщили? – спросила Нина у Льва Моисеевича, когда он, поблагодарив Берту Лазаревну, собирался выйти из-за стола.
– Я? – спросил Лев Моисеевич. – Нет уж, это пускай они делают. Пусть сообщают, кому хотят, флаги вешают, фейерверки устраивают. И вот что, девушка, ты кажешься мне умней, способней, чем некоторые. Запиши-ка все мои телефоны и, если что, звони сразу с вокзала – ближе автомата нету. Поняла?
Ну вот амплуа еще более определилось. Значит, она не прислуга, не уборщица, не экономка (это все без, нее сделают), она – осведомительница, шпионка вроде. За кем шпионить – известно. На кого работает – на Льва Моисеевича. Да что он – с ума сошел? Разве она на такое согласится? Да ни в жизнь – на этих странных и загадочных даже женщин доносить. Но если сейчас это заявить: не буду, мол, и все, собрать свою сумку и на электричку, это значит, что общества Тани она на лето лишается, да наверное, и осенью к ним в дом уже не попадет (что-нибудь Каплун придумает, что, Татьяна от нее шарахаться будет) и никаких тайн не разгадает, К тому же, отдадим должное Каплуну – он, человек практический, может быть, все это для пользы дела придумал. Какого? Неизвестно. Но нужно пожить, присмотреться, а не хлопать сразу дверью, если что-то, не понравилось. И что же пока делать?
А ничего. Главное – бегать, бегать как можно больше. Может, это и Татьяну увлечет?
Но не получилось. Тата добросовестно попробовала пробежаться с ней на следующее утро, но выглядело это так неуклюже, кощунственно даже, что Нина сама скомандовала ей: «Стой! На месте!» Ну что за удовольствие, право, видеть, как скачет в какую-то припрыжку длинная, несообразная вешалка с болтающимися на ней одеждами? И смешно, и грустно. Оказывается, у Таты координации никакой и впечатление развевающегося, несущегося над рядами полупрозрачного полотнища она может производить, лишь пребывая в неподвижности, а также в словах, стихах, улыбке. А так, мчась за нею, видишь испуганное пугало, да и только! О чем Канталуп – врач ведь – раньше думал? Абсолютный дистрофик если посмотреть на нее без всех этих широких, плавно падающих одежд, а только в трусах и маечке. Да у нее и формы-то спортивной нет, для первой и последней пробежки бог знает из чего пришлось выбирать. Хорошо еще, что Анна Павловна ее в таком наряде не видела, – вряд ли она пережила бы такое унижение дочери.
Но Анна Павловна и в дальнейшем не была к ним обеим внимательной. Даже странно, как она ухитрялась жить рядом с ними – дверь в дверь, через темный коридорчик – и почти не встречаться, разве что за обедом, да и то не каждый день. Какие-то шорохи и стуки доносились из ее комнаты далеко за полночь – читала ли она? пасьянс раскладывала? или с духами, черт побери, общалась? Но почему же стуки какие-то? А иногда, тоже ночью, – впрочем, может, она и каждую ночь стукала, не будешь же все время караулить, тем более что утром в семь часов нужно быть уже на ногах и бежать от всех этих странностей подальше, – стукала дверь веранды. Это значило, что Анна Павловна ушла. Куда? зачем? к кому? и когда вернется? – неизвестно. Тут уж прямо гоголевский «Вий» начинается, не правда ли?
А еще – книг нет. Черт побери, взять забыли. Лев Моисеевич не предусмотрел. Надо экспедицию снаряжать. Но кому ехать? Берту Лазаревну не пошлешь – она, видимо, в печатной продукции не очень разбирается, да и нельзя ей ехать – на ней вся кормежка (ах, конечно, не так – заботливое вскармливание). Таня? Но она и дорогу до станции еще не знает, и странно представить, как она одна в электричке едет. Да случится с нею что-нибудь обязательно: пристанет к ней кто-нибудь, Москву проедет, ключи от дома потеряет… С ней все может быть. А Нине ее одну оставлять, самой ехать – тоже, выходит, нельзя, Лев Моисеевич рассердится, если узнает.
Поэтому поехали вместе – Таня и Нина. Берта Лазаревна перед отъездом смущенно попросила выполнить несколько необременительных хозяйственных поручений, раз они все равно едут в Москву, – прежде всего купить сметану.
В вагоне в это обеденное время было свободно, почти пусто, ехать предстояло долго, и Нина решила провести небольшую разведку.
– А что, – спросила она, – в прошлом году у вас правда что-то случилось?
– Когда?
– В Воронеже.
– А, – спокойно протянула Тата, – не было ничего, это он все выдумывает. А ты почему спросила?
– Я подумала, – созналась Нина, – может, Борис приезжал?
– Нет, он не мог. – Сначала пообещал, а потом не приехал!
– А где он живет?
– Трудно сказать, – сказала Тата, – иногда мне даже кажется, что он совсем рядом. Может, он и сейчас в соседнем вагоне едет.
– Зачем?
– За сметаной, наверное.
Посмеялись. Потом Тата сказала.
– А я про тебя тоже что-то знаю.
– Что? – удивилась Нина. – Я кажется ничего не скрываю.
– Так-то оно так, – сказала Тата, – а про то, что училась на филологическом, не говоришь.
Интересненько! Это кто же за кем следит и кто чьи тайны раскрывает, спрашивается? Может, она и про Гегина знает? Тогда все, хватит, Нина больше в это чертово Кратово не вернется – ну и дом, ну и субъекты, запросто облапошат, и глазом моргнуть не успеешь.
– Почему? – спросила она. – Я это не скрываю. А ты откуда знаешь?
– А Лизочка – помнишь, у меня такая подружка из параллельного класса есть? Она тебя видела на Стромынке, когда к однокурсницам приезжала. Она сейчас на третий перешла.
Черт бы ее побрал. Всегда она ненавидела это имя – Лиза, Елизавета. Что-то крысиное в нем есть. Нос острый, и длинный голый хвост тянется. Фу, пакость. Что уж тут теперь отпираться?
– А, – сказала Нина, – и я ее видела, наверное, тоже, только забыла потом. Она, наверное, на другом потоке училась. Ничего удивительного. Я сейчас даже своих бывших соседок по комнате никого не вижу, как сквозь землю провалились. Или так сильно изменились меньше чем за год?
– А может, это они? – вдруг спросила Тата.
– Что – они?
– Я не знаю точно. Ты только не волнуйся. Но там у вас девочки, из одной комнаты все… понимаешь?..
– Что? – похолодела Нина. – Что?
– Я не знаю точно. – Нинин страх передался и ей, Тата говорила уже бессвязно, какие-то обрывки фраз вылетали у нее изо рта, как будто кто-то сжимал ей горло: – Какая-то колбаса… под Новый год… яд… через два дня…
– Умерли? – взяв себя в руки, спросила Нина.
Таня кивнула.
– А фамилии ты не помнишь?
– Можно Лизавете позвонить.
Вот так. Как у Грибоедова: шел в комнату – попал в другую. А ведь за чем-то они ехали, черт побери. Ах да, за сметаной! Но зачем теперь сметана?
– Это, наверное, Лобзикова Оленька посылку получила, – сказала Нина. – Ей всегда из дома много слали; она съедать не успевала. А колбасный яд, я слыхала, самый страшный, от него редко спасают.
Но ведь это представить невозможно, чтобы вот так, все сразу. Ну Оленька – она девочка хиленькая, хотя и пухлая. У Ханбековой неизвестно в чем душа – кожа да кости, юбка на бедрах не держалась без булавок. Две красотки – Пугачева и Микутис – конечно за своим весом следили, лишнюю калорию не съедят, в них тоже сопротивляемости не много. Но Антошкина-то как? Ведь на ней, честное слово, пахать было можно. Такую лошадку свалить! Но, наверное, у нее и аппетит получше, чем у остальных, был, накинулась на домашнее. Конечно, под праздник родители Оленьки много колбасы прислали – Антошкина ведь справедливой была, она следила, чтобы всем хватило, одна не стала бы обжираться.
Была! Теперь она, оказывается, была. Нина к ним с шампанским не успела. И в этот Новый год не пошла их искать, хотя мысль такая была – купить две бутылки и торт и пойти поздравить, разрубить этот узел, развеять прошлое. Но не пошла, струсила, если признаться. А вот теперь уже не пойдешь.
И выходит, что Васька Гегин ее спас. Или она за ним отсиделась. Потому что не будь того случая, не случись скандал, она бы тоже эту колбаску попробовала, не отказалась бы, конечно, – Оленьке родители всегда вкуснятину присылали. Но ведь конфликт у нее с девочками начался раньше, ведь Гегин – это месть им была за склоку, за то, что обструкцию ей устроили из-за паршивых макарон, значит, не Гегин, а она сама себя спасла – дерзостью своего характера, тем, что шла против всех. И спаслась. А именно так амазонки и поступают. Ап! Плакатик можно повесить: «Так поступают настоящие амазонки!» А вот девчонок все-таки жалко, хотя, если говорить по правде, настоящих амазонок среди них не было. У Антошкиной только кое-что из необходимого наблюдалось, но поздно уже было ее воспитывать, она сама кого хочешь воспитать могла.
– Ну что? Лизавете позвонить? – спросила Таня, когда они добрались до раскаленной Москвы, а там доковыляли до Солянки. – Только вряд ли она сейчас в городе. Вон ведь жара какая!
– Позвони, – сказала Нина, – а я пока за сметаной схожу. Где мне баночку взять, на кухне?
Кажется, ничего не забыли: Ремизов («Лимонарь, сиречь: Луг духовный», издательство «Оры», С.-Петербург, 1907, – изящная книжечка в парчовом переплете, повествование по апокрифам, – может, найдется среди них такой, чтобы безвинно погибших девочек помянуть?), Федор Сологуб («Королева Ортруда» – «Для мамы, – сказала Таня, – ей эта дребедень нравится»), Пильняк («Китайская повесть», 1928 год, – посмотрим, что тогда про китайцев писали), Гумилев («Чужое небо» – тоже завоеватель и путешественник, родной брат амазонок, поглядим. Кстати, а ведь братья – не мужья, разумеется, – у амазонок могут быть? Надо этот вопрос рассмотреть подробнее), ну Ахматова и Цветаева само собой, а! еще Романов «Без черемухи», нашумевший сборник рассказов, скандальная трактовка вопросов пола, – и его в сумку. Дорогая сумка получается, рублей на двести, если по рыночным ценам.
– А это у тебя что? – спросила Таня, увидев в руках у нее бутылку. Водка была в их доме явлением таким же экзотическим, как, скажем, лапти («водка – напиток, который пьют крестьяне», – объяснял когда-то просвещенный князь В. Ф. Одоевский значение слова «полугар»), но можно иметь ее на всякий случай, если, например, какой-нибудь гость захочет подурачиться – «Отойди, любезный, от тебя пачулями пахнет!» (хотя пачули – это, кажется, совсем другое, восходит к названию модных когда-то французских духов).
– Странный день, я сейчас знакомого встретила, – сказала Нина, – тоже поэт, между прочим.
– Ну, – сказала Тата, – если поэт, то пускай, поэтам все прощается. А он к нам не придет?
Вечером, после ужина, они ушли с легкой сумочкой прогуляться, нашли тихое место у пруда, сели, озираясь – не увидели бы их с бутылкой. Но никто не появлялся.
– Давай за них, – сказала Нина. – Что твоя Лизавета сказала? Только не чокайся.
Таня помолчала. Тоненькой струйкой вылила водку из своей рюмки. Пронькин бы ей таких фокусов не простил.
– Я ведь поругалась тогда с ними, – сказала Нина, – потому и уехала, а так бы тоже там была.
Завывая, помчалась куда-то электричка. Куда? Кого и к кому она везет? Кто знает? Никогда не знаешь, что случится. Или правду говорят, что все к лучшему? Значит, и Гегин – это тоже к лучшему?
– Я их позлить хотела, понимаешь? И ночью в комнату парня привела. Только ты не думай, ничего не было, мы с ним так договорились. А они утром скандал устроили, кричали… – Нине сейчас почему-то трудно было представить, что они расстались почти без слов, в жутком для нее молчании, словно она и не человек даже, а мусор, который можно просто вытряхнуть из ведра.
– Зря, что не было, – сказала Тата, – я бы этот случай не пропустила.
Вот оно, трепещущее полотнище над заходящимися в визге всадницами! Только зачем она и вторую рюмку на землю выливает, драгоценную жидкость зря расходует? Конечно, пьяный стяг – это нелепость, но дал бы ей сейчас Пронькин по рукам или даже по физиономии за такие дела съездил. И правильно бы сделал, конечно.
– А тогда, в Воронеже? – спросила Нина.
– Борис должен был прийти, – сразу ответила Таня, словно дожидалась этого вопроса, – мы уже с мамой все приготовили. Только водку не купили – некому было сходить. Но он не пришел – с папой, наверное, встретился по дороге. Папа нам большой скандал тогда устроил. Он до сих пор этот случай помнит.
– А почему скандал? Они в ссоре, что ли?
– Не знаю, я их не видела никогда вместе.
– Он с вами давно не живет?
– Он с нами никогда не жил.
– Он твой неродной брат? От другого брака?
– Папа не был больше женат.
– Ну значит, просто от другой женщины?
– Да наш он, наш! Ну как ты не поймешь?
А как это понять, спрашивается? Родной – и дома никогда не жил, есть – и нету… А спрашивать больше нельзя, деликатная Тата, обычно такая сдержанная, кричит даже – словно она эту водку не на землю вылила, а тоже выпила.
– Выходит, что этот Гегин меня спас? – сказала Нина. – Или все-таки я сама?
Алик Пронькин ей у Таты за спиной подмигнул – правильно, мол, девушка мыслишь, давай дальше, до корней доходи, тогда поймешь, что я и есть твой первый спаситель, а ты иначе думала? Вообще он сразу тут как тут оказывается, стоит только бутылку в руки взять. Ну и нюх у него. Мальчик смелый, лукавый, проворный… Теперь до утра не отстанет. Стихи свои еще будет читать. Или при Татьяне постесняется?
22
– A кто-то к нам идет! – сказала как-то за обедом Анна Павловна, взглянув в мутноватое окно веранды.
Со своего места Нина тоже увидела, что какая-то фигура в ковбойке и соломенной (с ума сойти!) шляпе мотается около калитки. Только соломенных шляп, им и не хватало. «Простите, это у вас продаются свежие канталупы?» – «Нет, вы ошиблись, у нас славянский шкаф и кровать с тумбочкой».
– Мама, не надо! – закричала почему-то Таня. – Ты же знаешь, опять скандал будет.
– Какие глупости! – удивилась Анна Павловна. – Берта, поставьте, пожалуйста, еще один прибор.
– Да нельзя же это, мама!
– Прекрати немедленно, – строго сказала Анна Павловна. – Не устраивай здесь истерик.
Татьяна выскочила из-за стола, чуть не сбив поднявшуюся было Берту Лазаревну, промчалась в свою (то есть их с Ниной) комнату. Ну и дверью по обыкновению трахнуть не забыла. Фигура эта между тем медленно, не очень уверенно приближалась, обретая знакомые черты. Теперь уже и нелепая шляпа не могла ввести в заблуждение. «Господи, – подумала Нина, – только его здесь недоставало. И адрес-то он как узнал? Ну нигде не спрячешься!»
– Вы ее извините, – сказала Анна Павловна, о Тате, вероятно, кого же еще тут извинять. – Она еще выйдет, наверное, только придет в себя. Такое, видите ли, событие…
Бог знает что можно было бы подумать, не знай Нина этого субъекта в шляпе и ковбойке как облупленного. А так, понимая, кто перед ней, она словно сразу оказалась в стороне, сбоку от этой сцены, – вернее, от того, что сейчас разыграется, и какой-то гнусноватый чертенок захихикал у нее в душе: «Ну, валяйте-валяйте, играйте, а я посмотрю, как у вас выйдет!» А что выйдет – это уравнение с тремя неизвестными, потому что не только Таня и Анна Павловна, но и этот субъект, столь знакомый, неизвестно, что в данном случае выкинет. А еще неизвестно, решает ли математика такие уравнения – в школе, кажется, только с двумя неизвестными проходили. Вот и интересно тем более.
Экспозиция такова. Берта Лазаревна у стола, двигает-переставляет тарелки, выделяя место еще для одного прибора. Анна Павловна сидит спиной к окну, с загадочной полуулыбкой смотрит в стену перед собой (она думает, что знает, что сейчас произойдет, ну хотя бы в общих чертах, – и ошибается, конечно). В комнате скрипнула половица, они в этом доме препротивные, на любое движение реагируют, этот скрип означает, что Тата переместилась к двери, готовая не то вскочить, не то подождать, сначала послушать. Ну а главное действующее лицо снимает широким жестом у крыльца свою шутовскую шляпу и гундосит не менее противным голосом: «Подайте бедному художнику на пропитание!»
Не лучший текст. Есть в нем немало уничижения, обидного и лишнего здесь. Лучше бы на ремонт храма просил или для вдов и сирот каких-нибудь. Но ведь и искусство факта требует немалой подготовки. Хорошо еще, что хоть это на ходу придумал.
– Борис! – это с воплем летит через крохотный коридорчик на террасу Татьяна…
Анна Павловна тоже приподнимается, оборачиваясь к окну, за которым бездарный художник, творит свой маловразумительный акт. Выражение лица у нее такое, как у женщины на картине Репина «Не ждали». Ну естественно, не ждали. Только при чем тут Борис?
– Извините – Виктор, – говорит этот клоун выскочившей на крыльцо Татьяне. – Дай пять рублей, меньше не беру.
Ну да, это у него такая такса. Или ставка? Интересно, часто ли ему удается таким образом пятерки сшибать?
– Мам, – говорит Татьяна, все еще вглядываясь в наглое бородатое лицо, – тут пять рублей просят А вы кто?
– Берта Лазаревна, дайте, пожалуйста, – говорит Анна Павловна и тоже ждет, что ответит этот проходимец.
Ага, это кульминация. Сейчас или отступать, извинившись: простите, я пошутил, я знакомый вот этой гражданки, позвольте в дом войти, или, бормоча что-нибудь о бедственном положении и гениальных свершениях, дожидаться, когда вынесут подаяние, и идти дальше, к следующей калитке. Однако этот злодей находит другое продолжение.
– Эй, Нинка! – говорит он, перегибаясь мимо Таниных ног. – Ты чего сидишь, оглохла, что ли?
Новый вариант картины «Не ждали». Теперь даже Берта Лазаревна замирает с кошельком в руке. Едва ли она чувствует тонкость этой сцены, но грубость тона, столь непривычная в этой семье, ее несомненно шокирует. Кажется, вам на выход, мамзель? Однако обратите и вы внимание на тон – ведь зовут вас как собачонку, как шлюшку какую-то. Неужели не обидно? Ну так встаньте или даже не вставая срежьте этого нахала: «Вы ошиблись, гражданин, я вас не знаю». (Ответный ход Виктора: «Да брось ты принцессу из себя строить! Про чердак забыла, цаца?») Или кончить эту игру, представить его хозяевам – Виктор, художник из Магадана, он пошутил, разрешите ему войти? Ну да, конечно, скажут, заходите, Виктор, садитесь с нами обедать. Он войдет, сядет и такого тут натворит, что и представить нельзя. Может, он и пьяный к тому же?
Нет уж! Нина машинально берет у Берты Лазаревны протянутую пятерку и выходит мимо застывшей Таты из дома. Новая дилемма: бить его по щеке, предварительно швырнув в лицо скомканную купюру (хотя в чем она-то, эта бумажка, виновата?), или так же без слов броситься на шею?
– Пойдем, – говорит Виктор, надевая шляпу, – а вам счастливо оставаться и общий привет.
Ну а теперь главное – не оборачиваться. Пусть думают что хотят. Но имеет она право хоть на какую-то личную жизнь? Или она здесь только компаньонка или безделушка какая-то, которой можно иногда позабавляться? Как хорошо он сделал, что приехал-прилетел. Но неужели это только ради нее, ради встречи с ней? Нет, наверное, но все равно приятно. Молодец, что адрес узнал. Но почему Танька-дура «Борис!» кричала? Или у них с Виктором голоса похожие?
– А пятерку давай, – сказал Виктор, как только они вышли за калитку, – я ее честно заработал. Я ее тебе, может быть, отдам потом.
Это хорошо, что он стесняется. Вариант с мордобоем отпадает. Но с другим вариантом тоже спешить не следует, а то он о себе очень много думать будет. Приехал – и хорошо, но пусть не думает, что она его так уж дожидалась. В старину красиво говорили об этом: кружение сердца. Все они знали в старину, оказывается. Зачем только нужно было дальше что-то придумывать?
– Как погода в Магадане? – спросила Нина, удивляясь собственной находчивости. И голос даже не дрогнул – это было и вовсе странно.
– Нормально, – сказал Виктор, – Куда пойдем?
На кудыкину гору, естественно, а там, на самом верху, – железная дверь с замком. Можно сначала о пяти рублях спросить. Но стоит ли ему так откровенно подыгрывать?
– Как Софьюшка?
– Ничего. Она тебя ждала, все уши мне прожужжала.
Только бы она, Софьюшка, на колени тут где-нибудь не грохнулась! Ему-то, конечно, что, он пройдет и не заметит, а ей через это переступить ох как трудно. Но ведь переступит, наверное. А Софьюшка уже потом появится. Лучше бы, если потом. Но кто это придумал, скажите на милость, чтобы за все платить? Разве амазонки, несущиеся с визгом и воем на ненавистного врага, платят? Платили когда-нибудь? Что же она, простите, физдипит? (Хорошее словечко, кстати, неизвестного происхождения – физдипеж, означающее нечто вроде ненужного бурления, производства пены, бессмысленной суеты и крика. Несколько неблагозвучно, с каким-то налетом непристойности даже, однако с матом никак вроде не связанное). Да, так вот, об амазонках. Не может она, что ли, взять у этой компании отпуск хотя бы на один день, а то и меньше (А у любви твоей и плачем не вымолишь отдых,но это из другой оперы, ранний Маяковский), чтобы не нестись сейчас под развевающимся темным знаменам (или каждой на пику свой вымпел полагается?) на ненавистного врага? Может она, наконец, сорваться, как и предполагалось на последнем самоанализе? Может. Ну вот, и пусть никакие трубы сейчас не гремят, не нужно труб, вполне электричек с их воем хватает.
Нужно только не очень далеко в этот лесочек забираться, а то он, оглянуться не успеешь, кончится, и больше уже негде спрятаться будет. Она эти места давно все обегала (и думать не додумалась что встречу я тебя!Правда ведь и мысли не было ни разу, что он может как снег на голову свалиться).
Она удержалась на ногах, обхватив сосну и прижавшись к ее жесткой липкой коре щекой, когда все вокруг стало корежиться, рушиться и гореть, и, наверное, уцепилась очень сильно, потому что потом вдруг почувствовала, что уже летит вместе с нею (из земли ее вырвала, что ли?) над оставшейся далеко внизу землей, зелеными крышами, визгливыми электричками. Ну и видик у них сейчас, с ума сойдешь. Это самое бревно-полено (вырванный из земли ствол сосны), на нем – она, виновница всех этих катаклизмов, приключившихся на подмосковной станции Кратово (завтра, наверное, во всех газетах будет сообщение о стихийном бедствии), а еще выше, извините, этот маг, чародей и фокусник (по ведь действительно маг, чертушка милый и прекрасный). Кто-нибудь снизу увидит – с ума сойдет. Но не видно, наверное, сосна все закрывает, да им там внизу не до того сейчас, когда все горит и рушится.
А вдруг без него все это и дальше будет? Если сбросить его – меньше груза, и можно еще лететь и лететь. Пускай они его вместо своего Бориса получают, если там, на даче, кто-нибудь после всего этого уцелел. А ведь ничего сейчас не жалко и никого. Так, наверное, и должно быть у настоящей амазонки.
– Ты дура, наверное, – сказал потом Виктор, но это уже было все равно – дура так дура, какое это теперь имеет значение… Может быть, он сердится, потому что ушибся, когда упал? Тут она, конечно, виновата. Но что ему за это – еще пять рублей дать? Интересно, он возьмет или будет вот таким же бедненьким прикидываться? Дурачки они все-таки, даже жалко, когда они под копытами визжат или, как сегодня, с высоты падают. Но что делать, если иначе нельзя? Да, еще нужно где-то смолу отмыть, а то как она в таком виде на дачу явится.
– У меня с собой денег нет, – сказала Нина, – я потом принесу. А пока не говори ничего.
Белеет дорога приморского сада легки и светлы фонари я очень спокойная только не надо со мною о нем говорить








