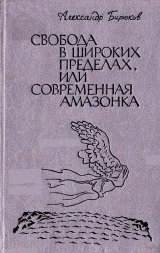
Текст книги "Свобода в широких пределах, или Современная амазонка"
Автор книги: Александр Бирюков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 35 страниц)
26
Потом наступит время подумать, как это могло произойти. Со стороны Льва Моисеевича тут был, несомненно, долговременный и точный расчет. Видимо, наблюдая процесс (весьма бурный, кстати) накопления товарных ценностей в его собственной квартире на Солянке, заглядывая, скажем, раз в два-три дня в комнату Татьяны, он понял, что эта девушка любит тряпки (а какая их, скажите, не любит), погрязла в них, живет ими и скоро окажется в безвыходном положении. Этого момента он и дожидался, благо ждать пришлось недолго, и предложил ей выход – эту самую однокомнатную квартиру на улице Каховке, которая, конечно же, не принадлежит никакому приятелю, а была специально разыскана (что, в общем-то, сделать в Москве не так и просто) и снята для этих самых целей, то есть водворения Нины вместе с ее богатством. Это она – да и то лишь в самом начале, а позднее поняла что к чему, поэтому и ждала (но не признавалась себе в этом, потому что знать и думать об этом было, конечно, неприлично) терпеливо дальнейшего развития событий, – она, Нина, полагала, что ей предоставлено помещение, чтобы сложить здесь вещи, а на самом деле это был не склад, а золотая клетка для такой птички, как она. Именно для птички, которую, поймав (на ее жадности) и посадив в эту клетку, нужно будет потом изредка подкармливать, чтобы пребывала в хорошем настроении, ну уж а навещать молено когда душе угодно – птичка в клетке, никуда не денется. То есть все это планировалось на довольно долгое время с неопределенным, правда, финалом – чем все это кончится? Но поживем – увидим, тогда и решим, а пока сиди, красотка.
Со стороны Нины все это стало возможным и закономерным даже потому, что канон (он же символ веры) был сформулирован когда-то слишком жестко: никаких тряпок, никаких выпивок, никаких влюбленностей (впрочем, в последнем все-таки предусматривалась возможность нарушений, можно было сорваться, но только ничего, как теперь говорят, не брать себе в голову, не питать никаких иллюзий). На этом строилась амазоночья вера, она же – и религия.
Но, оказывается, ничего, ничего абсолютно, запрещать категорически нельзя. Нельзя строить незыблемые плотины и пытаться что-то удержать целиком, до капли. В инженерных расчетах, в науке и технике так, может и бывает, а в человеческих отношениях – нет, все равно прорвет и себе дороже выйдет.
Конечно, модные вещи, бижутерия, косметика – мишура, серебряный дождь и флажки на елку, но они тоже нужны. И когда Нина встала в позу – ничего мне этого не надо, считая, что это вредно и потому быть не должно, ручеек стал накапливаться, подпирать плотину и рос до тех пор, пока она (плотина или Нина, тут уже все равно) не рухнула. А там ведь уже не ручеек был, когда мама большую сумму прислала и Нина стала хватать все подряд, – уже река полноводная неслась. Мыслимое ли дело – такое удержать?
Вывод из случившегося (сделанный, естественно, по прошествии времени, когда все это сооружение обрушилось, а потом началась долгая, тягучая какая-то полуреальность, которую и жизнью не назовешь но ведь и она была, как ни странно) – тряпки и прочая мишура, конечно, нужны, но важно, какой ценой их заполучить: стараясь изо всех сил, давясь и толкаясь, изменяя в конечном итоге высоким поставленным целям из-за этой будничной ерунды, – этого нельзя ни в коем случае. А вот если их принесут на блюдечке (можно без голубой каемочки), если ради них не нужно изменить ничему важному, имеющемуся пока только в перспективе, – тогда пожалуйста, можно взять. Но и при этом, взяв и используя, не млеть от счастья и не поощрять в себе алчность, ибо насколько ценит амазонка эти мелкие (мнимые даже, наверное) радости настолько и уменьшается ее собственная цена. Вот необходимый корректив в тот канон. Не бог весть какая глубокая мысль, конечно. Но, не располагая ею, и попалась Нина в эту золотую клетку со всеми вытекающими последствиями. А чего проще, казалось бы, до этого еще тогда, год назад, когда канон составлялся, додуматься?
Но и мамочка, черт ее побери, хороша! Ведь все она, своими руками подстроила. И молчит теперь, ждет, наверное, что из этого выйдет. Ну, Нина ей напишет – все напишет, во всех деталях, только оглядится немного. Наладим такой взаимный обмен информацией: мамочка ей про сверкающего Лампиона (может, и карточку когда-нибудь пришлет, чтобы постепенно к встрече готовиться), а она мамочке про… (но тут, пожалуй, лучше без карточки обойтись, можно Аллу Константиновну, в конце концов, и пожалеть, несомненно, она ведь как лучше хотела, ну не так вышло, как задумала, ну перестаралась мамочка в своей щедрости, так ведь не со зла же, и пожилая она уже женщина к тому же, нужно и это принимать во внимание. Нина могла бы и сама кое-что сообразить, прежде чем на всю эту мишуру кидаться, а если бы сообразила, то и не кинулась, наверное, так что саму себя нужно в первую очередь винить, а не Аллу Константиновну).
В ту ночь у кого-то из соседей долго плакал ребенок. Заболел, наверное, потому что раньше никогда не плакал, или на даче были. И даже не поймешь где: то ли вот здесь за стеной, у которой стоит тахта, то ли наверху – в блочных домах со всех сторон слышимость отличная, даже с нижнего этажа звук проникает. И никуда от этого плача не скроешься, не убежишь, вроде и не касается он ее, но мучителен, как зубная боль.
Когда малыш затихал на мгновение, явственно слышался голос мужчины, его укачивающего, наверное: родила царица в ночь не то сына, не то дочь… Слов, конечно, разобрать было нельзя, но размер, ритм мычания, был примерно такой. Потом в царской семье возникла какая-то перебранка, царь-отец крикнул что-то, раздосадованный или уставший, мама, которая до того, конечно, дремала, что-то ему раздраженно ответила: «А почему все я? Я и так с ним целыми днями верчусь. Теперь ты походи!» И опять: родила царица в ночь не то сына, не то дочь. Но это глухо, как на контрабасе, и голос младенца как сверлом – взз, взз! – поверх контрабаса. Плохо ему, наверное, бедненькому.
Был бы сейчас хоть какой-нибудь проигрыватель. Нина тихонько его включила, спряталась бы таким образом от этого плача, а потом, когда нервы успокоятся, можно было бы и уснуть. Ну и вид у нее будет завтра, если она всю ночь так, с этой зубной болью, промается. А что делать?
А очень просто. Завтра она этот проигрыватель и купит. И хоть пару пластинок. Дико ведь так жить – ни телевизора, ни проигрывателя, как в склепе сидишь.
Она нетала и взяла со стола голубой конверт, который оставил на прощание Лев Моисеевич, – на обзаведение, как он выразился. Сколько тут? Две бумажки по двадцать пять. Стыдно. Если честно говорить, то чуть-чуть, самую малость, но гораздо сильнее удовлетворение, переходящее в удивление: ничего себе, пятьдесят рублей, половина обычной месячной дотации, получаемой от Аллы Константиновны. И интерес, гаденький, конечно, расчетливый, но довольно острый: это что – плата за визит, всегда так будет? или единовременное подношение – на обзаведение, как он сказал?
Но так или иначе, а проигрыватель она купит завтра обязательно. Надо прикинуть, где это лучше сделать. До Маяковской от Манежа далеко, до Пассажа на Петровке тоже порядочно, лучше, наверное, в Военторг сходить. Там и пластинки продаются. Нужно все так рассчитать, чтобы еще рублей пять на такси осталось, – не будешь же с этой коробкой по всем пересадкам таскаться.
Значит, проигрыватель у нее будет, плохонький, наверное, самый дешевый, но пусть пока хоть такой. Это потом, в том далеком, но тем не менее вполне представляемом будущем у нее будет не только тот, уже много раз виденный служебный кабинет, но и пусть небольшая (одной двухкомнатную не дадут), но удобная квартира – тоже со стенкой, но не строгой, деловой, как в кабинете, а домашней, со всякими там причудами и стекляшками, с телевизором и очень-очень хорошим проигрывателем. И не проигрывателем даже, а целой системой, они начали теперь появляться, видела их Нина мельком, потому что пока, в яростных походах но магазинам, не это ее занимало, но все-таки обратила и на эту новинку внимание. А лет, скажем, через пять, когда такая система реально понадобится, они еще в двадцать раз лучше будут – прогресс стремительными прыжками несется.
Но и сейчас хоть какой-нибудь, но приличный, конечно, телевизор купить надо. Но дорого. А если взять напрокат? Это выход, но ей не дадут – у нее прописка временная, да еще в общежитии, так в печати и значится: «Дом студентов». Кто же в этот дом даст телевизор? А если Льва Моисеевича попросить, чтобы на свой паспорт взял? Неудобно, он это как вымогательство может расценить: мол, просит взять напрокат, а сама, конечно, о собственном телевизоре мечтает, но не много ли вы, голубушка, хотите? Да не нужен ей сейчас собственный, рано еще таким громоздким имуществом обзаводиться, – уйдет она с этой квартиры, куда с ним деваться? А ведь уйти рано или поздно все равно придется. Ну поэтому и поставить вопрос совершенно твердо, чтобы никаких лишних подозрений у него не возникало:
– Не могли бы вы взять мне в прокатном пункте телевизор? Только не думайте, что я вас прошу мне новый купить. Я бы и сама могла это сделать.
Ну последнее, допустим, чистейшее хвастовство, но иногда и пыль в глаза пустить не мешает. Кстати, вот эти пятьдесят рублей – это тоже засорение органов зрения, с его стороны, разумеется, – дотация на обзаведение или реальная плата за услугу?
На другой день, пропустив один час не самой интересной лекции, Нина разыскала Антошкину. А для этого пришлось разобраться в их расписании, где то и дело следовало «ч/н» и «ч/2н» с разными номерами аудиторий, что следовало перевести на нормальный язык как «через неделю» и «через две недели», а потом еще блуждать по извилистым лабиринтам их этажа, состоящего из крохотных, как чуланы, комнаток с низкими потолками и каким-то совсем другим запахом – так, значит, ее некогда любимая наука пахнет, не поймешь даже сразу – чем. Или это – только сумма ароматов расфуфыренных девиц? Так, наверное, и есть.
Реальность существования Антошкиной, несмотря на несколько уже состоявшихся свиданий, все еще не представлялась стопроцентной, а когда невдалеке, не узнавая ее, промелькнула, прокатилась, как колобок, еще более округлившаяся Лобзикова – спит, наверное, много вдали от родительского глаза, будь Нина с ними рядом, уж этого котенка бы она вышколила, бегала бы с ней Оля по утрам как миленькая и не стала бы такой толстушкой, но когда Нина увидела их обеих, что-то такое с ней сделалось, замерло все, хотя, казалось бы, чего тут волноваться. Хорошо еще, что Антошкина ее тоже заметила, двинулась ей навстречу, а то неизвестно, сколько бы тут Нина еще так простояла.
– Привет, – сказала Зина, – ты куда пропала? Я уже и на Стромынку ездила, а там твоя коечка пустая стоит.
Стромынка, коечка… Просили ее эти слова произносить? Не могла как-нибудь без них обойтись? Или не помнит уже ничего?
– Да я у приятельницы пока живу, – начала врать Нина, – у нее мама болеет.
Интересно, почему в этих ситуациях всегда в первую очередь мамам достается? Рудимент затянувшегося детства: как что-нибудь – сразу за маму хватаемся.
– Говори-говори, – не поверила ей Антошкина. – Ты еще скажи, что в больнице нянечкой работаешь.
А что, чем не версия? Некоторые ведь действительно так или похоже подрабатывают, может и она устроиться.
– Потом расскажу, – пообещала Нина, – сейчас некогда. Я и так из-за вас лекцию пропустила. Давай все-таки встретимся. Когда вас всех лучше застать?
– Да в любой вечер, – с ходу согласилась Антошкина. – Ну, может, не сегодня, сегодня всех уже не спросишь, расползтись по семинарам. Но ты позвони вечером на Горы, и мы договоримся. Телефон там, в твоей больнице, имеется?
Имеется. Договорились, значит.
– А это Оля, что ли, была? – спросила, перед тем как уйти, Нина.
– Где?
– Вот тут, когда я тебя увидела.
– Может, она. Ну позвони, ладно? Или я тебе?
Давать этот телефон Антошкиной не стоило. Мало ли, что и как может быть. Пока, по крайней мере, не стоит.
– Да я сама, – сказала Нина, – ты ведь дома будешь?
– Буду, но ты, подруга, крутишь что-то. Точно, принца отхватила. Но ладно, твое дело. Привет.
Вечером, а это был, наверное, удачный день, потому что раньше она успела еще купить проигрыватель, разобраться в косноязычной инструкции – а у нее всегда волосы дыбом от таких текстов вставали, от их неуклюжести и обилия технических терминов – и привычно его включить, а потом под аккомпанемент пока единственной пластинки (оркестр Поля Мориа) завершить переговоры с Антошкиной: «Девочки согласны, давай в субботу (сегодня среда), все обещали быть, кроме Микутис, которая как всегда полетит на выходной в Вильнюс к родителям». – «Давай, договорились». Вот что значит удачный день!
Теперь следовало ждать неудачный, потому что они обыкновенно чередуются, и ничего завтра не предпринимать. Только бы от мамы или Софьюшки какое-нибудь письмо плохое не пришло или телеграмма такая же. А еще что может случиться? Вариантов не так уж много. С городским транспортом она ладит, пока, по крайней мере, никаких осложнений не было. Из Африки никто не явится – это теперь точно известно. Газом пользоваться она научилась – а это не так просто в девятнадцать лет впервые осваивать, сначала каждый раз казалось, что дом взорвется. Лев Моисеевич тоже проигрыватель привезет? И такое может быть. Мог же он заметить, что в ее келье от скуки не продохнуть: ни проигрывателя, ни телевизора нет. Вот он и решит сделать ей такой подарок. А она что? Куда ей два проигрывателя? Торговать, что ли? Но ведь и отказаться нельзя, потому что куда он (Лев Моисеевич) с ним денется? В магазин повезет – не возьмут. Домой? Там проигрыватель давно есть. Но ведь и не бросишь его на улице. Только бы, действительно, не накликать такое. Смешно – то ни одного проигрывателя, то – нате вам два, пожалуйста. Или он телевизор привезет? Тоже не легче. С какой стати она будет такие подарки принимать? Да это в каком она рабстве окажется, если ее будут такими предметами заваливать? Или просто не думать об этом?
Но не было в четверг ни проигрывателя, ни телевизора, – не приехал Лев Моисеевич. Она так и думала, что день неудачный будет! И хорошо что так, без осложнений, прошел. А начиная с пятницы можно уже о встрече с девчонками думать. Только вот тоже получается, что в неудачный день она состоится, но, может, обойдется, договорилась ведь Антошкина с ними – что же может еще случиться?
А все-таки странно себя чувствуешь, когда сбывается то, что загадала давным-давно. Она об этой встрече первый раз подумала тогда, в аэроагентстве, дожидаясь автобуса в Домодедово: взять шампанское, торт… Или она хотела конфет шоколадных в красивой коробке купить – так лучше, кажется? Они еще потом это шампанское с удивительным Гиви пили и одну сигарету курили. И вот она стоит с двумя бутылками и коробкой торта перед проходной зоны, где живут девочки… А что стоит? В эту зону ее по студенческому билету свободно пропустят, никакой заявки не надо на нее, если зона женская. Но страшно почему-то (хотя чего бояться? Раз захотели увидеть – значит, не сердятся) и пусто на душе – хоть бросай эти бутылки и коробку и возвращайся на Каховку. Это, однако, и вовсе чепуха, все, между прочим, денег стоит, которых, кстати говоря, уже и не осталось вовсе, и как жить, если Алла Константиновна обычное вспомоществование не вышлет, неизвестно. Тогда – вперед? Ну конечно, а что еще остается? И будем надеяться, что марафет от этих дурацких слез не совсем размок, раз поправить его здесь негде. Ай-яй-яй, а еще амазонка!
Ну вот и все хорошо. Правильно, что она идет: раз решила – нужно выполнять. Было бы совсем хорошо, если бы она их еще минут пять-десять-двадцать поманежила, чтобы не очень воображали. Но и слишком вредничать тоже плохо.
Иди, раз пришла. А что я? Я иду (я иду пока вру ты идешь пока врешь… – господи, глупость какая-то, из школьных времен. Но ковровая дорожка на этаже действительно имеется). Ну вот и я. Здравствуйте, я пришла!
Сначала были крики, можно даже сказать, что вопли. И даже Антошкина кричала, хотя уж она-то могла бы и удержаться – виделись ведь они с Ниной и в августе несколько раз, и в среду на факультете, но общая волна так захватила. Тут уж о собственной косметике не стоит беспокоиться, раз у них она тоже размазалась, размокла от слез. Ну что мы, право, как дурочки? Ведь не умер никто, все живы, одной только Ханбековой нет, – «Никто не знает, кстати, где она?» Но не слышат, наверное, в этом общем гвалте.
Значит, присутствуют: Зина Антошкина (хозяйка-распорядительница, да и вообще староста потока, а теперь она скоро и к Дос-Пассосу подберется, только с Кафкой разделается), еще более раздавшаяся на студенческих харчах – может, оттого, что здесь привередничать не перед кем, – пышная булочка, но в общем-то все та же Оленька Лобзикова (она больше всех кричит) и раскрасневшаяся в этом гаме, а обычно весьма сдержанная птица-дрозд с умными глазами Люда Пугачева (они у нее и сейчас, вопреки моменту, по-умному косят), итого – трое (это с их стороны). И Н. Дергачева – собственной персоной. Соотношение (однако опасаться, кажется, нечего) – 3:1, или 1:3, если смотреть с ее стороны. Нет Микутис – улетела на выходной в родной Вильнюс (это ведь не до Магадана добираться), и Розы Ханбековой (ее судьбу они не то замалчивают, не то закрикивают, но это неумышленно, наверное).
А бытовая раскладка такова. В этом блоке – каждая в отдельной комнате – живут Антошкина и Лобзикова, по-прежнему воспитуемая, так как у Антошкиной запас лидерства не иссякает. В соседнем – Пугачева и Микутис, там уж точно равноправие, потому что одна другой стоит, обе аристократки и авгурки, не говоря уже о том, что красавицы, Нине их, даже приобщившись к могучему движению Мини, все равно не достичь. Значит, если бы ничего не случилось ни у Нины, ни у Розы, если бы обе они остались на факультете и не опротивели бы друг дружке к третьему курсу, когда состоялось переселение на Горы, они бы сейчас жили вместе, две изгойки (в том смысле, что обе они жили бы несколько на отшибе – пусть через коридор, пусть всего через стенку, так что можно даже перестукиваться, но все равно не вместе с остальными). А где все-таки Роза?
– Да я ей сказала, – откликнулась наконец Антошкина на пятый раз повторенный вопрос. – Она еще, может, подойдет.
Вот так – «подойдет»! Сколько Хемингуэя ни читай, а все равно чувство слова не обретешь, если в детстве им не запасся. Но не будем злобствовать раньше времени, тем более что еще неизвестно, откуда Роза Ханбекова может «подойти» – может, с таких высот скатится, что иначе и не скажешь.
Пойдем дальше. Выглядят подруги, конечно, на уровне. О Пугачевой говорить не будем – ей элегантности не занимать. Оленька пухловата, и ей мини почти противопоказано, но будет бегать по утрам, сократит потребление мучного и сладкого – за милую душу вольется. Антошкиной уже поздно за кем-то и за чем-то следовать, но представим, что она в известной степени Бубенцов, который все понимает и почти ничему не препятствует, полагая, что все действительное – разумно, или будет со временем таковым, и получится, что она тоже картины не портит. Ну а Нина… Глазейте-глазейте, миленькие, может, для этого весь спектакль и затеян. Или вы надеялись, что она сегодня будет роль блудной дочери исполнять?
Насчет спектакля и его целей сказано, конечно, излишне пристрастно и, более того, – неверно по существу. Да, была маленькая мыслишка, меленькая, но долго лелеявшаяся, устроить себе это торжество – торжественное возвращение, но ведь все это время, с того вечера в аэроагентстве, и увидеть девочек хотелось – просто увидеть, безо всякого торжества и злорадства. Это и есть главное. А злорадство отнесем к числу бабских слабостей, недостойных настоящей амазонки, поэтому прочь его.
Ну и подготовились девочки соответственно. В комнате Антошкиной письменный стол придвинут к кушетке, сервировка, естественно, немудрящая, общежитская, но зато даже издали видно, что много всякой вкусноты и вкуснятины – это уже явно традиционная доброта Олечкиных родителей, значит, не иссякла еще учительская мошна. Но только что это, девочки? Это ведь домашняя колбаса, свиная домашняя колбаса, перл хуторской кулинарии, объедение, сиречь амброзия, но ведь и отрава, яд колбасный, пророчество Тани Кантор! А если и правда пророчество? Если они сейчас ее попробуют – и все? Да ни в коем случае, не может Нина этого допустить, коль скоро у Татьяны такое видение было (а известно ведь, что поэты наделены даром озарений, провидения или как это там еще называется), – сама есть не будет и другим не даст. Ни за что не даст!
Но пока без паники, мы все весело садимся за стол, мы говорим друг другу приятные и радостные слова. Девочки тащат из холодильника в прихожей шампанское – давай наше откроем, оно заморожено! А, ну вот и идея: «А я свою бутылку открыть хочу!» – «Да потом твое, пусть оно тоже сначала в холодильнике постоит!»– «Нет, я хочу, чтобы с моего начали, раз сегодня я в некотором смысле именинница!» (ах, как по-базарному, по-купечески это звучит – ндраву моему не препятствуй! – но ведь спасать девчонок надо, черт бы побрал это суеверие).
А потому – пробка в потолок, теплое шампанское хлещет на стол (простите, девочки, по это для вашего же блага!), в возникшей легкой суматохе блюдечко летит на пол, и твердые комочки домашней колбасы раскатываются по всей комнате. Жаль, нет кошки или собаки – можно было бы проверить наличие яда. Все вроде удачно получилось, только глаз умной дроздихи косит по-прежнему. Уж не заподозрила ли она что-нибудь?
– Ну, рассказывай! – сразу вцепляется Олечка, словно заранее было условлено, что Нина выступит перед ними с лекцией о своей жизни за полтора прошедших года, а все остальное – вопли и вот этот стол, наряды и шампанское – было лишь приготовлением к исповеди. Интересуетесь, значит?
И Нина начинает свое повествование с того самого вечера в гораэровокзале, где произошло знакомство с удивительным Гиви, которое, как сейчас выясняется (неожиданно даже для самой рассказчицы), отнюдь не закончилось тогда же, потому что по его настойчивой просьбе Нина все-таки сдала свой билет в Магадан, потеряв при этом кое-какие проценты, так как решилась на это буквально перед самой посадкой в автобус (а решать, сами понимаете, было вовсе нелегко), но на билет в Тбилиси все равно хватило с лихвой, а там ее встречала его мама Сулико Акакиевна (только в благородных грузинских семьях и встречаются еще эти давно исчезнувшие в России русские имена, а хорошее имя Акакий – «не делающий зла»), были также мандарины и мимоза (последнее – весьма фантастично, ведь дело происходило в декабре), а позднее прилетел, вырвался из московской круговерти и замечательный Гиви, и началась и вовсе сказочная жизнь, которую осеняли своим неиссякаемым гостеприимством великие тени Тициана Табидзе и Паоло Яшвили (явное заимствование из автобиографической книги Ильи Эренбурга). Были, конечно, и трудности. Прежде всего – с мамой, Аллой Константиновной, которой, естественно, нельзя было написать голую правду о ее тбилисской жизни, правдоподобно рассказать, как все это произошло, и убедительно доказать, что все там абсолютно нравственно и совершенно невинно («Ну уж! – не удержалась, хмыкнула в этом месте Антошкина. – Вот у тебя откуда принц, оказывается!» Ну да ладно, пускай так думает). Поэтому пришлось затеять целую канитель с письмами о продолжающейся жизни на Стромынке, пересылать их в Москву, потому что из Тбилиси их, естественно, отправлять было нельзя, равно как и изымать письма Аллы Константиновны, которые (мотивировка – чтобы не пропадали) были переадресованы на московский почтамт до востребования, а там уже кто-то по доверенности должен был их получать, читать и докладывать содержание по телефону в Тбилиси. Та еще процедура была, и в целом такая история получилась, что Таня Кантор может быть довольна своей ученицей. Ну а вы-то как, девочки?
В ответ восторженный лепет Оленьки Лобзиковой – жизнь прекрасна и удивительна, деловая и доверительная информация Антошкиной – все нормально, без чудес, правда, но мы предпочитаем видеть чудесное в обыденном, а не гоняться за кавказскими миражами, и ироническая улыбка умной Пугачевой – откроет ли она рот сегодня, интересно?
– Ну а что с Розой, девочки? Где она?
– Ой, – всплескивает руками непосредственная Олечка, – она теперь…
– Ладно тебе, – обрывает ее Зина, – успокойся. Жива твоя Ханбекова. Она теперь на философском.
– На философский перевелась? – спросила Нина. Ничего себе Розочка учудила! Впрочем, не так уж это и странно – Там, говорят, все такие, с шизой.
– Ну да, перевелась, – иронически поддерживает Антошкина (вот, еще одна иронистка объявилась – поветрие такое теперь, что ли?), – перевелась после того, как ее от нас выгнали.
– Дворником она там! – выпаливает Оленька.
Вот те на! Ай да Роза! Нашла себе дело по душе.
Интересно, как она метлой орудует, если у нее все время книга в руках? Или карман какой-нибудь к фартуку пришила, чтобы хоть на немного руки освобождать? Надо будет как-нибудь пойти посмотреть. Это ведь недалеко совсем, там же, на Моховой, только во дворе. Значит, и с Розой теперь ясно. Кто же в неразведанных остался? Микутис, но она в своем Вильнюсе пребывает, отсюда не видно, да блестящая птица-дрозд Пугачева, сидит-посматривает на всех умненькими глазами. Вот уж кто никак за эти два года не изменился! Ясно, что и отличница, и к дисциплине никаких нареканий нет, занятия не пропускает, на собрания ходит, в каком нибудь научном кружке состоит. А вот за душой у нее – что? Едва ли такая же свалка идет, как у несчастной Ханбековой (а ведь та даже на Плюшкина похожа была, хотя и другой национальности). Мальчики, тряпочки (об алкоголе вспоминать не будем – это к Пугачевой не относится)?
Однако во внешнем облике, в манерах – сдержанность и само достоинство, холодность даже какая-то, думающие о мальчиках так себя не ведут, Амазонка? А почему бы нет? В конце концов, ведь не единственная же Нина на свете. Может быть, ее, Нинина, заслуга в том и состоит, что она это словечко подобрала, пылившееся давно, вспомнила, а ведь не первая она на этом поприще, далеко не первая, и не единственная, конечно. Да выйди на их сверкающий Манеж, только вслушайся в звонкий цокот каблучков – вот они, несущиеся стремительной волной, наточенные и упругие, не обремененные мелкими житейскими заботами, а лишь идеей быть и побеждать. Почему бы и Люде Пугачевой быть не из их числа?
Тогда – открыться? Но не сейчас, конечно. Сегодня – только легкий, светский разговор: как живете, как успехи, что папа с мамой пишут (у Люды родители – слепые, она им и дочь, и нянька, и вообще все на свете, а это еще один могучий стимул стремления к независимости, к тому, чтобы разорвать ненавистные оковы и всех победить, отсюда прямая дорога в амазоночью стаю, – но это пока только предположение, конечно). Не в присутствии же Зины и Оленьки открываться. Но, впрочем, один пробный камешек подкинуть можно, с виду и вовсе невинный, под дурочку, как говорят, сработать. Вопрос только в том, захочет ли умная Пугачева об него споткнуться. Но попробуем – ничем ведь при этом не рискуем.
– Ты еще замуж не вышла?
– Нет, конечно, – спокойно говорит Пугачева. – Ты ведь тоже не собираешься?
Ага, споткнулась и ей точно такой камешек подложила. Можно, значит, потом и выяснением остальных обстоятельств заняться. А пока вечер катится по заранее намеченному руслу. Скучновато, правда. И в душе пустота какая-то, словно не о том думалось-мечталось еще два года назад, в аэровокзале, когда Нина решила, что явится к ним с тортом и шампанским, чтобы помириться. Но ведь помирились, кажется… Что еще надо? И к Ханбековой надо сходить, узнать, как у нее там, на новом месте, сохранился интерес к малоизвестным поэтам? С умной Пугачевой про амазонок поговорить. Так что не совсем пустой этот вечер вышел. На большее и рассчитывать, конечно, не стоило. Только вот что смешно: очень захотелось еще раз увидеть того Гиви. Но где же его теперь взять? Ваше здоровье, девочки! И будьте впредь осторожнее с домашней колбасой.








