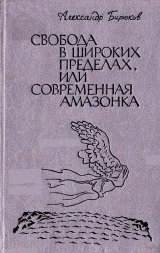
Текст книги "Свобода в широких пределах, или Современная амазонка"
Автор книги: Александр Бирюков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 35 страниц)
29
И снова письмо от Софьюшки.
Ниночка, милая!
Ты, наверное, уже давно коришь меня за куриную бестолковость и старушечью суетливость, но я снова не могу сдержать себя и берусь за перо. Поздравь меня – все окончилось благополучно, нашелся этот оболтус. Собственно, не нашелся даже, а сам пришел, худой и злой, из мест, как говорится, не столь отдаленных. Неудобно это говорить, а писать тем более, но отбывал Витя пятнадцать суток – после той ночи, когда сжег свои картины: его тогда же, под утро или утром уже, после шести, замели (его словечко! чудесное, не правда ли?) на автовокзале – и где он только спиртное среди ночи доставал, удивительно.
Однако этим его неприятности не кончились. Казалось бы, забрали – и ладно, ходи мусор прибирай или чем там они еще занимаются, но ведь Виктор так не может, не может он на улице появиться в компании бичей, да еще под присмотром милиции, – забастовку объявил, не пойду и все. А там, оказывается, это не любят, посадили Витю, как при царизме, на хлеб и воду, и жаловаться некому, потому что порядок такой: кто не работает – тот не ест. А ему, оболтусу, только этого как будто и надо: то ли упрямство свое проявить, то ли в святых хоть неделю побыть. Ах, на хлеб и воду, спросил. Ну так воду давайте, а хлеба и не надо вовсе. Стал голодать. Милиция потом, наверное, и сама была не рада, что с таким типом связалась, хотели его домой отвезти, но он уперся: права не имеете, раз посадили – отсижу до конца. Так две недели и мучился. Ну где ты еще найдешь упрямца такого!
Похудел, конечно, ужасно и злой как черт – никак к нему не подойдешь. И часто почему-то тебя вспоминает – ну, говорит, Нинка, ну, зараза! А почему он про тебя так – неизвестно. Случилось у вас что-нибудь? Может быть, он тебе предложение делал, а ты отвергла? И этим объясняется его временное сумасшествие – согласись, что только в помутненном рассудке можно свои картины жечь, да еще в такой обстановке: ночью, на улице.
Жалко мне его, но иначе, наверное, и быть не могло. Ты не подумай, что я о себе забочусь (хотя, если говорить совсем честно, то и не без этого, наверное). Но мне-то ведь теперь совсем немного надо, а может, и вовсе ничего – бабья жизнь моя совсем заканчивается, закончилась даже, можно сказать. И мне важно, чтобы он был счастлив. А с тобой он счастья себе не найдет, потому что каждый из вас к себе тянет, не может не тянуть – такие у вас характеры. И ваше сближение может быть только кратковременным, а совместная жизнь – мучительной. Это, наверное, и он понимает, поэтому и не едет к тебе, хотя я ему, если честно признаться, и деньги предлагала на дорогу. Но знаешь как он закричал-зафыркал: «Да ты что! Да за кого ты меня принимаешь! Да чтобы я!»
Дурачки они все-таки. И Виктор среди них – один из самых глупых и маленьких. Ты не сердись на него, а, если можешь, пожалей. Я вот сейчас подумала: а что если ты ему напишешь доброе и умное письмо? Ведь это ему очень поможет. Напиши ему, что ценишь его талант и картины, которые он уже написал и которые еще обязательно напишет. Ведь не только фокусы он может показывать – способности у него есть, и немалые, наверное, школы нет только никакой, но съездит еще несколько раз на эти дачи, подучится – и меньше психовать будет. Первый раз конечно, тяжело, когда все вокруг тебя гении, а ты рядом с ними последнее, прости за грубость, дерьмо, тут ведь очень легко сломаться, что с ним, в общем-то, и случилось.
Может, ты ему поможешь? Ему ведь на что нибудь твердое, кик он сам, только более устойчивое опереться надо – тогда он поднимется и много еще полезного сделать сумеет. Он ведь молодой, 30 недавно исполнилось, самое время работать. А я ему опорой быть не могу – слишком мягкая, не сумела себя сразу правильно поставить, теперь уже не получится. Да и жалко мне его слишком. А в тебе есть необходимая твердость характера, я это с детских лет наблюдаю. Это, наверное, от мамы, Аллы Константиновны, она у тебя человек, конечно, незаурядный. Так что напиши, ладно? Пиши лучше на мой адрес, чтобы не потерялось, а я передам. Не сердись, что я пристаю к тебе с просьбами, но ему сейчас что очень надо. Спасибо тебе, моя добрая.
Ну а теперь можно и порезвиться. Очень интересный сон я видела про тебя недавно. Да не то чтобы видела, а даже сама в нем участвовала. Словно ты на сцене Дворца культуры профсоюзов с каким-то жонглером выступаешь, подаешь ему на подносе какие-то сверкающие мешочки, а он их ногами подбрасывает. А мешочки эти я тебе из-за кулисы подаю и, хотя на сцену не выхожу, тоже разряженная (я-то – и в мини, представляешь?), и намазала ты меня перед этим представлением ужасно. На сцене сущие чудеса творятся: эти мешочки, как по мановению волшебной палочки, превращаются в живых людей, их все больше и больше становится, а откуда они берутся – неизвестно. Мне это почему-то напомнило сцену из удивительного романа Булгакова «Мастер и Маргарита» (журнал «Москва № 11 на 64-й и № 1 за 65-й год, с предисловием Константина Симонова). Если не читала еще, то прочитай немедленно. А сон чрезвычайно забавный.
Ну, целую тебя…
Ах, Софьюшка! Хорошо еще не поняла, что это за люди. Но разве не безобразие – личные сны всем без разбору показывать! Ведь если Софьюшка его видела, мог и еще кто-то увидать. Телевизор, что ли, такой установили? Хорошая теперь про нее молва пойдет.
30
К весне Лев Моисеевич стал навязчив и утомителен. Увидев его первый раз у входа на факультет, Нина поразилась, подумав, что это случайность, что он по каким-то делам тут оказался, – не может же сверхзанятой, почтенный человек караулить ее, как гимназист. Она даже что-то легкомысленное бросила ему на бегу, потому что летела в столовую, через пять минут там уже не протолкнешься и добрый час придется потерять, что-то сна ему такое сказала: «Ах, как интересно – и вы тут!» и побежала дальше, удивляясь про себя, что даже в таком большом городе, как Москва, люди могут случайно встретиться. Впрочем, что тут особенного? Встретились же они тогда с Антошкиной в магазине «Косметика» на Петровке, хотя до этого полтора года не виделись и ничего не знали друг о друге.
Но прошло еще совсем немного времени, и Нина заметила, знала уже, что стоит ей сейчас выйти на улицу – и она увидит этого почтенного гражданина, профессора, светило, отца семейства и прочее, прохаживающегося за спиной Михаила Васильевича Ломоносова (сидит и смотрит на Манеж), а если его вдруг здесь почему-то не окажется (не Ломоносова, а Кантора, разумеется, Михаил Васильевич, теперь едва ли куда-нибудь сдвинется), то жди его вечером на Каховке – это уж точно, хоть домой не приходи. А куда идти, спрашивается?
Давно уже достигнуто полное изобилие благ, которые начиная с декабря хлынули широкой струей: магнитофон (а как еще Высоцкого слушать?), телевизор, ковер, черт побери, на полу (офонареть можно сколько стоит). Кажется, можно было бы уже и остановиться? Так нет – едва ли не каждый вечер норовит еще что-нибудь всучить, а если уж останется ночевать (все так же раз в неделю – хорошо еще, что придуманная версия – дежурство в клинике – чаще не позволяет. Да и эта версия только таких простодушных, как Анна Павловна и Татьяна, может обмануть – где это видано чтобы профессор, как рядовые врачи, в клинике по ночам дежурил? Но, может, им это не так уж и важно, где их Лев Моисеевич ночует?), по утрам целый бой приходится выдерживать – никуда от его денег не спрячешься…
– Но мы ведь договаривались, Лев Моисеевич. У нас вроде, простите, деловые отношения.
– Неужели только деловые? Неужели вы считаете, что со мной никаких других отношений и быть не может?
С ума он сошел, что ли? Конечно, специалист его уровня, имеющий к тому же и частную практику, зарабатывает много и может позволить себе любую глупость. Но для нее-то эти дары, эта бездонная щедрость губительны! Соблазнись она раз, два, три – и готово, покатилась, потому что кто же откажется жить припеваючи и при этом палец о палец не ударять (а занятия в университете уже сами собой идут, это не труд даже, а удовольствие, что-то вроде интересной передачи по телевизору, как КВН, например). А как же тогда собственные планы, стремительный полет амазонок и собственный кабинетик с полированной стенкой как апофеоз самостоятельности и жизненного успеха? А никак, потому что не может содержанка быть амазонкой, равно как амазонка – содержанкой (на ваши деньги я коня куплю, конюшню ему арендую, но не больше, слышите? не больше того). К тому же, содержанкой быть – что менее прочно и надежно? Поэтому оставьте вещи, деньги, слышите? Они мне не нужны!
Нет, честное слово, такой вариант не был запланирован: трезвый, практичный Каплун в роли влюбленного вздыхателя. Может, это на первый взгляд и лестно и еще что-то, но ведь это и обременительно, в конце концов, – быть объектом постоянного преследования. Она свободный человек, не так ли? И оставьте ее в покое.
Но все это просто было думать, задыхаясь от ярости, впрочем. Можно было кое-что из этого сказать, как говорится, открытым текстом, щадя, естественно, самолюбие пожилого человека и не давая в себе взыграть плебейской наглости. Но делать-то что, если ни эти слова, ни любые другие не помогают? Была, конечно, тихая гавань – койка на Стромынке, где Нина оставалась по-прежнему прописана, хотя, кажется, коечкой ее девочки так еще пользовались (но не ей их, разумеется, судить), и, отчаявшись, озверев от преследования (вот уж истинно сказано: …а у любви твоей плачем не вымолишь отдых!),она скрывалась от Льва Моисеевича на Стромынке – надо было, к тому же, подтвердить свое право на это жилье, а то они (охламонки!) и вовсе распояшутся. Ну, пару ночей она там выдерживала, но после, все равно нужно было возвращаться на Каховку, потому что голова гудела от общежитского бедлама (тот кто попробовал курицу мясо не очень ест,Уткин), да и без вещей как обойдешься… И тут начиналось все сначала, ужесточалось только – теперь уже следовало защищаться от язвительных пассажей на тему где и с кем она была или отбиваться от них внаглую: где была, не ваше дело, и оставьте это, пожалуйста. И смешно, и обидно, и злость берет, и сделать ничего нельзя. Ну можно ли пожилому человеку так распускаться? И какая любовь у них может быть, спрашивается? Да никакой, и думать об этом нечего – вроде бы, а на самом деле вон как получается. После всех этих сложностей, переходящих в откровенную нервотрепку, университетская жизнь с ее учебой и газетной мельтешней еще большим благом кажутся – уж тут-то ее никто ни к чему не принуждает, тут она все добровольно делает. А не исключено, что и университет придется бросить, бежать куда-нибудь на край света (благо есть такой город – Магадан), спасаясь от преследования, потому что Лев Моисеевич и не таких еще глупостей может натворить, с него станется, совсем, кажется, вразнос пошел. Но ведь не домашним же на него жаловаться!
И тут нечаянная встреча. В университетском дворике. Нина на рысях – это нетрудно после столовского обеда – неслась на свой факультетов тихую спасительную читалку, моля бога, чтобы престарелый вздыхатель не затаился где-нибудь за деревом и не торчал на дороге наподобие фонарного столба, поэтому взор ее рыскал направо и налево и был особенно бдителен. Еще издали она засекла у подъезда филологического факультета умную птицу Пугачеву, которая, склонив по обыкновению голову к левому плечу, с кем-то общалась. Следовало притормозить и хотя бы поздороваться, однако не хотелось терять рабочий ритм и особых новостей не было, поэтому можно было на сей раз миновать умную и красивую птицу, полюбовавшись ею издали: все-таки хороша, зараза, жалко, если при ее уме и наружности не поняла она до сих пор ничего про амазонок, но скорее всего поняла, наверное, – у нее другого и выхода нет. Надо будет как-нибудь расспросить ее поподробнее, но это не сейчас – сейчас некогда, настроение не то, да и не одна она, какой-то парень перед ней с портфелем-дипломатом… И тут в скверике перед университетом явственно звякнула большая медная тарелка из того сумасшедшего сна, в котором Гегин играл в жесточку на сцене магаданского Дворца культуры профсоюзов, а парень словно подпрыгнул на месте, свалившись с колосников, и сощурился от яркого света сцены.
Дальше Нина все видела словно в замедленной съемке: как она беззвучно (но на самом деле крикнула что-то) бежит, а получается, что парит, совсем как солистка в балете, по пологой дуге, а Пугачева, услышав ее крик, поворачивается сначала вправо – ей так легче, потому что голова ее еще в наклоне влево, – но не видит ее, потому что Нина перемещается у нее за спиной, тогда Люда меняет направление движения, и они едва не сталкиваются, не касаются головами, потому что Нина уже достигла цели, стоит в метре от этого человека, слева от Пугачевой.
И тут обрушивается шквал аплодисментов. Ну, положим, это может только казаться, что аплодисменты, а на самом деле рванулись машины от Охотного ряда – вот вам и грохот, переходящий в овацию, тем более что над головами никакая трапеция не раскачивается (а там была).
– Здравствуйте! – говорит Нина этому человеку, именно ему, потому что Людке бы она сказала, естественно, обыкновенное «здравствуй».
– Здравствуйте! – говорит он и все вглядывается, вглядывается в нее, стараясь, наверное, узнать. – Мы с вами где-то встречались, да?
Ну конечно встречались. Не одна же Софьюшка по своему телевизору это волшебное представление видела!
– Да, – говорит Нина, – да, да, да!
– Ах, так вы знакомы! – удивленно, но и почти разочарованно тоже выговаривает Люда Пугачева, приглядываясь к ним. – Ну конечно, Слава – такая знаменитость, а Нина… Кто же нашу блистательную Нину не знает!
Звучит на уровне доноса: а это, мол, она, та самая… Не удержалась, умная птица, от обыкновенной сплетни, хотя бы намека на нее. Но ведь и понять Люду можно – из-под носа, можно сказать, уводят. Значит, и она что-то почувствовала, точнее – неизбежность происходящего? А его, значит, Слава зовут и он, оказывается, знаменитый.
– А чем вы прославились?
– Люда преувеличивает, – снисходительно роняет он, – вот она…
Ну, какая она – Нина, кажется, знает: красивая, умная птица, с такой состязаться страшно, и не решилась, бы Нина никогда, но тут что поделаешь – судьба, а вот он, Слава, кажется, довольно самовлюбленный тип. Но и тут что поделаешь, если именно он в тот вечер в представлении участвовал и, теперь она это вспомнила совершенно точно, следующим за Львом Моисеевичем был – куда же теперь от этого деваться? Вот и портфель-дипломат оттуда же.
– Нет, – говорит умная птица, – я тут ни при чем. И вообще, не кажется ли вам, что я тут лишняя?
Вот так и говорит – открытым текстом, не скрывая своей боли. Но это уже последний крик, наверное, сейчас она уйдет.
Слава перекладывает свой портфель из одной руки в другую – вот и вся реакция. Что и говорить, душевной щедростью он, наверняка, не отличается, черт бы побрал этого Гегина. Хотя и тот-то в чем виноват? Браки заключаются на небесах – так говорят, кажется, и Гегин откуда знал, кто именно с колосников свалится?
Но тем более загадочно и неизбежно все это, если браки действительно там планируются. И что этому зря противиться? Зря ведь все это будет, зря.
– Я позвоню, – говорит Нина, – у тебя ведь телефон не изменился?
– Да, – соглашается взбешенная Людка, сейчас на нее даже смотреть жалко, – позвони – и все расскажешь.
Шла бы уж ты лучше скорее, чем так зло шутить!
– Я тоже позвоню, – говорит Слава. – Ты вечером дома будешь?
Ах ты умник, черт побери! Разве можно так девушку обижать? Разве она виновата, что это судьба? Но и ты, птица, лети скорее – сваливай, как теперь говорят. Мало, ли какую он еще глупость вывезет?
Задыхаясь от сдерживаемых рыданий, Люда бросается к дверям факультета. Правильно, там туалет, можно марафет поправить, который сейчас весь размажется, да и нареветься-наплакаться можно в кабинке, раз никто не видит. Что же делать, если так получилось?
– Ну а мы куда? – спрашивает Нина, раздумывая, как лучше поступить: заскочить сейчас на факультет, сдать книги в читалке и собрать свои тетради, или ладно, пускай лежат, за такое ругают, конечно, но не очень, ничего с книгами и тетрадями не случится, если они в читалке переночуют, не хочется заставлять его, Славу, дожидаться, хотя это и недолго совсем, минут пять, но сейчас и пять минут много. Надо бы еще марафет перед зеркалом поправить, но это и где-нибудь по дороге сделать можно.
– А смотрите, весна, – говорит Слава. – Вы замечаете, какой сегодня день?
Она-то конечно. Но, кажется, и этот толстовский дуб проснулся и зазеленел – не в том смысле, что очень старый, он почти ее ровесник, может, только на год или два и старше-то, а это, конечно; не разница, а дуб потому, что не очень сообразительный.
– В Пушкинский, – говорит Нина, – я давно туда собираюсь. Хотите?
Он хочет. А до Пушкинского идти – совсем ничего. По Моховой до улицы Калинина, там мимо библиотеки, пересечь Фрунзе и на Волхонку. Звучит-то как – на Волхонку! Улицу волхвов? Тех самых, что нашли младенца в холодных яслях и поразились исходящему от него сиянию (а это был Он! И ясли с тех пор стали детскими – ну и заносит тебя, девушка!). Ах, белые цветы, белые цветы(см. А. М. Ремизова).
Ни при чем тут волхвы, конечно. В их честь улица и вовсе странно бы называлась – Волхвонка. И он – не тот младенец. Но что поделаешь, если так хочется думать о чудесах, и начались ведь они уже?
Идти совсем ничего, но за это время всю свою жизнь пересказать можно, и, может быть, хорошо, что не нужно в эти минуты играть какую-то роль – той же непобедимой амазонки (и они это поняли – свистнули, крикнули что-то и помчались, презрительно цокая копытами по брусчатке, вверх по улице Фрунзе). Но ты, голубчик, тоже рассказывай, не жадничай!
Время, однако, как бежит! Кажется, совсем недавно, в те сумасшедшие июльские дни, она подходила к этому цветаевскому акрополю, напичканная всякими бреднями о вопросах, которые задают медалистам на собеседовании (поступление в университет, первый заход), а потом ошалело неслась через все эти муляжи и слепки, через всю эту мертвечину (одна мумия в Египетском зале чего стоит!), пока не выскочила на зеленую лужайку – импрессионисты! А ведь с тех пор уже почти три года прошло. И сколько за это время всего переменилось! Смятение и падение, магаданская спячка (ну не так уж она крепко спала, положим, чтобы ничего не чувствовать), второй заход, принципы, нарушения (поблажки себе) и возвращение к ним… И вот она уже совершенно уверенно идет к той лужайке и знает, в каком месте на нее посмотрит ренуаровская тетка и откуда откроется причудливый, в зеленых зарослях мостик…
Не слишком ли много глупостей она ему наболтала? Ахматова, Магадан (вскользь Мандельштам, конечно), главная наука – экономика, живет на квартире, Москва нравится (глупее он ничего не мог спросить). Но разве всегда надо заковываться в броню и выставлять копья? Разве не прекрасна незащищенность той же ренуаровской тетки?
Ну а он что говорит? Коренной москвич, пятый курс, живет с родителями. Импрессионисты – пройденный этап. Предпочитает Кандинского, Малевича, выше всех – Шагал. Надо навестить Третьяковку – может быть, что-нибудь новенькое появилось, они это любят – по полотну, по единственной картинке незаметно вывешивать. И то хорошо – курочка по зернышку… (а это уже, кажется, намек на будущее свидание, однако нужно, чтобы приглашение последовало по всей форме, не такая она шалавка, чтобы на столь невнятный зов бежать). А здесь, среди этого старья, извините, скучно.
Ах, какие мы авангардисты! И даже эта перламутровая тетя нас не прельщает? И статуэтки Майоля не волнуют? И «Ева» Родена? Вот ведь несчастье: он и пижон к тому же. Он общепризнанным восхищаться не может, ему обязательно подавай что-нибудь такое-разэдакое. Ну конечно – Кандинский, Малевич…
А с другой стороны, сидит вот этот чугунный дядя и наивно изображает, что он думает о чем-то. А ведь он ничего не знает, этот дядя, ничего. И то, что жизнь может в одну минуту перевернуться, как у нее сегодня – вся, раз – и вверх тормашками. Может, и ей, Нине, не стоит из себя премудрую корчить, с готовыми рамками ко всему подходить, взыскательность на полметра вперед выставлять? Тем более что завтра в Третьяковку пойдем и кое в чем удостоверимся. Завтра, да? Хорошо что газету – следующий номер – другая редакция выпускает, нет нужды пока крутиться. Нужно только вечером свет не включать, к телефону не подходить, на звонки в дверь не реагировать. Ну и, само собой, проскочить на Каховку раньше, чем Лев Моисеевич там где-нибудь наблюдательный пункт займет. Интересно, заметно ли с улицы, если она телевизор включит? Но не будешь же, черт побери, целый вечер в темной комнате сидеть! Можно было бы, конечно, на Стромынке переночевать – это бы гарантировало полную безопасность и неприкосновенность, но надо ведь завтра выглядеть прилично, а марафет, все одежки – на Каховке, ну и ванна, конечно. Так что придется вечером на Каховке без света куковать.
– Но почему ты все-таки пошел за мной? – спросила Нина, нежась под еще нежарким солнцем, жаркое бы она не выдержала (все-таки северная закваска). Дело происходило на широком и пустынном в этот ранний час пляже какой-то реки. Дальше, на заросших кустами холмах, птахи какие-то щебетали.
– Разве? – спросил Слава. Он встал, подобрал с песка высохшую коровью лепешку (они-то как сюда попали, больше коровам места погулять не нашлось?) и, раскрутившись как заправский дискобол, метнул ее в сторону неуемных птах. Красив он был в этот миг, что и говорить. – Разве я пошел? – спросил он, вернувшись. – Да выключи ты эту дребезделку!
– Чем это тебе Мориа, простите, не нравится?
– Ты хочешь, чтобы все соседи сбежались?
Ах, какой он милый и заботливый, подохнуть от такой заботы можно.
– Ты на мой вопрос не ответил.
– А ты сначала выключи.
Вот ведь, зараза, привязался. И откуда он только такой настырный взялся (но это, конечно, не всерьез. Да и настырный ли он? В этом Нина как раз и не была уверена. Пожалуй, именно в его настырности она больше всего сомневалась. Какой-то парадокс: сложен как бог, а требуешь от него что-то – ни рыба ни мясо, морковный кофе. Такой, конечно, для зарядки утром по окрестностям не побежит. А с другой стороны, не только в этом счастье. Не только в этом, но и в этом тоже, не так ли?). Но пластинку она выключать не будет – только чуть-чуть приглушит, чтобы он успокоился. Теперь твоя душенька довольна?
– Ну так что?
– Ты все про это? Но ведь Людка хитрая, как я не знаю кто. Ты разве не видела?
Положим, птицы хитрыми не бывают, – умными или глупыми, добрыми или злыми, но хитрыми? Едва ли. Ну а кукушка, например? Но какая же это хитрость – свое дитя в чужое гнездо подбросить? А сама с чем останешься? Это не хитрость, а какой-то врожденный порок, едва ли его обладательницу счастливой назовешь.
Такое было хорошее в то утро настроение (а на самом деле ночь еще, темно за окном), что всех жалеть хотелось. А чем кукушка хуже других?
– Ну ладно, Людка хитрая, а я, по-твоему, дурочка из переулочка? – Этот голубчик одобрительно хохотнул. Встать и дать, что ли, ему как следует, но лучше послушаем, что он дальше поведает, и тогда уже за все сразу. Да и лень, лень и истома, черт побери, приятные во всех членах и уголочках, хотя какие могут быть уголки и резкости у плавного, нежного тела – мы тоже кое-что стоим, пусть эти козлоногие не очень задаются.
– Ну и что?
– Ничего. А ты знаешь, кто у нее родители?
Его и это, оказывается, интересует. Ну-ка, ну-ка!
– Пенсионеры. А что?
– А то, что они слепые, поняла?
Чего ж тут не понять: слепые – значит, не видят ничего. Инвалиды с рождения. Ну и что? Людка-то все видит отлично, птица зрячая. И не ослепнет, надо полагать, если уже двадцать лет видит. О чем тут беспокоиться?
– А если она их тоже захочет в Москву перетащить?
А, вот оно что! Вы посмотрите, как далеко он считает. Значит, у него в отношениях с Людой самые серьезные намерения были – иначе что ему ее родители, но, когда он узнал, что они инвалиды, сразу все изменилось, потому что он увидел (не слепой ведь) в этом возможную обузу. Так ведь? А если он, полубог, с ней пошел, Люду на нее, Нину, променял и сейчас об этом откровенно говорит (хотя и не сразу решился – Мориа и возможная вылазка соседей ему, видите ли, мешали), то у него и по отношению к Нине намерения серьезные, хотя она к Фальку довольно равнодушна, а Кандинского видела только на немногих репродукциях. Но это, последнее, значит, не мешает. Интересно, это он все сам решил или с родителями советовался?
– Родители, конечно, дело серьезное, – ну и противный же у тебя, красавица, сейчас голос, наверное, но ведь и ситуация, прямо скажем, не из приятных – какая-то любовь к анкетным данным получается, а не к живому человеку, ну вот и спал бы ты, милый, с бумажкой, ее бы целовал и гладил, по ее гладкой поверхности скользил. – Но разве Люда сама по себе не хороша?
– Хороша, конечно, – ух, сейчас она ему, кажется, выдаст, будет ступеньки с четвертого этажа считать, а то пригрелся тут и думает, что река и пляж – взаправдашние и страшнее коровьей лепешки тут ничего нет, но какое-то соображение в Славике просыпается, и он довольно успешно, хотя и грубовато, выруливает: – Но ты не хуже, правда?
Грех с этим не согласиться. Однако давайте все точки расставим, если разговор начистоту пошел. Такое ведь не каждый день бывает.
– Но ты ведь и про моих родителей не все знаешь.
– Отчего же? – говорит этот весельчак и затейник. – Мама есть, папы нет. Очень распространенный случай.
– Но ведь папы только как будто нет. А на самом деле он где-нибудь, наверное, существует. И, представь, завтра утром с фанерным чемоданчиком явится: привет из дальних лагерей от всех товарищей-друзей… Тогда как?
Полубог заразительно смеется – песенка лагерная ему, что ли, так понравилась.
– Не явится, – говорит он, нахохотавшись, – а если и придет, то какие права он на тебя имеет?
Прав-то у папочки, действительно, нет. Но ведь ее, Нинин, долг перед ним – тут она сама еще для себя ничего не решила, и как она поведет себя, если папочка явится, сейчас сказать не может, – но ведь долг-то все-таки есть?
– Да неужели у тебя гордости никакой нет? – вопрошает этот носитель-знаменатель-повелитель. – Двадцать лет ты ему была не нужна, а теперь будешь лелеять его светлую старость?
Ах, не надо про гордость. Этого товара у нас хоть отбавляй, только оставь ей какую-нибудь щелочку, как загремят трубы и копыта зацокают, но ведь тогда и от тебя, обожаемый, ничего не останется: растерзают тебя, растопчут и – в высокое окно под тяжелые колеса троллейбусов. Но рано еще, рано.
Нина переставляет иглу проигрывателя, чтобы пластинка играла еще долго-долго. А мы обойдемся пока без гордости, труб, коней и воплей. Так ведь, милый? Ты ведь тоже не думаешь, что на сегодня это все? И пусть это будет всегда вот так, а не на грязном чердаке – головой о замок, и не на липкой от смолы сосне. (Ага, еще и картина над кроватью или тахтой для полного изящества, – защитная самоирония, чтобы не захлебнуться окончательно в этой патоке чувств и придуманных красивостей. – Но чего ты там сама себе городишь? Ясно ведь, что так лучше, надежнее, а коня, всю эту конюшню продать, обменять можно на новую жизнь или, по крайней мере, новые условия жизни. – Вот-вот! Кто-то позволят тебе чужую квартиру продавать или обменивать! Сама в ней на птичьих правах живешь. – Да не собираюсь я ее продавать, это только так, фигурально. Птичьи права – это у Люды Пугачевой были, да кончились. А теперь, извините, Славик – мой. – Твой, конечно. Но ты еще с Львом Моисеевичем развяжись попробуй. А тебя ведь этот красавец еще и не позвал никуда, никаких предложений не сделал. – Позовет, сделает – не видно разве? – Но если и позовет, где доказательства, что он – это он? Один чемоданчик, портфель-дипломат? Таких портфелей в Москве десятки тысяч, ты с каждым и ляжешь? – Да заткнись ты, наконец! Слушать противно. – А ты не злись. Возразить-то ведь тебе нечего? – Ну и пусть, только уйди, пожалуйста, не мешай. Ну неужели ты, дубина, не понимаешь? – Я-то понимаю, а вот ты потом жалеть будешь. Мало, что ли, уже обжигалась? – Да, мало! Мало! И убирайся скорее. Меня муж зовет. – Ой, не могу – муж! Ой, насмешила!)
– С ума сойти, – сказала Нина, – откуда ты взялся, такой красивый и нежный? Хочешь, ударь меня! Ну ударь, пожалуйста. Еще! Ты мне так все лицо разобьешь. Как я завтра на занятия пойду? Нет, еще! Не бойся, бей еще! Да не жалей ты меня, господи! Что я – хрустальная, что ли?
Звать или не звать Аллу Константиновну – это, пожалуй, был главный вопрос, потому что все остальные: о платье, о ресторане, о машинах, гостях – решались сами собой (а как же иначе, если Слава коренной москвич, родители его – шишки порядочные, и никаких проблем для них словно и не существует). С одной стороны, звать, конечно, нужно – как маму лишить такого права? Да и бюджет ее, надо полагать, такой расход выдержит. Ну и согласие, что ли, получить не мешает. Впрочем, последнее как раз и останавливало. И не потому, что Алла Константиновна вдруг не согласится – да с радостью, наверное, подарит свое родительское благословение, только, может, для порядка какую-нибудь банальность произнесет типа «Смотри, дочка, тебе жить!», ведь ей, свою судьбу устроившей, дочь поскорее пристроить – самое милое дело. А это, согласитесь, не так уж приятно слушать. Да и зачем ей, Нине, чье-то согласие? Она и раньше, гораздо раньше, своим умом прекрасно обходилась. Не всегда, правда, все хорошо получалось, но ведь зато сама – сама, понимаете? А тут, когда, может быть, что-то важнейшее в ее жизни происходит, прикажете у мамочки спрашивать? Да ни в жизнь! Зачем ей чье-то согласие, если все уже и так решено? Мамочка, кстати, у нее тоже не очень-то спрашивала, хотя ее, Аллы Константиновны, решение и Нинины интересы затрагивало. А как мамочка тогда написала? «Ты не думай, что я с тобой советуюсь…» Вот и она тоже советоваться не будет.
Тем более что нужно еще с Львом Моисеевичем как-то договориться, объяснить ему, уговорить. Не при мамочке же это делать. А то, чего доброго, он у Аллы Константиновны попробует поддержку искать и, следовательно, их отношения (бывшие, конечно) афишировать. А это уж и вовсе ни к чему. Так и до Вячеслава дойти может. Тоже, как вы понимаете, полный завал – можно и к портнихе, что шьет свадебное платье, больше не ходить.








