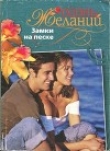Текст книги "Не будем усложнять (СИ)"
Автор книги: Spanish Steps
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 30 страниц)
– Ничего не случилось…
А потом на всякий случай решил осторожно прощупать почву:
– А что, что-то случилось?..
– Ты не помнишь? – легкое напряжение в голосе переросло в ощутимое беспокойство.
– Нет, не особо…
Несколько секунд он молчал – то ли собираясь с мыслями, то ли подыскивая слова, а потом выдал:
– Тарьяй, ты принимаешь наркотики?
“Вот черт…”
– Нет, с чего ты взял?! – показательно возмутился я, машинально косясь на пакетик рядом с кроватью.
“С того. Умник нашелся.”
– Вчера мне звонил Арнфинн, – продолжил Томас, никак не реагируя на мое возмущение, – и сказал, что по-другому он твое поведение истолковать не может, и…
Он немного помедлил, а потом твердо закончил:
– И в театре ему наркоманы не нужны.
Вот тут я остолбенел. Это было совсем не то, что я ожидал… что я думал услышать. Это была, прямо скажем, катастрофа. Как бы зажигательно и в каких бы приятных компаниях я ни проводил все это время, делать сей факт достоянием общественности мне, мягко говоря, не хотелось, не говоря уже о родителях, которые, понятное дело, поинтересуются, чего это их сына с треском выперли из театра, за какие такие заслуги, и это после общенационального успеха… Ну уж нет, публично признаваться в пагубных пристрастиях никаким образом не входило в мои планы, да и куда бы меня взяли потом!.. У нас тут все же не Голливуд, у нас Норвегия, наша публика до толерантности к рекреационному использованию дури еще не доросла.
И отец… Как он посмотрит на меня, когда узнает… Нет, только не это!
Томас не стал дожидаться, пока я снова обрету способность изъясняться: на том конце он вздохнул и прочистил горло.
– Арнфинн… кхм, скажем, выразил… удивление – да, удивление твоему поведению. Он сказал, что ты вел себя вызывающе: опоздал на репетицию, открыл с ноги дверь…
– Я… я не…
– … выкрикивал реплики, которых не было в сценарии, перебивал других актеров… повышал голос…
Он сделал паузу, и я уже было понадеялся, что на этом перечисление моих подвигов закончено, но не тут-то было.
– И когда Арнфинн сделал тебе замечание, уже далеко не первое, ты… кхм…
– Что?..
– Ты стал ему говорить странные вещи… Будто он все время к тебе придирается – и именно к тебе – потому что ты… потому что он…
У меня похолодело внутри, я вдруг понял, к чему он ведет.
– Что… он?
– Что он, скажем… К тебе неравнодушен…
– Блять, – обессиленно простонал я, закрывая лицо рукой и сползая по матрасу вниз.
– И что в его возрасте такое бывает часто – влечение к молодым людям…
– Блять…
– Кажется, ты сказал “к мальчикам” – влечение к мальчикам.
– О, господи… блять…
– Да, – подытожил Томас. – Но и это еще не все.
– Не все? – я машинально втянул голову в плечи.
– Ну… Судя по всему, ты прямо при всех заявил, что… кхм… В общем, что ты не против… неких услуг… интимного характера… орального характера, – он снова откашлялся и закончил: – Что ты все понимаешь, и если для работы так надо – то ты готов, хоть сейчас… Что работа – есть работа.
Никогда – ни разу в жизни – ни одного-единственного раза мне так не хотелось исчезнуть. Накрыться одеялом с головой, абра-кадабра и – пуф!.. – я где-то далеко-далеко, за многие мили отсюда, на необитаемом острове. С пневмопистолетом или нет – неважно.
Волны лижут песок, светит солнышко, на деревьях растут фрукты – мог бы я питаться фруктами весь год?.. Конечно, мог бы!.. Фрукты – это очень полезно, во фруктах много витаминов и всяких полезных… всяких…
– Тарьяй?..
– Угу…
– Потом ты сошел со сцены и попытался сесть к нему на колени…
Я застонал в голос.
– Ты меня слышишь? – снова позвал он меня с другого конца.
– Да….
– Неужели ты ничего не помнишь?
Я молчал, сжимая телефон у уха и зажмурившись до звезд. “Если я никого не вижу, значит, и меня никто не видит. Если я никого…”
– С тобой все в порядке? – спросил он снова, на этот раз мягче, обеспокоенно. – Ты точно не хочешь поговорить?..
– Ммм, – сказал я в подушку. – Ммм…
– Ты же знаешь: я твой агент и связан соглашением о неразглашении, это касается всех, включая твоих родителей… Но даже и без того – все в любом случае останется между нами…
– Угу…
– Скажи, ты действительно принимаешь наркотики?
– Нет, – собирать мысли, разметанные по краям сознания было непросто, как и изъясняться более или менее связно, но хотя бы на то, чтобы отрицать связь с преступным миром наркоторговли – хотя бы на это силы у меня нашлись. Как говорится, и на том спасибо. – Томас, конечно, нет… Просто я… устал. Немного устал – вот и все.
– Это что-то личное? – помедлив, спросил он.
Я набрал в грудь побольше воздуха и благодарно вцепился в предложенный им спасательный круг.
– Да!.. Да, личное. Я… просто… личное, да.
Он вздохнул и откашлялся, а потом, словно наконец сталкивая камень с моих плеч, продолжил обычным решительным тоном:
– Так я Арнфинну и сказал. Что у тебя стресс, слишком большая нагрузка, что от тебя многое ожидается, и все это так внезапно… Что это все нисколько на тебя не похоже – налицо нервный срыв, и, очевидно, проблемы на личном фронте. Что ты, конечно, не имел в виду ничего из того, что сказал… что это был нервный срыв.
– Спасибо, – пробормотал я, по-прежнему прячась за рукой. – Спасибо, Томас.
– Да, – ответил он коротко. – Теперь нам надо решить, что делать дальше.
– Угу…
– Тарьяй! – в голосе четко прозвучало требование, и это привело меня в чувство: я открыл глаза и прислушался. – Соберись! Нам необходимо минимизировать ущерб, и как можно скорее. Если, конечно, ты все еще заинтересован…
– Я заинтересован! – поспешно выдохнул я. – Я очень заинтересован, я сделаю все, что необходимо!..
– Отлично. Тогда мы начнем с того, что ты заедешь к нему в офис и извинишься.
– Хорошо.
– И извинишься убедительно, слышишь меня?! Искренне – чтобы у него и мысли не возникло, что ты это делаешь ради роли! Чтобы он почувствовал, что ты этого хочешь.
– Да.
– А потом еще раз в театре, публично.
– Еще раз?
– Еще раз, – подтвердил Томас. – Скандалил-то ты перед всеми, разве нет?..
– Судя по всему, – я вздохнул.
– Значит, и извиняться придется перед всеми, – подытожил он. – Все то же самое: что сорвался, не выдержал стресса… ты знаешь.
– Хорошо, – я снова вздохнул, но уже легче: в конце тоннеля забрезжил свет – пока еще слабый, но тем не менее. – Публично – так публично.
Перед тем, как попрощаться, он заметил:
– Это важный момент в твоей карьере – самое начало. У тебя получился хороший старт – это правда, даже, можно сказать, отличный. Но тем сильнее надо стараться не испортить его, понимаешь? А работа с таким режиссером, как Арнфинн – такого уровня… Это шанс, который выпадает далеко не всем. Не забывай об этом.
– Да, конечно, – я потер лоб рукой. – Спасибо тебе еще раз и извини, что приходится это разгребать.
– Ну, во-первых, это моя работа, а во-вторых…
Он вдруг издал какой-то звук, подозрительно похожий сдавленный смех:
– Видишь ли, с Арнфинном… Я еще никогда не слышал, чтобы кто-то с ним так разговаривал… так, цитирую: “вызывающе и неуважительно”, так что наблюдать его реакцию было… скажем…
Томас помедлил, подбирая правильное слово, но тут же спохватился – профессионально пресек всякие шутки и продолжил обычным тоном:
– Впрочем, как бы то ни было, ты был неправ и должен извиниться. И, если повезет, все мы быстро забудем об этом инциденте и вернемся к работе. Согласен?
– Согласен, – подтвердил я. – Спасибо тебе еще раз.
– Не за что. И… Тарьяй?
– Да?
– Ты обращайся, если вдруг что, хорошо?
И, не дожидаясь ответа или встречного вопроса, он добавил:
– Если вдруг тебе будет нужна какая-то помощь, хорошо?.. Я всегда постараюсь тебе помочь.
Я поблагодарил – еще раз, уже бесчисленный за это утро – и попрощался, а потом совершенно без сил рухнул обратно на постель. “Если вдруг тебе будет нужна какая-то помощь…” Я подтянул к себе его подушку, обнял, прижал крепче. Глубоко вдохнул и накрыл нас одеялом.
Позвони ему… Сейчас – набери его номер и скажи, что ты больше так не можешь. Пусть будет все, как прежде, пусть… Пусть будет, как он хочет. Так больше не может продолжаться, совсем скоро ты сорвешься окончательно, и даже всесильный Томас не сможет тебе помочь… Ну же… Позвонишь?..
***
Как говорится, ничего не попишешь: я пошел.
И извинялся. Извинялся хорошо. Извинялся, что предложил ему отсосать. И если бы он предложил ему отсосать в качестве извинения за то, что я предложил ему отсосать, то я непременно отсосал бы.
Блять.
Потом я повторил все то же самое для труппы. Что задергался, устал, что сорвался, что плохо сплю и блади-блади-бла. Труппе-то было насрать, они свое удовольствие уже получили, когда арнфиннову физиономию наблюдали в мой, так сказать, миг триумфа, так что мои извинения были чисто формальными.
– Будем считать конфликт исчерпанным, – благосклонно кивнул Арнфинн, – бремя славы, неокрепшие умы и прочее. Однако на главную роль я уже кандидатуру подобрал, так что не обессудь. Мне нужен стабильный результат, а не вот это вот…
Он неопределенно махнул рукой.
“Подождите, и что – и это все? И больше ничего?!”
Нет, он должен был мне что-то предложить!.. Не может быть, чтобы эта садистская сволочь вынуждала меня извиняться только для того, чтобы потешить свое самолюбие!.. Хоть что-то должен он был дать мне взамен?!
Он поджал губы, явно наслаждаясь собственным величием, а потом продолжил:
– Но у меня по-прежнему нет никого на роль Ферко, так что, если хочешь….
У Ферко в этой пьесе была одна сцена, чтобы вы себе представляли. Одна второстепенная сцена. Ну – ладно: две сцены, в одной из которых он торчит мебелью на заднем плане.
И это вместо главной роли.
– Арнфинн, – примиряюще молвил я, сложив руки в молитве, что послушница-кармелитка. – Может, что-то можно придумать?.. Я понимаю, я вел себя не лучшим образом, но все же… Я справлюсь с главной, вы же знаете, что я справлюсь… Может, что-то можно придумать?
То ли что-то задело его в моем голосе, по-хорошему задело – настолько, что он почувствовал мое разочарование, – то ли уже устал выебываться упрямой козлиной, то ли еще по какой-то причине, но он не только снизошел до объяснений, но еще и заговорил тише, как-то мягче, почти уютно, словно уговаривая:
– Тарьяй… Ты зря думаешь, что это неважная роль. Да, не главная, но главную раскрывает, делает ее глубже, помогает зрителю осознать глубину разворачивающейся трагедии… Понимаешь? И потом: неужели тебе неинтересно сыграть человека втрое старше себя? Раздвинуть, так сказать, горизонты…
“Ох, я бы тебя раздвинул сейчас, вот прямо так бы раздвинул – до кровавых соплей…”
– Мне даже кажется, – блеснув стеклами очков, он как-то задорно вскинул голову и о-господи-не-могу-поверить улыбнулся, – тебе эта роль подойдет как никому. Может быть, даже какая-то это особенная роль для тебя, ммм?..
“Блять”, – молча вздохнул я, однако делать было нечего: либо так, либо никак.
– Ну, если вы считаете, что так будет лучше…
– Да, думаю – да,– пробормотал он, несколько секунд сосредоточенно рассматривая меня с головы до ног. Потом его голос снова окреп и приобрел прежние командирские ноты: – Но если ты еще хоть раз опоздаешь на репетицию!..
Так я получил роль Ферко. Даже отсасывать не пришлось.
Я поясню: действие пьесы происходит в Будапештском гетто прямо перед депортацией. Главный герой, еврейский парень Ави, влюбленный в Марику, венгерку, оказывается в гетто, где отец Марики становится охранником. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что хэппи эндом тут не пахнет. А Ферко – это пьянчуга, протирающий столы и тренькающий на раздолбанном пианино в своеобразном пабе (ну откуда в гетто паб, сами посудите?!), где до наступления комендантского часа можно пропустить по стаканчику дешевого пойла.
Вот и вся роль. И это после “Скам”, после Гюльрутен, после известности – после этого всего. Нет, конечно, она не единственная была на горизонте, эта роль – пошли предложения по двум сериалам, еще какой-то телепроект, но большей частью в перспективе, в будущем. Мне предстояло отучиться еще год, а там, обещало агентство, нет пределов.
Так что выхода у меня, судя по всему не было, пришлось довольствоваться тем, что есть: второстепенной ролью на две реплики, потому что главную я с шиком проебал. Вот так банально.
Потом начались репетиции, и старый хрен заставлял меня приходить к самому началу, хотя сцена Ферко была только в третьем акте, да еще и время прихода каждый раз отмечал, как в начальной школе. Я знал все роли наизусть и при необходимости мог вступить за каждого – это, видите ли, было его условием. “Максимальное погружение в атмосферу постановки”. И когда я сказал Томасу, что “как-то это чересчур, ты не находишь?!”, тот просто развел руками, мол, тут он ничем помочь не может, такое у режиссера видение творческого процесса.
”В задницу засунь себе свой творческий процесс, – думал я каждый раз, как слышал очередной окрик. – В старую свою, сморщенную задницу”. И, мысленно регулируя скорость подачи гвоздей в пистолет, отправлялся в кулисы, чтобы начать сцену заново.
Разумеется, после запоминающегося инцидента, с колесами пришлось завязать. Гарантировать правильную дозу я уже не мог, а окончательно пускать под откос свою молодую жизнь, полную надежд и многообещающих перспектив, пока не хотелось.
Экстази все же не зря называется экстази. Назвали бы его “сойдет”, может, было бы не так тоскливо с него слезать и заново учиться хоть как-то интересоваться людьми, находить смысл с ними встречаться, пить пиво и слушать звуки их голосов. Конечно, сначала вам хочется убить себя, потом всех их по очереди, потом снова себя… Потом вы устало смиряетесь… А потом, со временем, Давид выдает очередную глупость, и вы, к собственному удивлению, не представляете в этот момент, как красиво и лаконично выглядит на его шее удавка, а смеетесь – сначала чуть натужно, за компанию, а потом вроде как даже искренне… Тогда Марлон смотрит на вас с другого конца стола и салютует стаканом. А вы салютуете ему.
Жизнь потихоньку вошла в привычную колею, зашелестела отрывными листами старомодного календаря, какой был у деда на столе, запиликала утренним будильником, зашуршала занавесом, задребезжала трамвайными стыками, зашипела кофейной струей из термоса.
А потом… Потом наступил ноябрь.
И я почти ко всему привык.
Привык просыпаться в темноте,
ходить на занятия,
вовремя покупать зубную пасту,
варить спагетти и поливать их кетчупом,
вечером развешивать на просушку куртку,
по пятницам ходить в паб,
не употреблять экстази,
засыпать, наблюдая, как по стене ползают длинные тени,
играть старика,
носить короткие волосы и
огибать скрипучие половицы на сцене.
Привык, что в гриме я не узнаю своего лица,
что на волосах остается пудра для париков,
что Марлон перезванивает, если я вдруг не отвечаю на сообщение,
что в спальне есть лампочка,
что можно спать посередине кровати.
Привык к осени.
И что он далеко.
Ко всему привыкаешь.
Лампочка в спальне, новые замки в квартире – в какой-то день пришел слесарь из домоуправления и, сунув мне под нос постановление о всеобщей замене, тут же загремел инструментами, а потом, уходя, оставил два набора новых ключей. Новые замки, ключи, лампочка – что еще нужно человеку для новой жизни?..
И я старался начать ее, новую жизнь. Когда проглотил первую таблетку, когда впервые кончил под кем-то другим, в кого-то другого… Когда снова глотал колеса, когда ел по часам, только чтобы не упасть с ног, а потом снова глотал, снова вбивал кого-то в кровать, снова заводил будильник, чтобы, давясь, есть хоть что-то… Может быть, тогда.
Или еще раньше, в клубе – в тот момент, когда он возник в дверном проеме и посмотрел на меня. Или, может, сразу за этим – когда его тень исчезла из моего поля зрения.
Или когда на землю упал первый осенний лист, и я понял, что лето кончилось.
Старался, старался, старался… Изо всех сил – старался. Однако чем крепче я зажмуривался и гнал от себя воспоминания, чем плотнее закрывал руками уши и яростнее мотал головой, тем более осязаемым виделось мне его лицо, тем четче слышался его запах, его голос, тем реальнее были прикосновения. Какое-то время я упрямо сражался с собственной памятью, неизменно проигрывая, оставаясь совершенно выжатым и обессиленным, а потом… сдался. Позволил ему приходить вечером и ложиться рядом, на свою подушку. Рассказывать, как прошел день, что было сегодня на площадке, хорошо ли к нему относятся коллеги и режиссер; какое кино он смотрит по вечерам, делает ли попкорн в микроволновке, есть ли у него вообще микроволновка; добирает ли он пальцем крошки чипсов из пакета, найдется ли поблизости ресторан индийской кухни, с кем он проводит время, встречаются ли ему интересные люди, смеются ли они его глупым шуткам, часто ли он бывает один и не грустит ли тогда. Какая погода в Копенгагене, дуют ли ветра, чем пахнет воздух и не забывает ли он брать перчатки.
Он негромко говорил и улыбался, снова разливая вокруг густую, переливающуюся синеву. Я натягивал одеяло ему на плечи, рассеянно кивал, улыбался в ответ и думал, как мне повезло. Повезло – как могло повезти только раз, только случайно, без всякого повода: встретить его, находиться рядом, любить. Быть тем, кого любил он. Кого он обнимал – всем телом сразу, будто от макушки до самых кончиков пальцев на ногах, на кого так смотрел и кем гордился.
Говорят, что у всякой реакции есть свое время. Может быть, это просто ничего не значащая фраза, одно из тех избитых клише вроде carpe diem, но мне хотелось верить, что нет – что она имеет какой-то смысл. И, раз уж забыть его раз и навсегда – просто проснуться однажды, вздохнуть свободно и больше не вспоминать – раз уж это было мне неподвластно, то оставалось одно: ждать.
И я ждал. Пока он станет приходить реже, оставаться меньше, пока его след на подушке станет легче и незаметнее, пока лицо подернется пленкой, покроется мелкими радужными пятнышками и крохотными царапинами, словно старое зеркало в номере отеля в Лондоне, где целых два дня мы были невозможно, непозволительно счастливы.
А до тех пор у меня не было другого выхода, и я позволял ему приходить. Возникать из ниоткуда, приближаться, тихо ступая по темной квартире, отгибать край одеяла и ложиться рядом. Я двигался на свою половину и принимал в руки его тело – иногда полное сил и энергии, иногда усталое после длинного дня, но всегда одинаково теплое, источающее тот его запах, который я не спутал бы ни с каким другим. Позволял нависать надо мной, опираясь на локти, и рассматривать что-то в моем лице, перебегая взглядом от лба к подбородку, отыскивая в нем что-то, какие-то черты или одному ему известные знаки. Дотрагиваться до моих губ – сначала самыми кончиками пальцев, а потом прижимаясь своими, ласкать языком, раскрывать, проникать внутрь – то нежно и осторожно, бережно, будто в страхе поранить меня ненароком, то вдруг уверенно, требовательно, жестко, пока она снова не происходила в нем – эта перемена, когда он становился зверем, когда его зрачки сужались в черные щели, когда отрастали когти и клыки и когда он смотрел на меня хищно и голодно.
Тогда я отворачивал голову, в горячечной истоме подставляя шею, и он проводил по ней сначала подушечками когтистой лапы, а потом горячим, шершавым языком, прикусывая то там, то тут, словно примеряясь, выискивая, откуда напор крови будет резче. Я дотрагивался до него, гладил по переносице, по вздрагивающим ноздрям, по губам, проводил по кромке острых зубов, давая понять, что в любом случае, что бы он ни решил сделать со мной, не стану сопротивляться. Он вклинивал колено мне между ног, и я терся об него и обжигался, и терся сильнее, а потом он входил – не мигая, не отрывая взгляда. Изогнувшись, я отдавал себя его напору, протягивал ему, толкал навстречу, чтобы потом, так же покорно и с таким же наслаждением принять в собственной плоти, в венах и жилах его оргазм, почувствовать, как восхитительно он бьется внутри, как пылает, как разлетается сверкающими вспышками.
Или он был тих и ласков, качал меня в руках, баюкая, нежа… Смотрел на меня так, словно любить меня было единственным для него смыслом, самой сутью его существования, словно ни в нашей постели, ни вне ее не существовало его желаний, его удовольствий, его нужды, а были только мои, и только моим он подчинялся. В такие ночи он был особенно осторожен, особенно внимателен; гладил и ласкал, чутко реагируя на каждую мою самую неприметную реакцию, самый тихий стон – и, проникая в мое тело, тут же замирал и прислушивался, словно я был сделан из тонкого, прозрачного стекла. Потом, когда это промедление становилось невыносимым, я цеплялся за его плечи и умолял двигаться – тогда он качался медленно, тягуче, словно кружил надо мной, целовал и выласкивал, а когда я больше не мог сдерживаться, и оргазм взлетал внутри кричащей птицей, он нежно накрывал ее руками, нашептывал что-то, и она затихала в его ладонях – обессиленно и благодарно.
Я просыпался в поту, в агонии, упираясь головой в подушку, окостенело сжимая простыни, и мне хватало пары судорожных движений, чтобы ярко, насыщенно кончить.
Потом мы лежали рядом, как раньше, его дыхание становилось тише… спокойнее… и вот я уже почти не мог отличить его от своего, уже почти не слышал стука его сердца… тепло его прикосновений испарялось с моей кожи… запах рассеивался… веки наливались тяжелым, я закрывал глаза, рука на его подушке расслаблялась… становилась невесомой…
– Спокойной ночи, – шептал я, и уже самым краешком сознания ловил ответный шепот: – Спокойной ночи…
А утром был снова новый день.
Новый день моей новой жизни.
Время шло, и постепенно он стал появляться реже, время от времени; его голос был теперь только лишь невнятным шорохом или тихой мелодией, звуки которой я слышал в полузабытьи, черты неуловимо расплывались, скрывая его лицо, выражение глаз, лучики морщинок… его особенную, предназначенную только мне улыбку… Мне стало казаться, что я наконец его забываю, что его ласки, его смех и взгляд – все это исчезает из моей памяти, тускнеет, отдаляется, теряет контуры и объем… Будто я медленно прохожу сквозь стену: сначала только пальцы, потом запястье, локоть… Потом вся рука, грудь… Потом я делаю шаг и ныряю с головой.
И вот я уже по ту сторону, а он остается по эту.
Нет, конечно же, я не забыл его полностью – как бы я мог забыть его за несколько месяцев, но само ощущение его присутствия – по крайней мере, с этим я справлялся.
Привык справляться.
И он помогал мне в этом, ни разу за всю осень не дав о себе знать.
***
А вот к чему привыкнуть сложно – так это к тому, что Арнфинн опять не в духе.
– Мы готовы с фонограммой, – он махнул рукой, давая знак начинать. – Сандвик, твой выход!
– Одну минуточку…
– Что опять, что?!
– Как вы себе это представляете? – поинтересовался я, максимально стараясь держать себя в руках и не поддаваться раздражению. – Мы репетировали все это время с записью, простая партия фортепиано, а теперь вы хотите, чтобы в день премьеры я выдал номер под аккомпанемент живой виолончели?! Как это вообще возможно?!
– Как… – проворчал он недовольно. – Как – вот так!.. Кто же знал, что в последний момент у Кристине организуется гастрольная поездка? И концерт еще этот, в ратуше… будь она неладна…
– Да, но зачем теперь-то?! Давайте оставим, как было, под фонограмму!
– Кристине Людвигсен – это имя в музыкальной среде, и ее участие в премьере – большая удача. Ты не понимаешь, что ли?!
– Да, но… Мы же не репетировали ни разу!..
– Будем надеяться на лучшее, – буркнул он. – В конце концов, она профессионал – подстроится.
– Прекрасно… Она подстроится, угу.
Арнфинн вмиг покраснел и слышимо запыхтел.
– Сандвик, у меня нет на это времени! Премьера послезавтра – ты намерен начать или у тебя еще какие-то вопросы?!
– Еще один, – я посмотрел в текст. – Почему он поет по-английски? Еврей – в Будапештском гетто?
В зале снова стало тихо. Краем глаза я заметил, как в ожидании бесплатного развлечения за пультом сгрудились техники.
– Ты знаешь венгерский? – он прищурился и как-то нехорошо понизил голос.
– Нет.
– Быть может, ты поешь на идиш?..
– Нет…
– Ну тогда, наверное, ты готов перевести текст с оригинала и заново переложить его на музыку?.. За два оставшиеся дня?.. Ммм?..
Труппа вытянула шеи и затаила дыхание.
– Нет, но…
– Так какого черта?! – предсказуемо потеряв терпение, заорал он и снова швырнул многострадальные очки на стол.
– Никакого, – поспешно пробормотал я и на всякий случай сделал шаг назад, – просто мне кажется, это странно…
– Вы посмотрите на него: ему кажется!..
С размаху водрузив очки обратно на нос, Арнфинн развернулся к пульту.
– Фонограмма!.. Начинаем!
***
Вечером перед премьерой позвонил отец.
– Ну что, нервничаешь?
– Есть немного, – я вздохнул.
– Это нормально, – он улыбнулся. – Все будет хорошо, я уверен.
– Ничего, что я вас не зову?
– На премьеру-то?..
Отец рассмеялся.
– Знаешь, твой дед на премьеру нас не просто не звал… Нам было строжайше запрещено рядом с театром даже появляться!..
– Да ладно! – я хмыкнул. – Прямо запрещено?
– Еще и как!.. Он считал, что это плохая примета.
– Не могу себе представить, что дед верил в приметы…
– Ты не помнишь, наверное, маленький был еще, – продолжил отец чуть задумчиво, – но в день премьеры он выходил из дома, пятясь задом…
– Правда?
– Угу… И непременно спотыкался один раз – говорил, это чтобы на сцене все гладко прошло.
– Надо же…
– Так ты тоже давай… того… задом выходи, – отец усмехнулся. – И споткнись разок – но несильно, в шутку.
– Так и сделаю.
– Дед тебя очень любил, – вдруг сказал он. – Больше всех на свете. Возиться с тобой любил… В железную дорогу играть, помнишь?
– Помню, конечно, – я улыбнулся.
– Все говорил, какой ты молодец. Как он тобой гордится… Тебе лет-то было, а он говорил: какой парень-то у нас! Ни у кого такого нет!
Я помнил это – помнил дедов взгляд, как он водил меня по театру и церемонно представлял коллегам: актерам, костюмерам, рабочим сцены. Он знал, кажется, их всех по именам, есть ли у них дети или внуки, и в какой класс они ходят, в какую школу. И люди вокруг – они улыбались ему искренне, тепло, протягивали руку, спрашивали, как мне нравится в театре и кем я хочу стать, когда вырасту. Я неизменно отвечал: “Хочу быть актером, как дедушка”. Тогда взрослые понимающе кивали, а дед снова смотрел на меня с улыбкой, с гордостью. Дома он ползал со мной по полу, вслед за машинками на игрушечной автотрассе, или мы играли в домино или в лото с картинками, или он читал мне вслух разными голосами… А здесь в театре, всегда обращался ко мне как к равному, придавая моим детским суждениям некую солидность и вес, вселяя в меня ощущение собственной значимости, уникальности.
Отец немного помедлил, а потом сказал – негромко и как-то словно чуть сипло:
– Мы тоже тобой очень гордимся. Чего ты уже добился, кем стал… И я, и мама… Очень гордимся. Ты же знаешь, правда?..
Мы нечасто говорили с ним о таком, так что теперь от этой неожиданной откровенности, от воспоминаний о детстве, в носу предательски защипало. Я сглотнул и прочистил горло.
– Да, конечно. Спасибо тебе… и маме – вам обоим…
На том конце он откашлялся тоже.
– Угхм… Ну так ты давай: задом и споткнись…. Все будет хорошо.
***
Плохо скроенный, кое-где дырявый пиджак со звездой на рукаве, великоватый в плечах, потрепанный ворот у рубашки, мешковатые брюки, слегка пузырящиеся на коленях, холщовый ремень – все это сидело на мне колом, явно с чужого плеча, и когда я, полностью одетый и загримированный, в последний раз глянул на себя в зеркало, то, как и на всех последних репетициях, в первые секунды почти не узнал: с той стороны в меня снова всматривался сгорбленный, изможденный старик, которому не было места в новом мире, который уже скрипел песком на зубах истории и скоро, совсем скоро должен был умереть.
Как-то невесело жилось у них там в гетто, что и говорить. И никакого экстази.
Перед выходом я решил слегка размять ноги, пару раз пройтись туда-сюда по коридору, немного проветриться: сидеть и ждать в запертой гримерной стало в какой-то момент невыносимо. Старательно избегая собственного отражения – по правде говоря, меня бросало в дрожь каждый раз, как я встречался взглядом с Ферко – я снова и снова повторял реплики, так что под конец они стали терять всякий смысл, превратились просто в набор звуков, перекатываясь на языке идеально гладкими камушками скороговорок.
Почти дойдя до сцены, я вдруг услышал за собой энергичные, пружинистые шаги, принадлежавшие женщине средних лет, небольшого роста, в черном вечернем платье, с аккуратно уложенными волосами. За спиной у женщины висел чехол с виолончелью.
– Здравствуйте, – я двинулся ей навстречу. – Вы, наверное, Кристине?.. Я – Тарьяй.
– Очень приятно, – нимало не удивившись, она улыбнулась и протянула руку. – У нас с вами номер, да?..
– Да, – я кивнул и тут же поспешил воспользоваться случаем. – Понимаете, мы с вами не репетировали, и я не совсем уверен, что смогу вот так сразу… Может быть, попробуем сейчас? Я, в общем-то, не музыкант, видите ли…
Кристине улыбнулась снова, мягко и приветливо.
– Не переживайте, Тарьяй. Все будет отлично, я уверена. Вы просто начинайте, а я к вам подстроюсь, мы прекрасно справимся.
Угу, конечно… А мы – это кто? Кто это “мы”, если справляться как раз-таки мне одному?! Не ей же стоять на сцене перед публикой – и это в день премьеры! – и уж точно не Арнфинну. Не им позориться перед людьми и не им нести это потом в резюме на следующие пробы:
“Тарьяй Сандвик Му
2015 – 2017 – телесериал “Скам”, постоянное участие, 3-й сезон – главная роль, ошеломляющий успех
2017 – театральная постановка “Стена”, реж. Арнфинн Линдт, второстепенная роль (главная феерически проебана), три реплики в середине акта и какая-то херня вместо музыкального номера”
Прекрасно мы справимся, разумеется. Просто прекрасно.
В кулисах я взял старый скрипучий стул, который мне предстояло вынести на сцену, и приготовился. Арнфинн стоял с другой стороны, сложив на груди руки. Заметив меня, он важно кивнул, мол, давай, юное дарование, посмотрим, на что ты способен. Я его тихонько послал – чисто для успокоения нервов – но зацикливаться не стал. Постарался вдохнуть поглубже, еще раз прокрутить в уме текст и мелодию.
Все будет хорошо. Нет никакой – совершенно никакой причины, по которой я мог бы не справиться. Я справлюсь. Реплики я помню, текст песни, мелодия… Все несложно, все это я репетировал тысячу раз. Никаких проблем, все будет просто отлично.
В конце концов, волноваться перед премьерой – нормально. Совершенно нормально, и, держу пари, дед волновался тоже, а уж у него этих премьер было… Так что небольшая нервозность – это в порядке вещей, не о чем беспокоиться.