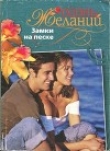Текст книги "Не будем усложнять (СИ)"
Автор книги: Spanish Steps
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц)
Затем он длинно выдохнул, словно настраиваясь на неприятное, но неизбежное дело, покрутил головой влево-вправо, отчего шейные позвонки звонко хрустнули, а потом снова окинул меня взглядом с головы до ног. Просунул руку в прорезь балахона и выудил оттуда невесть каким образом уместившуюся за пазухой пухлую папку в обложке из желтого кожзаменителя.
Затем ангел достал откуда-то из-за уха заправленный и даже уже прикуренный косяк. С явным удовольствием сделал глубокую затяжку, прищурился, выпустил дым аккуратными красивыми кольцами и открыл папку. На самом верху посаженных на спираль бумаг оказалась разлинованная форма, заполненная на незнакомом языке, чем-то похожем на арабскую вязь. Ангел зажал косяк в зубах и ткнул в бумагу длинным пальцем с желтым никотиновым ногтем:
– Вот, тут написано. Твое имя, адрес, номер соцобеспечения. Никакой ошибки. Все верно. Так что давай, решай быстрей: сразу подпишешь или будешь сверять по описи.
С треском захлопнув дело, небесный бюрократ подобрал полы одеяния и, крякнув, уселся в кресло рядом в ожидании ответа.
Я машинально перевел взгляд на сцену. Может, кто-то и отреагировал бы на подобное с полным пониманием, мол, да-да, конечно, ничего необычного, такое случается по тридцать раз на дню: среди бела дня к вам спускается ангел, орет, закатывает глаза и тычет пальцем, всячески подчеркивая полное отсутствие интеллектуальной разницы между вами и ложкой для обуви.
Для кого-то, быть может, такое и в порядке вещей. Но не для меня.
Для меня такое обращение было в новинку. Я был в шоке и ступоре, и сидел, кажется, снова раскрыв рот. Однако, если принять во внимание ситуацию, не думаю, что кто-то смог бы меня за это упрекнуть.
Вообще, положа руку на сердце, мы, норвежцы, не шибко-то религиозны.
На рождество мы едим риббе и пиннещотт*, на пасху – апельсины и “Kvikk Lunsj”: вот, пожалуй, все, что мы традиционно вкладываем в понятие священных праздников. Если вы, кроме этого, знаете, что имеется в виду под “Троицей” и “Вознесением”, то вам, возможно, стоит повнимательнее присмотреться к самому себе и крепко задуматься, а не религиозный ли вы экстремист.
С другой стороны, все знают, что ангелы – это нечто особенное. Ангелы, как Юлениссен**, вне верований, традиций и споров. Они есть – и точка.
Ангелы появляются в домах в рождественский сочельник, на цыпочках тянутся к ручке двери, отряхивают у порога снежинки с рукавичек, ладошками трут румяные с мороза щеки, хохочут, болтают, трубят в смешные дудки и кружат по кухне, поводя носами, принюхиваясь к томящемуся в духовке риббе и то и дело норовя залезть пальцем в рисовый пудинг со взбитыми сливками и клубничным соусом. Потом они приземляются стеклянными или керамическими фигурками на подоконник и каминную полку и с любопытством выглядывают оттуда все праздничные дни, хихикают и шепчутся друг с дружкой по ночам до тех самых пор, пока рождество не заканчивается и не приходит время до следующего года укладываться спать в мягкие, подбитые ватой коробки. Я знаю: у нас дома их целая куча.
Иногда они приносят мальчикам и девочкам – тем, кто особенно хорошо вел себя в старом году, приятные бонусы к уже утвержденному Ниссе списку подарков: игровую приставку последней модели, подержаный электровелосипед или фаллоиммитатор на дистанционном управлении. Тут не угадаешь.
Но я никогда не слышал, чтобы ангел вот так мог заявиться на пробы на роль в сериале, подняв при этом ураган пыли, раскритиковать все вокруг, раскурить косяк и совершенно бюрократическим образом довести до сведения, что ваши самые тайные, самые сокровенные желания были кем-то услышаны, приняты к рассмотрению, выпущены в производство, занесены в реестр и отгружены со склада. И вот, пожалуйста: получите и распишитесь, доставка до подъездной двери, на этаж – за дополнительную плату.
Я, повторюсь, о таком не слыхал, и поэтому так и сидел, слепо уставившись на того и гляди грозящий перегореть нимб и тщетно пытаясь собраться с мыслями.
Из оцепенения меня вывел голос Юлие. Она вышла из-за своего стола перед сценой и села рядом со мной в зале.
Ангел при этом довольно покосился на ее грудь.
– Что скажешь? – спросила она, проглядывая листы резюме. – Пятый, седьмой и тринадцатый – театральный опыт; у пятого, помимо прочего, телевидение – реклама йогурта, кажется… Не бог весть что, конечно, но лучше, чем ничего. Ну, что скажешь?
– Да, – снова подал голос посланец небес и постучал ногтем по циферблату Hublot Black Caviar***, обнаружившихся на левом запястье, – что скажешь? Берешь – не берешь?
– Я…
Голос неожиданно надломился, мне снова пришлось откашляться. Ангел с откровенной неохотой оторвал взгляд от груди и воззрился на меня явно насмешливо.
– Вот он, – я окончательно прочистил горло и указал пальцем на силуэт. – Он. С ним мне будет комфортно.
Не успел я договорить, как ангел громко фыркнул, размахнулся и невесть откуда взявшимся аукционным молотком ударил по парящей в воздухе деревянной подставке. В воздухе раздался хлопок, и сразу же и то, и другое исчезло, оставив за собой лишь тонкий, едва различимый дым.
– Передано.
Перед глазами тут же возник лист бумаги – та самая форма, которую я недавно видел в папке. Ангел держал его двумя пальцами на весу и ждал.
Я посмотрел на него, и на секунду мне показалось, что что-то такое промелькнуло в его глазах, где-то в самой глубине – что-то странное, неуловимое, чего я никогда не видел раньше и чему не был в состоянии дать определения, что-то неизведанное, но при этом важное – жизненно, определяюще важное.
Ангел стоял молча, против обыкновения не насмешничая, не развлекаясь колкими замечаниями – стоял и ждал, держа перед собой лист, и я, неизвестно каким чувством, вдруг понял, что нужно делать: смотря ему прямо в глаза, стараясь не думать о том, что на самом деле происходит и сошел ли я с ума окончательно и бесповоротно или есть хотя бы смутная надежда на выздоровление, я коротко кивнул.
Он тут же коротко кивнул в ответ, словно скрепляя некий договор, и сразу за этим я увидел, как в самом низу листа, в специально отведенной для этого графе, вдруг зажглась моя подпись: точно такая, как на банковской карточке и библиотечном пропуске.
В ту же секунду лист исчез, будто монетка в пальцах фокусника, и, снова глянув на меня – теперь уже по-иному, тепло и ободряюще – странное создание подмигнуло, в последний раз скосило взгляд на грудь Юлие, все еще сидящей рядом, и тоже бесследно испарилось.
– Вот он, да? – переспросила она, и со звуками ее голоса я окончательно вернулся в реальность.
– Вот он.
… Вы видели его когда-нибудь? На экране или вживую – неважно.
Нет, не видели? Как бы вам объяснить…
Представьте себе все, чего у вас нет, но что всегда хотелось иметь. Все, без чего вы не представляете себе счастливого и безмятежного существования. Представили? Все-все, ничего не забыли?
Хорошо. Теперь наделите всем этим великолепием одного-единственного человека. Давайте, щедрее сыпьте эти дары волхвов! Щедрее, горстями!.. Получилось? Отойдите немного в сторону, полюбуйтесь. Неплохая картинка, правда?..
Теперь представьте, что этот человек – не просто плод вашего воображения. Представьте, что он реален – вот он идет по направлению к вам, дышит, разговаривает, смотрит, смеется. Представили?..
Прекрасно. А теперь представьте, что он существует исключительно для вас.
Во всей вселенной – для вас. Только для вас.
Все, что делает его таким сногсшибательным, таким невообразимо совершенным… Настолько совершенным, что вам кажется, что он искрит и переливается в лучах невесть откуда взявшегося солнца, и от этого постоянно сопровождающего его переливчатого свечения, от его великолепия и грандиозности у вас каждый раз режет глаза. Вы стираете тыльной стороной ладони не к месту набежавшие слезы и задыхаетесь от счастья, потому что вот это все – оно для вас, только для вас и ни для кого другого. Представили?
Отлично. А теперь представьте еще раз все, что я уже перечислил, но без последнего пункта.
То есть вот эта невъебенная, охуительная, блять-какая-же-красота (200 крон, я знаю), эта лучезарность, пережимающая холодной рукой гортань одновременно со всеми сердечными желудочками, которые только есть у вас в наличии, – все это… вам не принадлежит. Все это существует параллельно и независимо от вас, составляет часть совершенно чужой вселенной и контролируется ее обитателем без каких-либо поправок на ваши желания.
Ну как? Представили?
Добро пожаловать в мой мир.
Та-дам.
Вы понимаете теперь, что у меня не было ни малейшего шанса?..
Это как если вы с трибун смотрите вниз, на арену античного цирка, и думаете: да ну нахрен, это же чистое самоубийство! Я не пойду – туда!.. Живым мне оттуда не выбраться!.. И не надо подталкивать меня в спину – я не пойду!
Но как бы выбора нет, вам его не оставили, этого выбора – или, вернее, вы сами себе его не оставили. Вы сами – сами! – выбрали его, не так ли?.. Сами согласились его принять. Вы просили – вам доставили.
Его.
И теперь отступать некуда: билеты проданы, места заняты, разносчики попкорна и хот-догов разносят попкорн и хот-доги. Публика замерла в ожидании кордебалета со львами, варварами и горящими колесницами. И хочет зрелища.
Хочет смотреть, как вы, раненый им, красиво умираете на арене. Так что давайте. Выкручивайтесь.
Конечно, я запал на него сразу.
И дело было даже не столько в его внешности чертова Аполлона, хотя и в этом тоже – да вы просто посмотрите на него!..
Нет, в нем было нечто такое, отчего окружающим казалось, что если вдруг вселенная прямо сейчас стремительно сорвется в ебеня (давайте я просто положу 500 крон сразу, так сказать, оптом), если через мгновение начнется межгалактическая война, и орды злобных и дурно пахнущих инопланетян обрушат на вас огонь лазерных пушек, наяривая в огромные мегафоны “Сопротивление бесполезно”*, если вдруг с неба обрушится вселенский потоп или к власти придут ультраправые… Если все это произойдет по отдельности или скопом, то даже тогда достаточно будет только одного его присутствия, одного только ощущения, что он где-то рядом, поблизости, что он никуда не денется, не исчезнет и не испарится – достаточно будет только этого одного, чтобы в зоне военных действий зацвели незабудки, фондовые рынки моментально стабилизировались, и общая ситуация перешла из разряда “тотальный пиздец” в категорию “маленький белый кролик потешно кушает виноградинку”.
Понимаете, о чем я?.. Такой дар.
Он умел слушать.
Он умел слышать.
Каждый, с кем он заговаривал, преисполнялся сознанием собственной значимости, уникальности и неповторимости. Красоты и чистоты своих помыслов и желаний.
Одним лишь взглядом, скользящим по вашему лицу, мимолетно задерживающимся на губах, на переносице, проникающим поочередно и сразу вглубь ваших зрачков, он, казалось, придавал такой вес и значение вашим словам – любой посредственной глупости, которую вы изрекали, – что невольно хотелось думать и говорить что-то важное, весомое, особенное, чтобы снова и снова видеть эти удивительные искры заинтересованности в его глазах. Заинтересованности вами.
Или так казалось только мне?..
***
Мы начали снимать третий сезон в середине сентября, и у меня была главная роль.
Вернее, у Исака. Исаку должно было повезти в этом сезоне, повезти по-крупному. Ему должен был достаться самый главный приз – такой огромный кусок личного счастья, который почти не помещается в рот, и я должен был ему его обеспечить: принести на блюде, сыграть так искренне и правдиво, чтобы все вокруг прослезились от “жили долго и счастливо, пока не пришло время подавать налоговую декларацию”.
А Хенрик Холм играл роль Эвена – красавца-Эвена, всеобщего любимца-Эвена, неэкономно-расходующего-бумажные-полотенца-в-школьном-туалете-Эвена, и это как раз ему предстояло спасти Исака из башни, куда тот заключил себя добровольно, обрезав перед этим свои волшебные волосы. Быть рядом в горе и радости, сортировать мусор, экономить воду и, в конечном счете, растолстеть на домашних обедах. Такая вот жизненная и сентиментальная история.
При этом Эвен не совершал никаких камингаутов: он, в отличие от Исака, принимал себя таким, какой есть – сразу и без оговорок на общественное порицание. Этим он мне и нравился.
Эвен был мягким, нежным, заботливым, умел делать омлет и отлично при этом целовался. Если вы спросите меня, то большего и желать невозможно.
Хенрик Холм, однако, был Хенрик Холм, а никакой не Эвен, и спутать их за пределами отснятого материала мог только человек, не знакомый ни с тем, ни с другим. Хотя, справедливости ради, стоит признать, что совершить эту ошибку было достаточно легко: в конце концов, мы судим людей прежде всего по одежке, а одежка, то есть внешность, у них была как под копирку.
У них были одни и те же глаза цвета синей воды, та же улыбка, освещавшая лицо, тот же низкий голос, те же вкрадчивые движения. Те же руки, те же плечи, те же волосы.
Они одинаково смеялись шуткам окружающих, одинаково трепали по плечу друзей, одинаково наклоняли голову при разговоре и с одинаковой иронией приподнимали брови.
И со стороны казалось, что все просто, проще и быть не может: вот они – две оболочки одной и той же души.
Мы потратили пару недель на обсуждение мотивов персонажей и эмоциональной составляющей их поступков, на вычитку сценария, на создание образов достаточно законченных и цельных, чтобы они органично смотрелись на экране, и одновременно отмеченных изъянами, неровностями и трещинами. Именно через эти трещины и проникал в итоге свет, именно они делали персонажей живыми, способными меняться и эволюционировать.
– Поцелуйтесь, посмотрим, как это выглядит в кадре, – сказала Юлие еще тогда, на пробах.
Конечно же, я видел сценарий заранее. Конечно же, я знал, что Исак будет целовать другого мужчину.
Конечно же, я, как актер, был заранее готов. В этом нет ничего сложного или экстраординарного: целовать мужчину на экране – то же самое, что целовать женщину.
Это всего лишь техника, не более: вы приближаетесь, соприкасаетесь губами, слегка приоткрываете рот и ласкаете чужой язык своим. Потом, когда слышите “Стоп, снято!”, отстраняетесь и поспешно сглатываете слюну вместе с незнакомым вкусом – в то время, пока режиссер рассказывает, что хорошо смотрелось в кадре, а что не очень, как отклонить голову и закрывать ли глаза.
Не то чтобы у меня было много практики в этом вопросе, но, в принципе, мне нравилось считать себя профессионалом. На сцену я вышел бы и голым, не раздумывая: сцена – это сцена, я на ней – это не я, а кто-то другой. А уж простой поцелуй – пфф!.. Эка невидаль.
– Давайте, – повторила Юлие и дала знак оператору.
Я посмотрел вперед.
Он стоял на сцене, откуда минутой ранее рассказывал о себе и читал отрывок текста, а я сидел в зале. И когда прозвучала команда, я вдруг с ужасом понял, что это не он подскочит сейчас ко мне, бряцая шпорами, как заправский ковбой, – это мне надо встать, заставить себя сделать первый шаг, выйти в проход и пройти через весь зал, стараясь не сбить ничего по дороге.
Это мне – мне! – придется подняться на сцену и поцеловать его.
Мне – его, а не наоборот, потому что это Исак, мой Исак – главный герой сезона, это за его жизнью мы наблюдаем в первую очередь, его выбор одобряем или осуждаем, в его личной войне делаем ставки.
И это я должен смочь поцеловать Хенрика Холма так, чтобы это запомнилось – если не навсегда, то уж точно надолго. Запомнилось, запало в сердце так, чтобы простой норвежский зритель, увидев вечером в пятницу Исака и Эвена на своем экране, замер, судорожно глотнул воздуха и, не глядя, отложил в сторону пакет с чипсами.
Понимаете, какая на мне лежала ответственность?
Я помню, что шел к сцене на ватных ногах и не смотрел ни на него, ни по сторонам, а только прямо перед собой – смотрел, но ничего не видел. Помню, что сердце бешено колотилось, а в горле было сухо, как на дне давно обмелевшей реки, и я судорожно соображал, не попросить ли мне воды, или это все же будет выглядеть нелепо и непрофессионально.
Словно во сне дошагав до сцены, я поднялся и, щурясь от яркого света направленных софитов, впервые посмотрел на него вблизи.
Он был одет в мягкую фланелевую рубашку в клетку с закатанными до локтей рукавами и мешковатые для его фигуры джинсы, и в какой-то момент я вдруг увидел, как поднимается, наполняясь воздухом, его грудь, а над воротом рубашки, слева, прямо передо мной, бьется маленькая жилка.
И именно тогда, в тот миг, без всякого повода и видимой причины, я с ошеломляющей ясностью осознал, что именно эту жилку я хочу видеть каждый день. Ее хочу слышать в темноте, ее трогать губами, ее накрывать подушечками пальцев и чувствовать, как она бьется внутри меня, синхронно с моим собственным сердцем.
А потом я поднял глаза и встретился с его взглядом, и…
Собственно, там все и закончилось. Я, Тарьяй Сандвик Му, – закончился.
Я перестал существовать в пространстве и времени как отдельная самодостаточная единица. Я стал им, его зеркальной копией, и в его глазах, в этих его синих глазах, я нашел то, что искал все это время: свое собственное отражение.
Так все закончилось. Моей вселенной больше не существовало.
– Хенрик, – сказал он, улыбнувшись, и протянул руку.
Я пожал ее, словно во сне, и кивнул.
– Тарьяй? – по-прежнему мягко улыбаясь, продолжил он за меня.
– Эмм, да, – я наконец разлепил губы. – Приятно познакомиться.
Из зала послышался голос Юлие:
– Ребята, мы готовы, когда вам будет удобно.
– Ну, что же,– засмеялся он, – тогда мы тоже готовы, да?..
Я снова кивнул, набрал воздуха и тут же длинно выдохнул, стараясь расслабиться. Затем поднял голову и улыбнулся тоже, как мог дружелюбно: в конце концов, мы поцелуемся рано или поздно, и нет необходимости делать этот момент еще более неловким, затягивая паузу.
Затем я слегка наклонил голову вправо, выставляя скулу и показывая с правильного ракурса лицо, чтобы это выигрышно смотрелось в кадре, а после этого – отступать было больше некуда – после этого потянулся к его губам, намереваясь просто быстрее покончить с этим и отчаянно надеясь, что мне хватит воздуха. Ну и что сердце не выскочит из груди прямо там, посреди зала для прослушиваний, и не запрыгает, рефлекторно сокращаясь и оставляя на полу кровавые разводы. Это было бы слишком мелодраматично и совершенно лишнее, даже в том состоянии я понимал это прекрасно.
Я уже почти накрыл его губы своими, просчитав угол, наклон и допустимое давление, как вдруг он совершенно неожиданно отстранился и подал голову назад. Буквально на какие-то миллиметры, но это было настолько ощутимо и так странно, что я оторвался взглядом от его губ, на которых старался сконцентрироваться все эти немыслимо тягучие мгновения, и удивленно посмотрел в глаза.
И тут он улыбнулся мне!.. Улыбнулся – мне! И… черт возьми, как много я отдал бы за эту улыбку!..
Много… очень много. Чтобы вот он так мне улыбался. Только он – и только мне. Чтобы вот так бежали ниточки морщинок вокруг глаз, чтобы его глаза именно так смотрели на меня, чтобы уголки его губ так изгибались и подрагивали от предвкушения поцелуя со мной. Чтобы его дыхание обогревало мне сердце.
По-прежнему не двигаясь, я смотрел на него, словно завороженный, еле дыша, и когда мне стало казаться, что я, вероятно, умер, прямо там, в этом репетиционном зале, такой нелепой и сладкой смертью, всего ничего не дожив до совершеннолетия, он, не опуская взгляда, медленно поднял руки и какими-то кошачьими движениями нежно погладил мое лицо. Невесомо провел большими пальцами по скулам, скользнул к затылку, зарылся в волосы, притягивая к себе ближе, и осторожно приподнял мне голову.
Наконец он подался вперед и был уже в миллиметре от меня, но внезапно остановился снова. Уже на самом краю сознания, я вдруг услышал низкий звук, похожий на тихий, предвкушающий стон, в ту же секунду он разомкнул мои губы, слегка надавив на подбородок, и я почувствовал его язык, входящий в мой рот, исследующий его, ласкающий; и все его тело, прижатое ко мне, его ладонь на моем затылке, удерживающая меня мягко, но прочно; его руки, кружащие по моей спине, оглаживающие и сжимающие в кольцо – его руки, из которых… О, это было понятно сразу!.. Руки, из которых невозможно было вырваться по собственной воле, и оставалось только сдать все форты и подступы, сложить весла и плыть… Плыть с закрытыми глазами, плыть – пока он не насытится и не отпустит меня сам.
– Спасибо, достаточно, все хорошо, – услышал я голос откуда-то издалека, и в то же мгновение все закончилось.
Он отстранился от меня, быстро провел тыльной стороной ладони по губам, заговорщицки тряхнул головой и легко засмеялся. В ушах гудело, как под водой, перед глазами плясали черные точки, я почти ничего не видел, только судорожно сглатывал и старался выровнять дыхание, поэтому не нашел ничего лучше, чем поднять руку вверх и сделать вид, что заслоняю глаза от света софитов.
– Тарьяй, спускайся, давай еще раз пройдем по первому эпизоду… И нам все же надо что-то делать с твоим гардеробом, что-то уже решить наконец.
Юлие отдавала привычные указания, рабочий процесс продолжался.
– Хенрик, спасибо, контакты у нас есть, мы определимся, и я дам тебе знать. Договорились?
– Конечно, – сказал он и, по-прежнему улыбаясь, протянул мне руку. – Увидимся.
***
Вот так мы и стали коллегами, партнерами по съемкам.
Вы когда-нибудь работали вместе с человеком, вблизи которого у вас заходится сердце и перехватывает дыхание?
А так, чтобы на камеру?
Комментарий к 2.
* Сестра наследного принца Хокона, принцесса Марта-Луисе, управляет “Школой ангелов”, где, помимо прочего, учат общаться с ангелами.
* Риббе и пиннещотт – традиционные норвежские рождественские блюда
* Норвежский Санта Клаус
* Марка элитных часов, примерная стоимость 800 тысяч евро.
* “Сопротивление бесполезно” – фраза из культового романа Д. Адамса “Автостопом по Галактике”
========== 3. ==========
Такая работа у меня была.
Целовать Хенрика Холма. Скользить руками по его спине, дотрагиваться до шеи, заправляя за ухо эту упрямую, закрученную полукольцом прядку, попутно гладя кожу подушечкой большого пальца. Наклоняться ближе самому или позволять наклонять себя. Обнимать. Прижиматься. Открывать рот и впускать его язык.
Такая работа: все ради искусства.
Не могу отрицать: я прекрасно понимал, на что подписывался. Сознавал, так сказать, риски.
И – да, я мог бы быть осторожнее. Мог бы быть умнее. Мог бы, хотя бы на мгновение, остановиться и подумать – не прыгать бездумно в эту чертову бездну, прямо за белым кроликом, чтобы не лететь потом по бесконечному тоннелю и не приземляться в итоге задницей на жалкую кучу осенних листьев.
Понимать, что все это – просто игра. Или работа – называйте, как хотите. Ничего личного.
Ничего особенного. Улыбка – как улыбка. Такая же моя, как и всех остальных.
Как и всех остальных…
А я… Он сжимал меня в руках, а я каждый раз летел и думал: вдруг это случится сегодня?.. Вдруг сегодня – тот самый день? Когда он увидит меня? Вдруг что-то щелкнет в нем, вдруг зашевелится – что-то новое, странное, чего он не испытывал раньше? Он отстранится тогда, чуть нахмурится – еще непонимающе, не ведая, что этот момент значит в его жизни – посмотрит глубоким, серьезным взглядом… и увидит. Впервые.
Вдруг?..
Но нет. Нет, это всегда была честная куча чертовых осенних листьев и, скажу я вам, пружинила она так себе. В какой-то момент я уже дошел до того состояния, когда готов был согласиться хотя бы на сострадание. Или, чтобы называть вещи своими именами, на жалость.
Быть подобранным им – хотя бы из жалости. Чтобы при взгляде на меня его сердце дрогнуло (ну не железное же оно?!), и он подумал: “Ах, какой одинокий и несчастный человек!.. Вы только посмотрите. А я в этом месяце еще никому не подал, непорядок…”
Мы должны были показать чувства. И страсть. Страсть и чувства. Этого требовал сценарий и в нетерпении потирающая руки публика. Чувства и страсть.
Но – только показать.
Кто же западает на коллегу по съемкам, я вас умоляю!.. Придумаете тоже!..
Никто так не делает. Никто! И не надо на меня так смотреть.
Поэтому мы тренировались. Эту самую страсть показывать.
На камеру, перед всей съемочной группой, оценивающей эстетику момента до десятых долей, покадрово разбирающей последовательность сцены, как и куда класть руки, с каким нажимом водить языком, стоит ли притереться бедрами слегка – разумеется, в пределах рейтинга (к слову, стояк по рейтингу не положен, так что извольте держать себя в руках, не тормозить же из-за этого весь съемочный процесс, профессионал вы или кто); где лучше ставить свет, чтобы тень от ресниц красиво падала на кожу. В этом аду у меня был персональный котел, и я медленно горел в нем каждый раз, но горел эстетично и высокохудожественно, так что тень от моих ресниц смотрелась на мониторе идеальной ровной паутиной – за этим было кому проследить.
– Спасибо, оставим так, все отлично. Хенрик, не заслоняй ему лицо ладонями, просто продвинь пальцы чуть дальше, к волосам.
– Вот так? – спрашивал он, снова поднимал руки и, не глядя, дотрагивался до моих скул. – Или вот так лучше? Может, вторую руку на спину?
Лично мне было все равно – как.
Куда наклонить голову, положить ли левую руку ему на бедро или поглаживать спину, оставить ли правую свободно висеть или схватить его волосы в кулак – сама комбинация и углы наклона не имели никакого значения. Главное было – дотрагиваться до него: хоть где, хоть как, просто дотрагиваться и надеяться, что хотя бы одна его клетка, хоть один несчастный атом так же дрожит и вибрирует под моими пальцами, как я весь – под его.
Но – эй!.. Вот и знакомая куча листьев. Херась!
– Как тебе удобно? Вот так, – он слегка тянул за волосы, и я тут же послушно отклонял голову влево, – или лучше немного назад?
– Наверное, лучше в сторону, – я мысленно потирал привычные синяки на заднице. – Так камера захватывает больший угол.
– Да, ты прав. Так действительно будет лучше.
И он смотрел на меня. И кивал, соглашаясь с моим мнением. И улыбался. И говорил что-то. И смеялся моим несмешным шуткам – точно так же…
Совершенно точно так же, как и шуткам любого другого человека из всех тех миллиардов, что живут сейчас, дышат, ходят на работу, ковыряют в носу, пока никто не видит, смотрят телевизор по вечерам и поют в душе в импровизированный микрофон из зубной щетки. Так же ровно и так же нейтрально-доброжелательно. Точно так же.
Это убивало.
В один из дней мы снимали ту сцену, когда Исак и Эвен ели дерьмовые тосты, трепались за жизнь и курили косяк на подоконнике. Ту самую сцену, где каждому зрителю – совершенно каждому: чувствительному и восприимчивому к полутонам или стоящему на одной ступени эмоционального развития с садовой лопатой, – становилось понятно: между этими двумя точно что-то будет, что-то красивое и трагическое, что-то выдающееся и потрясающее, не зря все же NRK существует на деньги налогоплательщиков.
Так вот, сцена на подоконнике.
Знаете… Он был красив всегда, в любой обстановке и в любой одежде, с растрепанными волосами или только-только вставший из кресла гримера – всегда. Но в тот день… В тот день он вышел к камере, сел лицом к свету – и я просто потерял дар речи.
Я уже говорил вам, у него были синие глаза.
Не голубые, а отчетливо-синие – вот тот оттенок глубокой воды, куда солнечный свет попадает лишь рассеянными, искрящимися лучами, где переливаются серебристыми боками огромные киты, и где на многие мили вокруг не слышно ни единого звука.
Сейчас, под направленным светом софита, в его глазах вдруг зажглись бесчисленные огоньки – их появление оказалось настолько завораживающим, что я, позабыв про все меры предосторожности, про то, что вокруг нас существуют, передвигаются, разговаривают и работают люди, позабыв вообще все, просто сидел и наблюдал за ними, не в силах отвести взгляда, не в состоянии осознать, как выгляжу со стороны.
Мгновение – и синеву разбавили бирюзово-розовые блики: все их оттенки, от ярких и сочных до нежных, пастельных, едва различимых. Каждый раз, как он менял позу или устраивался удобнее, наклонял или поворачивал голову, эти блики смещались, наслаивались друг на друга, сходились и разбегались снова, кружили, складывались в узоры, в какие-то замысловатые картинки, а потом разбивались в искрящуюся пыль, только чтобы через секунду снова притянуться друг к другу, вспыхнуть и засиять заново.
У него были калейдоскопические глаза. Удивительные калейдоскопические глаза, и в них вы терялись бесповоротно.
Исаку было нетрудно говорить, нетрудно воспроизводить созданный для него текст – в конце концов, все было уже решено за него, его счастье было решено за него, и ему не нужно было прикладывать для этого никаких особенных усилий – достаточно было просто следовать плану. Говорить правильные слова, правильно наклонять голову, в правильных паузах правильно посматривать искоса, правильно улыбаться. И он все это делал, этот правильный Исак.
Я, Тарьяй, в это время сидел, едва дыша и не моргая, застыв в тягучем пространстве, вмерзнув в этот чертов подоконник, и только и мог, что смотреть на Хенрика Холма сквозь поднимающийся от его сигареты белый дым.
Хенрик Холм выглядел как хреново божество. Только оклада не хватало.
Я плохо помню, как мы снимали – вероятно, я говорил что-то, принимал позы по сценарию, облокачивался на стену и откидывал голову так, как хотели световики… кажется, даже смеялся. Не помню, я был тогда очень далеко.
Мы почти закончили сцену, когда Юлие решила, что светоотражающий экран сбоку лучше переставить, и пока монтажники возились с оборудованием, нам дали перерыв, вручив по бумажному стаканчику с кофе.
– Только, я вас умоляю, давайте осторожно, не заляпайте одежду, – она поочередно нас оглядела. – У нас нет времени на то, чтобы переснимать заново.
– Мы постараемся, – пообещал Хенрик за нас обоих, заговорщицки мне подмигивая.
“Вот только этого не надо, – подумал я. – Не надо делать меня сообщником, не надо создавать между нами какую-то особую связь просто из-за…кофе”.
А вслух сказал:
– Да, конечно.
Бросив на нас недоверчивый взгляд, как на двух недоумков, которым и ложку-то доверить – большой риск, не говоря уж о чем-то большем, она все же отошла.
И мы остались одни.
Он приподнял брови, легко вздохнул и, по-прежнему улыбаясь, показал глазами что-то вроде: “Ну, вот… Подождем…” На это я не нашел, что ответить – не придумал никакой равной по интеллектуальному накалу реплики, поэтому сделал то, что смог: улыбнулся в ответ, нейтрально-доброжелательно, как улыбается случайный попутчик в поезде, ненароком поймавший чужой взгляд, а потом уткнулся в свой стаканчик.