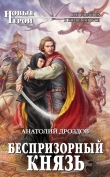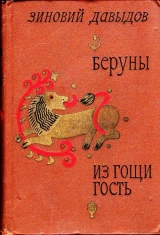
Текст книги "Беруны. Из Гощи гость"
Автор книги: Зиновий Давыдов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 39 страниц)
достал он морского дна, куда пошел сейчас Андрей.
«А мы мальцами в монастырском огороде с Андреем репу воровали, и его отодрал монах,
– вспомнил вдруг полумертвый Степан, всплывший снова наверх. – Вот те и Андрей! –
подумал он. – Андрей Росомаха – красная рубаха».
И когда он оглянулся вокруг, то увидел невдалеке огромную китовую тушу с торчавшим в
боку гарпуном. А на спине кита стоял на коленях Ванюшка; он плакал навзрыд, держась
обеими руками за другой гарпун, врезавшийся киту в самый почти хребет.
Степан поплыл к Ванюшке, и когда подплыл, то на спине кита уже сидели, вместе с
Ванюшкой, два брата Веригины, и старший, Федор, протянул Степану весло. Степан,
держась за весло, пополз по скользкой китовой спине и тоже ухватился за глубоко засевший в
ней гарпун. Кругом, в воде и китовой крови, плавали щепки, обрывки веревок, мусор;
нелюдима была морская пустыня, и только солнце глядело, не моргая, на невиданное дотоле
судно, где на мокрой палубе сидело четыре человека, с которых ручьями катилась вода, да
стервоядные птицы, чуя поживу, широко кружили в безоблачном небе.
– А где же Андрей? – спросил Федор Веригин. – Андрея-то и не видно!
– Андрей-воробей!.. – окрысился на него Степан, изо всей силы ударив себя кулаком в
грудь. – Улетел Андрей. Нет твоего Андрея! – закричал он вдруг истошно. – Ищи теперь
Андрея!..
Лицо Степана позеленело, глаза полезли у него на лоб, и белая пена стала выбиваться изо
рта, как у жеребца, загнанного до смерти. Не перестававший до того плакать Ванюшка
посмотрел на Степана испуганно и сразу же замолк.
VIII. ЧТО ПРОИЗОШЛО С ФЕДОРОМ ВЕРИГИНЫМ
ДЕВЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД
Федор больше не стал расспрашивать Степана. У Федора ломило ногу в колене, там, где
сидела английская пуля. Пуля эта сидела у Федора в колене девятнадцать лет, с того дня,
когда он на морском берегу на Коле караулил царского кита.
В том году ходил Федор в шнеке с тремя товарищами на кольский берег. Стояли мезенцы
здесь особо, своим мезенским станом, ждали погоды, чтобы выйти в море, когда приехал
какой-то из Колы и при нем два солдата. Надавал он промышленникам зуботычин и приказал
лодей больше не строить, а строили бы вместо них по голландскому образцу галиоты1, что
есть царский приказ ссылать на каторгу промышленников, которые впредь будут строить
лодьи. Потом развернул бумагу и два раза прочитал её громко. И каждый раз спрашивал, всё
ли понятно. Промышленники, побросав шапчонки на землю, кричали, что всё понятно.
1 Галиот – двухмачтовое, неглубоко сидящее в воде судно.
На бумаге была большая печать черного сургуча, и была подписана бумага царской
рукой: Петр. Это был указ из Петербурга Кольскому коменданту:
«По получении сего прикажи промышленникам смотреть, когда кита на берег выкинет;
тогда б они бережно обрали сало себе, а усы и кости не тронули и оставили так, как оные
были. И о том бы объявили тебе. И как объявят, тогда приставь к тем костям караул и к нам о
том немедленно пиши. И тогда пришлем к вам такого человека, который может те кости
порядочно разобрать по номерам. И тогда отправь те кости и усы до Нюхчи с нарочным
офицером».
Приезжий спрятал бумагу в рукав и строго посмотрел на промышленников. Потом сел с
солдатами в лодку и был таков. А на другой день верстах в пятнадцати от становища
заметили мезенцы выброшенного на берег дохлого кита.
Промышленники распотрошили кита, как писано было в указе, и послали работника в
Колу уведомить начальство. А пока что, наделив Федора на три дня харчами и старым
шведским ружьишком, положили ему караулить царские остатки. Промышленники ушли в
становище, а Федор долго глядел им вслед с морского берега, густо усеянного мелкими
камнями.
Вода прибывала и убывала, по небу ползло солнце, припекая в полдень, и от
развороченной туши шел тяжелый дух. Федор шатался по берегу и, выискав камушек
покруглее, закидывал его далёко в море. Камушек прыгал по воде – раз, другой, третий, и
круги, один больше другого, широко расходились по всей губовине1. На берегу в иных местах
попадался ярник – мелкий кустарничек, стлавшийся по земле низко, и Федор, наломав сучков
посуше, разводил костер. Так промаялся он на пустом берегу среди дыма и вони двое суток.
А на третьи у небосклона справа показался корабль.
Судно шло на запад, но забирало к берегу всё ближе, и по всей оснастке было видно, что
это чужестранное судно; поморы не промышляют и не купечествуют на таких фрегатах2.
Федор забеспокоился, как бы чего не вышло, потому что много тогда таких вот коршунов
разбойничало в русских водах. Случалось, что и промышленное отнимали вместе со снастью
и людей разгоняли с промысла, стреляя по ним из моржовок – тяжелых широкоствольных
ружей для охоты на моржей и тюленей. Промышленники одно время для защиты от
неприятеля даже батарейку завели с пятью пушками в Шапкином заливе – последнем нашем
становище на Коле.
Когда судно приблизилось к месту, где дымил разложенный Федором костер, с борта –
видно было – спустили шлюпку, и гребцы сразу же налегли к берегу. А здесь, у воды, бегал
ошалелый Федор, размахивал ржавым своим ружьишком и кричал незваным гостям «по-
немецки»:
– Пошел прочь!.. Я стреляй!..
В Архангельске, в немецком гостином дворе, слышал Федор, как объясняются с нашими
промышленниками немецкие купцы, и потому, чтобы его вернее поняли, кричал матросам с
иностранного фрегата на таком вот «немецком» наречье:
– Я позваль сольдат!.. Я сейчас стреляй!..
Тогда из шлюпки поднялся один и вытащил из-за пояса пистолет. Он выстрелил в Федора
и сел на место. А Федору обожгло правую ногу, пребольно ударив в колено.
Федор бросился бежать, но не сделал и двадцати шагов. Он упал на камни и с
удивлением глядел, как кровь заливает ему босую ногу.
Матросы вышли на берег и принялись топориками вырубать китовый ус из туши. А двое
подошли к Федору, и один из них, с длинным пистолетом за поясом, ткнул Федора сапогом в
живот. Потом они взяли его за руки и потащили к воде. Федору ободрало спину, расцарапало
ноги, а с того места, где он упал, и назад до самой воды протянулся кровавый след – красная
полоса от разбитого Федорова колена, которое горело и будто распадалось на кусочки от
вкручиваемого в него всё глубже бурава. Матросы бросили Федора в шлюпку и стали грузить
её китовым усом.
1 Губовина – небольшой морской залив.
2 Фрегат – старинное военное трехмачтовое судно.
На другой день приехал из Колы воинский караул, как полагается по уставу, нашел на
берегу развороченную кучу вонявшей китовины, обломки китовых костей да потухший
костер. А Федора Веригина и след простыл.
Натерпелись тогда промышленники горя: наехало из Колы начальство, пошли розыски да
сыски, и всё под страхом разорения и смерти. А через три месяца, когда пришла пора
возвращаться с промысла к Мезени, сложились промышленники по грошу и заказали попу по
Федоре панихиду.
Но Федор не сгинул. Отпетый, он через двенадцать лет воскрес из мертвых и снова
объявился на Мезени. Осенью, когда стали реки, он по тракту добрался ночью до
Окладниковой слободки и постучался в калитку у своего расползшегося вконец домишки.
Лаяла собака, а Федор дожидался и думал, что к забору непременно надо будет этой же
осенью поставить подпорки.
– Кого бог несет? – спросил женский голос, и калитка заскрипела на ржавых петлях.
– Марья, ты? – молвил чуть слышно Федор.
И в ответ ему раздался страшный крик, баба шарахнулась от него прочь и, упав
посредине двора, кричала и билась, как в падучей. Собака, задыхаясь, рвалась на цепи, и из
дому двором бежал к воротам мужик, второй Марьин муж.
Федор, узнав, что замужем Марья и что Алёнка, которую он носил по горнице на руках,
умерла от гнилой горячки запрошлой зимой, не вошел в избу. Он постучался напротив у
брата. Здесь он коротко рассказал, что на Коле двенадцать лет тому назад на него напали
англичане и увезли его с собой. Потом его пересадили на другой корабль и повезли в
тридевятое царство, где сдали в королевскую военную службу. Федор побывал за это время
во многих странах, видел и арапов и людей, с кожей, красной, как медный котел. Но о том,
как он выбрался из своей горькой неволи, сказал мельком и как-то смутно и больше уж
никогда к этому не возвращался.
IX. НА СПИНЕ УБИТОГО КИТА
Так сидели они вчетвером – Степан, Ванюшка да два брата Веригины – на спине убитого
кита не один уже час. У Федора всё ещё ныло колено, и душа у него ныла по Андрее,
пропавшем ни за понюшку. Кажется, сейчас только оба они возились, поправляя спутанные
ремни уключин в карбасе, и Андрей скалил сквозь усы свои желтые зубы, и вот теперь
сгинул Андрей, нет Андрея, будто его и не рожала мать.
Федор не помнил, как попало к нему в руки весло и как взобрался он с ним на спину
кита, где стоял на коленях, держась за гарпун, Ванюшка. Словно сквозь сон протянул Федор
весло Степану, когда тот подплыл к нему, и, если б не боль в колене, он и в самом деле заснул
бы на склизкой китовой спине с веслом, которое продолжал держать в руках, не зная, что с
ним делать. Очнулся Федор только тогда, когда Степан выдернул у него из рук весло.
Стервоядцы всё ниже кружили над убитым китом и кричали пронзительно и противно.
Степану воротило душу и от этого крика чующей падаль птицы, и от соленого, терпкого
вкуса во рту, отдававшего запахом госпиталя в Мезени. Он вырвал из рук Федора весло и
замахнулся на птиц. Стервоядцы, крича ещё пронзительнее, взметнулись выше. Швырнув в
них в сердцах оказавшейся на китовой спине мокрой чурбашкой, Степан немного отвел
душу.
– Вот и попали на корабль, ставь мачты, подымай паруса! – сказал он, усмехнувшись. –
Таких кораблей никто ещё, кажется, не строил.
– Неужто? – почему-то удивился не совсем ещё очнувшийся Федор.
– Ты, Федор, что журавль, право слово: за море летал, а все одно курлы,– сказал Степан,
к которому понемногу возвращались его благодушие и языкатость. – Что же теперь делать
будем, ребятки?
– Хлебца бы! – жалобно протянул посиневший от холода Ванюшка.
– Хлебца? А зачем хлебца? Знаешь: на море-океане, на острове Буяне стоит бык печеный
– в боку чеснок толченый, а ты с одного боку режь, а с другого мокай да ешь. Слыхал такую
сказку? Вот погоди, припадет больше ветру, тогда и повернем мы к тому острову Буяну. А
сейчас потерпи маленько.
И Степан, протянув в руке весло и другою держась за гарпун, попытался дать ход своему
новоявленному судну. Но кит не двинулся ни взад, ни вперед, а только закачался с боку на
бок, грозя совсем перевернуться и снова потопить приютившихся на нем людей. Степан
подобрал весло и сплюнул киту на хвост.
– Что же теперь делать будем, ребятки? – повторил он опять. – С голодухи не помрем,
китовины эвон сколько, на два года хватит, режь да ешь, да облизывайся, а всё же неладно.
– Надо Тимофеича дожидать, – сказал Мирон, подбирая под себя ноги. – Тимофеич так
не бросит. Надо вон с той стороны дожидать лодью или карбас.
– Ну и подождем, не под дождем! А Андрею вечная память, – сказал Степан. – Видно,
шибко долбануло его в голову, и крови из него много вытекло сразу. А то продержался бы он
на воде такую малость.
– Вечная память! – молвил и Мирон и добавил, глядя в сторону: – Жена у него дома и
ребятенок годовалый.
Лодейники понурили головы. Приумолк и Степан, бросивший свои прибаутки и
присказки. Он только поплевывал киту на хвост, стараясь попасть в середину, между обоими
ластами. Но всех начинал разбирать голод. Тимофеич погнал их в карбасы перед самым
обедом, а сейчас солнце совсем клонилось к закату, и озноб охватывал вымокших и голодных
людей, сидевших неподвижно на неверном своем плоту. Вода чуть колыхала убитого зверя, и
он незаметно поворачивался к солнцу то головою, то боком, то хвостом. От этого
покачивания клонило в дремоту, в сон, в забытье.
Степан, клевавший носом в колени, вдруг встрепенулся и поднял голову. Какой-то
отдаленный, невнятный шум доносился от невидимого ещё предмета. Не то весла ударяли по
воде, не то птица гоготала. Степан вскочил на ноги, снова закачав свое валкое судно. Он
всматривался во все края далеко расстилавшегося кругом пространства, куда низкое солнце
рассылало свои длинные багровые лучи, и ему казалось, будто лодка маячит вдалеке у
небосклона, где переливалось золотом богато разодетое облако.
– Го-го-го-го! – закричал Степан. – Го-го!
И все четверо принялись гоготать во все свои глотки, до хрипоты.
Шум приближался и становился все явственней. По залитой закатным солнцем водной
глади скользила лодка; весельщики гребли к киту и ответно гоготали. Это был посланный
Тимофеичем шестивесельный карбас.
Весельщики поняли всё без слов. Они завернули Ванюшку в рваный парус и положили
на дно лодки. Несмотря на мучивший его голод, Ванюшка, как только обогрелся немного,
стал мерно посапывать мокрым, посиневшим от холода носом, высунул его из-под паруса
наружу, как воробьиный клюв. А кита привязали хвостом к корме.
Когда лодка тронулась в обратный путь, стервоядцы всё время шли за нею, то садясь
киту на спину, то опять взлетая высоко вверх. И так провожали они её до самой лодьи. А
здесь они уже получили свою долю, когда угрюмые работники принялись потрошить кита,
которого упромыслили сегодня такою дорогою ценой.
X. ОХОТА НА ЛЮДЕЙ
И снова ветер задул в жалейку, припал к парусам и погнал лодью к Груману, где было
настоящее китовое царство, где киты ходили большими стадами и кишел ими океан. А здесь
вода была опять прозрачна, и киты не слали в небо своих высоких водометов.
Ванюшка всё ещё заливался кашлем с того времени, как бултыхнулся в воду и потом
просидел полдня на китовой спине, крепко держась за гарпун и выбивая зубами барабанную
дробь. Тимофеич лечил своего крестника как-то по-особенному – так, как его самого лечили
канинские самоеды1. Он один охотился тогда в ближних перелесках, без собаки, околевшей у
него в том году; бил песцов и лисиц и забирался в такие снежные дебри, что сам себе
начинал казаться уже не человеком, а каким-то зимним зверем. Днем он ползал по снегу,
приглядываясь к узорчатым следам на пороше, а на ночь возвращался в свою охотничью
1 Самоеды – прежнее название ненцев, одного из народов самоедской языковой группы.
избушку, чуть ли не доверху утонувшую в сугробе. Здесь он разводил огонь в печурке и
варил ужин, а потом принимался свежевать добытого зверя.
Но в тот день, когда Тимофеич наткнулся на беглых самоедов, промысел его был
неудачен. С утра круто падал снег и ровной раскидной пеленой укрывал следы и
протоптанные Тимофеичем тропки. Каждая сосенка стояла словно укутанная в горностаевую
шубку, и Тимофеич не раз отплевывался в этот день, когда перегруженная снегом еловая лапа
посылала ему сверху рыхлый снежный ком, залеплявший охотнику всё лицо.
А зимний день короток, отгорает быстро. И Тимофеич повернул к своей избушке. Но
здесь, у порожка, посиневший в сумерках снег был притоптан, и дверь была прикрыта
неплотно. Тимофеич крикнул, но кругом было тихо, только эхо перекатывалось вдали,
перескакивая с бугорка на бугорок. Тимофеич вошел в избушку и высек огонь. В углу, тесно
друг к другу прижавшись, сидели два самоеда и поглядывали оттуда на Тимофеича, как
мышенята из мышеловки. Тимофеич рознял их и вытащил на середину избы. Это были два
приземистых паренька в изодранных малицах1 и с отмороженными носами. Они жалостливо
и умильно глядели Тимофеичу в глаза и тихонько скулили.
Тимофеич дал им по куску сырой оленины, и самоеды съели её вмиг. Потом они, снова
прижавшись друг к другу, заснули в своем углу.
Наутро Тимофеич, набрав в котелок снегу, поставил кипятить воду в печурке, а самоеды,
подобравшись к огню, стали опять глядеть Тимофеичу в глаза. Тимофеич попробовал было
расспросить их, что и как, но, не добившись толку, плюнул и, ткнув им ещё по куску мяса,
стал собираться со двора.
Тимофеич идет, а пареньки за ним. Он в сторону – и они в сторону. Он в овраг – и они
туда же. Тимофеич – их гнать. Они постояли, постояли и опять пошли за ним.
«Не иначе, как от чума отбились», – решил Тимофеич и махнул рукой.
Но самоеды не отбились от чума, а бежали из архангельского острога, и вот какое тут
вышло дело.
Царь Петр, который был в 1717 году в Голландии, в Амстердаме, писал оттуда в
Архангельск:
«По получении сего указу, сыщите двух человек самоядов, молодых ребят, которые б
были дурняе рожием и смешняе. Летами от 15-ти до 18-ти, в их платье и уборах, как они
ходят по своему обыкновению, которых надобно послать в подарок грандуке флоренскому2: и
как их сыщете, то немедленно отдайте их тому, кто вам сие наше письмо объявит».
Посланный царем офицер Петр Енгалычев, привезший в Архангельск это письмо, сидел
с утра до вечера в трактире, и к нему прямо туда, на питейный двор, пригоняли пойманных в
тундре самоедов. Но офицер был пьян и привередлив. Ему не нравились изловленные
самоеды, и он приказывал ловить новых, а уже пойманных велел сажать в острог.
Великий страх напал в том году на самоедские чумы. Самоеды метались по всей тундре,
угоняли оленей подальше, к морю, но солдаты настигали их повсюду, отнимали пушнину,
резали оленей, а молодых пареньков уводили невесть зачем и куда.
Архангельский острог был уже набит самоедами почти весь. Но Енгалычев посылал в
тундру новые отряды, потому что ему нужны были какие-то особенные самоеды.
Каждую неделю Петр Енгалычев устраивал смотры пойманным самоедам. Их
перегоняли из острога на питейный двор, и офицер выходил к ним с длинной голландской
трубкой и с царским орденом на залитом вином халате. Самоеды сразу же, как по команде,
распластывались на земле, в грязи, потому что принимали Енгалычева за какого-то грозного
бога, у которого в перстнях на пальцах удивительно сияли небесные звезды. Офицер бил
самоедов по голове тростью и пинал ногами в ребра, чтобы поднять их с земли и разглядеть
их вымазанные грязью лица. Самоеды не понимали, чего хочет от них злой бог, и
продолжали лежать ничком на земле. Наконец солдаты переворачивали их, как черепах, на
спину, и сердитый бог плевал им в лицо.
Но самоеды, как видно, не совсем оплошали, потому что в одно осеннее утро
1 Малица – верхняя меховая одежда, надеваемая через голову, шерстью внутрь, к телу.
2 «Грандука Флоренский» – великий флорентийский герцог.
недосчитались в остроге целого десятка. Восьмерых всё же изловили в лесу в тот же день и в
тот же день в комендатуре пороли, а двое так и пропали.
XI. ЛЕКАРИ-АПТЕКАРИ
Беглецы взяли сразу на север и шли, то прячась в разных трущобах, то снова выбиваясь
на лесные тропки. Они ели всякую дохлятину, грызли кору, гонялись за молодыми лисицами
и, случалось, настигали их палкой или камнем. Тогда они разрывали руками убитого зверя и
здесь же съедали сырое мясо и выпивали теплую кровь.
Но дни становились короче, и уже первые морозы были люты в ту раннюю зиму. На
полянах постреливал лопавшийся от стужи мерзлый снег, и долгими ночами заливчато выли
волки. Самоеды зарывались в сугроб и лежали там ни живы ни мёртвы. А чуть светало, снова
принимались плутать в занесенных сугробами дебрях. Но силы их убывали, их донимал
голод, они цепенели от холода и страха. И так вот наткнулись они на Тимофеичеву избушку.
Тимофеич не прибил их и не потащил обратно туда, где обитает злой бог с частыми
звездами на пальцах. Они остались у Тимофеича, спали в углу, который облюбовали с самого
начала, и с рассвета до вечерней зари таскались за Тимофеичем по лесу, как охотничьи
собаки, не отставая от него ни на шаг. Они бросались по кровавому следу за раненным из
ружья зверем и вынимали Тимофеичу песцов из гнезд прямо руками. Они высматривали
глухих тетеревов с вечера и на рассвете направляли охотника к дереву, где сидела
нахохлившаяся птица. Они исправно носили прикорм к караулинам и расставляли в густом
ельнике силья для куропаток. Они таскали в избушку огромные вязанки сухого хворосту,
отгребали снег от порога, помогали Тимофеичу сдирать и распластывать на досках беличьи,
лисьи и заячьи шкурки. Улыбались, глядя Тимофеичу в глаза, что-то лопотали по-своему,
показывали руками в южную сторону, колотили себя кулаками по скуластым лицам и плевали
в лицо друг другу. Но Тимофеич ничего не понимал из того, что они пытались объяснить ему.
Он хватал каждого из них за шиворот и сталкивал их лбами. Самоеды падали на прибитый
земляной пол и заливались тихим смехом. Так прожили они с Тимофеичем дней десять.
В одно утро Тимофеич как-то нехотя пошел со двора, а самоеды, как всегда, поплелись за
ним. Ружье было словно не его, Тимофеича, старое кремневое ружье, а чужое какое-то,
тяжелое, оттягивавшее ему плечо. Тимофеич идет, а горячее дыхание обжигает ему ноздри,
веки смыкаются сами собой, и он точно засыпает на ходу. Вдруг на тропку выскочил беляк;
глянул, навострил уши и замер на задних лапах в пяти шагах от Тимофеича. Тимофеич
выстрелил почти в упор и промахнулся. Заяц перекувырнулся и скосил под гору. Самоеды –
за ним, а Тимофеич повернулся и, шатаясь, побрел к избушке.
Самоеды оленьим скоком неслись с полешками в руках по путаному заячьему следу, но
скоро сбились и вернулись обратно. Тимофеича они на месте не нашли и по его манеру
принялись аукать, но на ауканье их никто не откликался. И хоть утоптана была тропка и
снегу не падало несколько дней, но они видели, что обутые в пимы1 Тимофеичевы ноги
повели его обратно, и странно как-то шел по тропке его след, выбиваясь за тропку то вправо,
то влево. Самоеды побежали к избушке.
Дверь была открыта, и изба настужена. На самом пороге, в снегу, валялось оброненное
ружье. А Тимофеич как был, так и свалился у печурки. Он лежал скрючившись, с
запекшимися губами и пылающим лицом, и его трясла лихорадка.
Самоеды перенесли Тимофеича на нары, разули его, набросали на него шкур и жарко
натопили избушку. Потом достали зашитые в малицах куски янтаря, истолкли его и сварили в
зверином жиру. И мазали Тимофеичу этим снадобьем пятки утром и на ночь и поили его
кипятком с солью.
Недели не прошло, как Тимофеич опять был на ногах. Он встал поутру и, ещё сидя на
нарах, схватил своих лекарей за малицы и сшиб их лбами. Те визжали от удовольствия и
лопотали что-то, показывая пальцами в слюдяное оконце. Тимофеич пожевал хлеба с какой-
то похлебкой, которую налили ему в чашку самоеды, оделся и пошел с ружьем со двора.
Самоеды двинулись было за ним, потом пропали. И больше не видел их Тимофеич.
1 Пимы – меховые сапоги шерстью наружу.
Вышли ли они на Зимнюю дорогу, чтобы пробраться дальше в тундру, или повернули
назад в Козьмин перелесок, надеясь встретить своих? Там, у Козьмина перелеска, бывали
моленья самоедов, и когда Тимофеич после промысла возвращался в ту зиму обратно в
Мезень, то наткнулся в глухом этом месте на целый лес идолов и множество каких-то
лоскутков, развешанных по деревьям.
В Мезени, отогреваясь на печи, Тимофеич услышал рассказы о гонении на самоедов от
царского офицера Петра Енгалычева. Сообразил тогда Тимофеич, в чем тут дело и кто были
его лекари-аптекари. С тех пор он от простуды и лихорадки-трясовицы сам лечился
самоедским снадобьем и других лечил тем же. Вот и Ванюшке Тимофеич натирал на ночь
спину и ноги толченым янтарем, смешанным с горячим китовым жиром, укутывал мальчика
в полушубок и укладывал на оленьи шкуры в мурье. Тимофеич сидел у Ванюшкиного
изголовья, то набивая трубку табаком из висевшего на гвоздике пузыря, то выколачивая её в
котелок. Ванюшка чихал от щекотавшего у него в носу табачного дыма, кашлял, бормотал
несуразное что-то и наконец засыпал. Тогда Тимофеич прибегал ещё к одному средству,
которое, по его мнению, должно было окончательно выгнать из Ванюшки болезнь. Тимофеич
перенял это средство от знахарей, морочивших им народ, но старик, как и многие люди в то
время, верил в целительную силу всего, что он проделывал теперь над Ванюшкой. Тимофеич
снимал с указательного пальца оловянный перстенек и, дунув сквозь него на четыре стороны,
клал его на лоб Ванюшке и шептал над ним, стоя на коленях, закрыв глаза и еле шевеля
губами:
– На море на Асафе, под дубом под Лаврентьем стоят Иродовы дщери: двенадцать дев,
косматых, простоволосых, беспоясых, беззастежных; идут в мир крещеный народ томить,
тело знобить, кости ломать, в гроб загонять. Взял Симон святой в каждую руку по три прута
и дал им в спину по три лозана. И взмолились двенадцать сестриц, двенадцать трясовиц,
косматых, простоволосых, беспоясых, беззастежных: «Симон святой, ты не трогай нас, а мы
не тронем раба божия Ивана».
Тимофеич переводил дух, жевал губами и продолжал ещё тише:
– Мои слова полны и наговорны, как великое океан-море; крепки и лепки; крепче и лепче
клея-карлука1 и тверже и плотнее булата и камня. Тем моим словам будь ключ и замок, ключ
– в воду, а замок – в гору.
Сделав свое дело, Тимофеич снова надевал кольцо на палец и, кряхтя, укладывался
рядом со своим приемышем. Мальчик ворочался и говорил с кем-то во сне, Тимофеич храпел
на разные голоса, а волна била в борт судна, угоняемого ветром всё дальше от Мезени.
XII. НА ГРУМАН!
Было время, когда промышленникам не надо было для китовой ловли забираться так
далеко – во льды и туманы Студеного моря. В ту отдаленную пору, о которой дошла к нам
лишь слабая память, киты, откочевывая на зиму к югу, подходили близко к берегам Бискайи,
уверенно и мощно рассекали они широкие волны теплых морей и не страшились врага,
которого, казалось, не существовало в природе. Они свободно играли в море, ходили в
одиночку, и парами, и великими стадами, и ничто не препятствовало их пропитанию, их
играм и размножению. Но вот однажды человек отважился на кита напасть и скоро убедился,
что, при всей своей мощи, это чудовище обычно бежит от врага, ловкости и сноровке
которого не может противопоставить свою громоздкую силу. И, кроме того, человек увидел,
что китовая ловля доставляет богатую добычу, не сравнимую ни с каким другим промыслом.
Украшения старинных военных уборов и женские наряды требовали в то время
огромного количества китового уса, и цена на него была столь высока, что в Голландии он
был причислен к наиболее дорогим иностранным товарам, вместе с индийским перцем и
мускатным орехом. Но большие прибыли получались и от сала китового и даже от китового
мяса, употреблявшегося в пищу. Поэтому началось великое истребление китов, в котором
участвовали купеческие компании многих наций. И китов, преследуемых и настигаемых
всюду в их убежищах, стало значительно меньше в теплых морях; добывать этих морских
1 Клей-карлук – рыбий клей.
исполинов уже нужно было в малодоступных и суровых странах, где многие месяцы царит
беспрерывный мрак или мерцает лишь слабый свет. Отныне только в этом царстве вечного
мороза гарпун со свистом прорезал плотный от холода воздух и люто вгрызался в китовую
спину. И сюда, в Ледовитое море, к Шпицбергену, на Груман, направляли теперь штурманы
ход кораблей, и к тому же Груману гнал крепкую лодью Еремея Окладникова старый
кормщик Алексей Тимофеич.
В холодных этих странах мореходов всегда ожидали великие опасности и тревоги. Ещё в
1555 году царю Иоанну Грозному сообщили, что у мурманского берега поморы наши
увидели два корабля, которые стояли на якорях в становищах. На кораблях этих было много
товаров, но люди на них были все мертвы. Сам капитан, английский мореплаватель Гюго
Виллоуби, замерз на берегу, в шалаше, сидя за корабельным журналом.
В ту пору русские поморы уже бороздили в своих лодьях и шнеках холодный океан. Двое
из них даже водили корабли английской экспедиции под командой капитана Стефана Барроу,
искавшего в то еще время путь в Китай через Ледовитое море. Отважный капитан добрался
до острова Вайгача и Новой Земли, но должен был повернуть обратно, устрашенный
свирепыми бурями и ледяными громадами, которыми полно было в то лето Ледовитое море.
Спустя почти полвека после Стефана Барроу на Новой Земле побывал знаменитый
голландский мореплаватель Баренц, так же, как и Барроу, стремившийся в Китай ближайшим
морским путем, вдоль северных берегов Евразии1. У Костина Шара, на Новой Земле, Баренц
нашел тогда две русские лодьи. Сюда, в это царство стужи и мрака, смело пускались русские
промышленники – сюда, к ледяному наволоку2, к мысу Нассау, где обрел себе могилу
неукротимый Баренц.
– Поднимите меня и дайте взглянуть в последний раз на страшный ледяной мыс, – сказал
он штурману своему, умирая.
Но кормщик Тимофеич, знавший тамошние ходы, ничего не знал о Баренце и мало
задумывался над трудностями своего похода. Его печалила участь погибшего Андрея
Росомахи и Ванюшкина болезнь, но он и то был рад, что ветер – попутный и что лодья резво
убегает вперед, суля у Грумана обильную ловлю и скорое окончание промысла, потому что
зверь там попадался часто и величины неимоверной.
XIII. НЕЛЮДИМЫЙ ОСТРОВ
Но ветер волен и переменчив. Сегодня летит он в одну сторону, а завтра меняет свое
направление и с удесятеренной силой угоняет корабль к неведомым и нечаемым берегам. То
совсем пропадет, и стоят корабли недвижно, с повисшими парусами, а то начнет вдруг
бешено кружиться, ломая мачты, обрывая снасти.
Дай бог ветерка,
Наша лодка не ходка;
С носу, с подносу,
С кормы заветерье3,
Кормщику в спину,
Гребца за набой4,
Середыша подкрень5
И ногами вверх!
Так в безветрие поют дети на Поморье. Но разве прикажешь ветру, разве заворожишь
море? Тимофеич только вздыхал, глядя, как буря рвет паруса, как лодья, словно коромысло,
спадает в пучину то носом, то кормою. Тимофеич вынимал из тавлинки самодельный компас,
глядел то на стрелку, то на солнце и жевал губами. Лодья неслась вперед, но гнало её не к
Груману, а на Малый Берун.
1 Евразия – общее название Европейско-Азиатского материка.
2 Наволок – мыс
3 Заветерье – сторона, откуда должен подуть ветер.
4 Набой – набитые выше бортов лодки доски.
5 Подкрень – наклони.
С правого борта разлился у небосклона беловатым пламенем ледяной блеск. Там, видно,
во множестве сшиблись ледяные пространства и в небо бросали молочный свой отсвет. И
беспрерывно доносились оттуда страшные залпы, тяжело потрясавшие воздух и воды.
Ветер ревел целые сутки не переставая, но потом начал как будто спадать немного, когда
в отдалении видно стало землю. Лодейники столпились на носу и вглядывались в далекий
берег, синевший под небоскатом, как большое горбатое облако. А Тимофеич залез на каланчу.
Тимофеич узнавал это место, куда его занесло уже однажды и тоже по такому вот
случаю. Они проваландались тогда здесь трое суток и даже сходили на берег, на пустынный
Малый Берун, нелюдимый остров, где нечего делать китобою и куда редко заходят корабли.
Нужно было теперь вести лодью в губовину и уже здесь дождаться погоды, а то как бы не