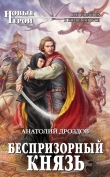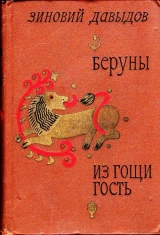
Текст книги "Беруны. Из Гощи гость"
Автор книги: Зиновий Давыдов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 39 страниц)
– Понима-аю, – протянул теперь в свой черед Тимофеич.
– Ну, ты, брат, я вижу, нашего поля ягода, – хлопнул Степан Семена Пафнутьича по
плечу.
– Фрр... – отскочил от него Семен Пафнутьич, старавшийся ещё на лодье быть от
Степана подальше.
– Чего ты? – спросил его хмуро Степан, но тот не ответил и полез зачем-то в канаву.
Он вылез оттуда, пообчистился, нахлобучил себе на голову свой свисавший лохмотьями
малахай и поднял валявшуюся подле хворостинку. И, торжественно посмотрев на
Тимофеича, на Степана и на Ванюху, произнес:
– Места эти несытны, необильны и весьма непокойны... Потечем?
– Течем, – кивнул головой Тимофеич.
Семен Пафнутьич черными от грязи пальцами дернул зачем-то на лице своем рыжую
прядку и стал месить не совсем просохшую ещё обочину дороги. За ним гуськом стали
чмокать сапогами остальные – с пригорка в ложбинку, из овражка на холмик, подальше от
этих мест, не суливших, по замечанию Семена Пафнутьича, ни сытости, ни изобилия, ни
покоя.
XXI. РАССКАЗ СЕМЕНА ПАФНУТЬИЧА О ТОМ,
ЧТО ПРОИЗОШЛО С НИМ В СТОЛИЦЕ
Дорога, по которой беглецы всё больше удалялись от столицы, была, к счастью, в этот
день безлюдна, и ниоткуда не слышно было здесь ни тарахтения телеги, ни дребезжания
плохо подвязанного под кузовом ведра. Беглецы шагали по дороге среди бела дня всё равно
как ночью, и ни пеший, ни конный ни разу не обогнал их, и никто не попадался им навстречу.
Ванюхе и Степану надоело волочиться за Тимофеичем, ступая по его вдавленному следу, и
они ушли далеко вперед, останавливаясь временами, чтобы подождать своих не очень
расторопных товарищей. А Тимофеич пошел рядом с Семеном Пафнутьичем но немного
обсохшей дороге, расспрашивая его про Никодима и посвящая его, как и в прошлом году, в
свои злобедственные дела. Семен Пафнутьич путался лапотками в своем долгополом кафтане
и, помахивая хворостинкой, сочувственно поддакивал Тимофеичу. Выгорецкий трудник не
чувствовал прошлогодней неприязни к старому беруну. Эти трое были так же гонимы
царским начальством, как и он сам. И это их страдание и нежелание Тимофеича быть шутом
на старости лет размягчали сердце обычно несговорчивого Семена Пафнутьича.
– Дела!.. – проговорил он и схватился руками за свой изодранный малахай, когда
Тимофеич окончил свой рассказ. – Дела! Рассудка лишишься вместе с малахаем и с тем, что
было в малахае.
Он снял с головы драный свой малахай и ткнул его Тимофеичу.
Тот повертел малахай в руках.
– Да, шапец небогатый... Не боярская, говорю я, шапка.
– Шапка?..– вскрикнул Семен Пафнутьич. – Не о шапке речь... У меня в этой шапке денег
золотых да серебряных было зашито столько, что еле голову нёс я под этою шапкою. Все то
вниз клонило, то назад запрокидывало, то набок сворачивало.
– Вишь ты! – удивился Тимофеич.
– Я бы тогда за эту шапку, может быть, трехсот рублей не захотел взять...
– Скажи на милость! – не переставал удивляться Тимофеич.
– Да я бы эту шапку не променял бы... не променял бы... хоть на что хочешь не променял
бы!.. – кричал, всё больше входя в раж, Семен Пафнутьич.
– Была, значит, шапка с начинкой, – заметил грустно Тимофеич, возвращая Семену
Пафнутьичу его именуемый шапкою облезлый и словно собаками растерзанный пыжиковый
малахай.
– Да я бы... да я бы... – продолжал неистовствовать Семен Пафнутьич, но, почувствовав в
своих руках возвращенный ему Тимофеичем малахай, помял его, поглядел на него
укоризненно и опять нахлобучил на голову.
Малахай был теперь легок, и голова выгорецкого трудника не болела больше от
отягчавших её рублевиков и червонных. Но зато ныла в Семене Пафнутьиче душа оттого, что
он попал впросак и что плакали теперь общежительные денежки и что срам такой на всю
Выгорецию. Не по Сеньке, значит, была эта шапка, не по Семену Пафнутьичу с такой
начинкой малахай.
– Дурак ты, дурак! – стал корить он самого себя. – Языку-то у тебя на рубль, а ума на
пятак. Говорил мне староста выгорецкий: «Смотри, – говорит, – Сёмка: ты горяч; коли что –
не вмешивайся, держи язык за зубами, а то и вовсе прикинься немым». Да я-то наказ его
поздно вспомнил. Они тут, в Петербурге, приказчика нашего заарестовали, ну, меня и послал
староста наш торговый в столицу, чтобы, значит, поразведать, нельзя ли приказчика
освободить и какие там ещё напасти к нам жалуют. И денег я зашил в шапку, чтобы взятку
сунуть, подкупить кого надо. Денег со мною было немало – ведь начальство начальству
рознь: бывает такая мелкота, что и рубликом удовольствуется, а иной изверг в триста рублей
станет. Я, видишь, в столице впервой... Ну, что бы им Никодима вместо меня послать: он и
сам приказчик и уж на что человек; да ему из Сумы отлучиться нельзя; там он лодью нашу
снаряжает, на Новую Землю собирается. Ну, послали меня. Приехал я, стал на квартиру,
сунулся туда-сюда, всё как-то без толку: тот уехал на Нижнюю Волгу струги хлебом грузить,
другой схвачен вместе с приказчиком, третий – в бегах невесть где. Я туда-сюда, за шапку
держусь, ветром, думаю, не сдунет – тяжелая, а мошенничек, может, какой и сопрет: их ноне,
мошенничков этих, повсюду довольно. Ну, да авось, думаю, обойдется: неужели ж кто на
такой малахай позарится? А сам всё же за малахай хватаюсь, то правой рукой, то левой: цела
ли, думаю, на мне шапка, хоть и чую, что голову она мне начинкой своей сворачивает. И пока
я там вчерашний день суюсь то туда, то сюда в такую непогоду, вижу вдруг – переполох,
народ бежит, а куда – и сам не знает. Я кричу:
«Голубчики, куда это вас несет так скоро?»
А они мне:
«Ну, – говорят, – тебя к псам, разговаривать тут с тобой! Ноги-то у тебя не отсохли,
можешь и сам бежать, там узнаешь».
Ну, я и побежал и, как прибежал, вижу – войско стоит под ружьем, знамена парчовые
развернули – царицу, видишь, ждут, как она в золотой карете поедет.
Дай, думаю, и я за те же, думаю, денежки посмотрю, что за такая у нее золотая карета и
какая корона царицыны волосы украшает. По крайней мере, думаю, будет что порассказать на
Выгу. Втерся я в кучу и слышу: народ болтает и то и се, а я знай помалкиваю, только за
малахай свой хватаюсь.
Случился тут босой мужичок в нашей кучке, совсем хмельной: хватил, должно быть,
винца натощак, ну и сделался шумен. Да и другие воскресенья ради были навеселе.
Распустили языки, мелют кто во что горазд, а я стою да на ус себе мотаю.
«При государе Петре Алексеевиче, – говорит мужичок, – на нашу братию, на рабочих
людей, накладывалась по тюрьмам на двух человек одна цепь, а чтоб такие тяжелые цепи,
какие ноне накладывают, носить одному человеку, этого раньше не бывало. Экая милостивая!
(Это он про царицу.) Я бы, – говорит, – её за этакую милость камнем убил. Хорошо им, –
говорит, – что войны нет; а как бы была война, то я бы навострил саблю на этих генералов...»
Тогда тут один в голубом кафтане говорит:
«Вот, – говорит, – любимчик царицын, Разумовский Алексей Григорьич... Приехал он в
Питер совсем в убогом платье, а теперь в золоте ходит. А всего только и делает, что собак за
зайцами гоняет. Недавно кто-то при Разумовском докладывал государыне, что придворную
псовую охоту надо бы поубавить, потому что её очень много и денег она из государственной
казны съедает гибель. И государыня на то совсем было согласилась. «Тогда, – сказала она, –
надо той охоты убавить». Но Разумовский уже тут как тут: «Ежели изволите приказать той
охоты убавить, то я прошу ваше величество, чтобы меня от императорского двора уволить».
И государыня тогда сказала: «Зачем, – говорит, – убавлять, можно и ещё прибавить...»
Рассказывает он это, а другой в нашей кучке ему поддакивает.
«Потому-то, – говорит, – наша Россия и разорилась. Откуда они пришли, что владеют
нашим государством? Царица всё ездит да гуляет. Она б, – говорит, – ездила в коллегии1 да
дела делала, а то ездит всё на охоту или в маскарады. Вон на Оперный дом семьдесят тысяч
рублей издержано. Небось когда желала принять престол российский, так всех обольстила,
как лисица, а ныне ни на кого смотреть не хочет. Народ оттого её и не любит, а сама она
народа боится и всегда в трусости находится. Да и наследничек её, Петр Федорович, того же
десятка. Недавно ехал он мимо солдатских казарм верхом на лошади, и во время обучения
солдат была из ружья стрельба; и он той стрельбы испугался и запретил стрелять, когда он
мимо проезжает».
Я в малахай свой вцепился обеими руками, слушаю все это. «Ну, – думаю, – и дела у нас
в России!»
А мужичок тот босоногий так расшумелся:
«Я б, – говорит, – взял пушек пять и пальнул бы в неё. Хоть бы её и не было».
И как сказал он это, вдруг слышу: «Лови! Держи!» Рассказчики мои – кто куды; мужичок
босоногий так даже на четвереньках скоренько уполз и в ямке какой-то пропал. Я тоже вслед
за другими, шубу с кафтаном задрал, бегу, а навстречу мне верховой флажком машет. Я
заметался, а малахай с меня наземь. Я – за малахаем, а тут один хвать меня за ворот.
«Вон он, – говорит. – Тебя-то мне и надо! Ты, – говорит, – государственный преступник,
и на таких, как ты, мне выдана бумага».
Я малахай напялил, за малахай одною рукою держусь, а другою показываю, что, дескать,
немой я и языка не имею, мычу себе так понемногу. А он тем временем затащил меня в
какой-то двор, и выскочили тут ещё двое и с ними баба. И баба та кричит:
«Бейте его! – кричит. – Чего на него смотреть, я его давно знаю!»
Ну, тут один треснул меня по загривку, мне даже больно стало, так что малахай с меня
опять свалился, а я забыл, что я вовсе нем, и говорю:
«Голубчики, что же вы так больно деретесь?»
А он мне:
«Это, – говорит, – тебе пока задаток. Ты, – говорит, – против царицы злоумышляешь.
Снимай, – говорит, – сейчас сапоги. У вас, – говорит, – в сапогах всегда воровские письма».
Я снял сапоги, а он их и брось той бабе.
«Снеси, – говорит, – Маланья, в клеть, посмотри, нет ли у него в сапогах каких-нибудь
воровских писем».
«Для чего, – говорю, – голубчики, в клеть? Я думаю, и на дворе посмотреть можно, не
ночь ведь...»
А он на слова мои хоть бы что.
1 Коллегии – центральные государственные учреждения, впоследствии министерства.
«Теперь, – говорит, – шубу снимай: у вас и под шубой бывают воровские письма».
Я и шубу свою овчинную снял; он и её бросил Маланье.
«Посмотри, – говорит, – заодно и шубу».
Я тут про малахай свой вспомнил, тянусь за малахаем; пропадай, думаю, сапоги и шуба,
цел был бы малахай... А он, мучитель мой, заметь это: поднял с земли малахай, да так и
обомлел с малахаем в тиранских руках своих. Взвесил это он в руке малахай.
«Эге, – говорит, – вон оно что!»
Хвать с пояса ножик, малахай в один миг изрезал. Оттуда – и рублевики и червончики...
«Это, – кричит, – поддельные деньги, и этого, – говорит, – так нельзя оставить!»
А в то время пришла Маланья из клети и говорит, что в шубе у меня и в сапогах будто бы
полно воровских писем.
«Ну, – говорит он, – я не могу тебе сапог и шубы выдать, потому что это против тебя
улики; однако малахай возьми».
Бросил он мне выпростанный малахай и поганые эти лапти с онучами, что на мне
видишь.
«Ну, теперь, – говорит, – обувайся, и пойдем».
«Куда, – спрашиваю, – голубчик, идти-то?»
«Там, – говорит, – узнаешь. Ты сам, – спрашивает, – откуда?»
«Повенецких, – говорю, – земель».
«Не раскольник? – говорит. – Ну, да, – говорит, – меня не обманешь: я сразу вижу, что
раскольник».
Повел он меня, а тут уже смеркается, и непогода такая! Ветер кафтанишко мой под ноги
мне подбивает. Привел он меня к заставе, со стражей заставной шу-шу – пошептался – и за
заставу меня вывел. «Куда, – думаю, – ведешь ты меня, мучитель, и за что на меня напасть
такая?»
«Отпусти, – говорю, – меня, голубчик, с миром: что те во мне!..»
Он посмотрел на меня таково.
«Ну, – говорит, – ладно. Я, – говорит, – тебя прощаю. Только ты этими делами больше не
занимайся и иди, не оглядывайся. А если вздумаешь в город воротиться, то тебя у любой
рогатки схватят. И я не посмотрю, что ты Повенецких земель, а повелю тебя казнить
смертью».
Дела!.. – мотнул в заключение головою Семен Пафнутьич и снова схватился за свой
малахай.
XXII. ПОГОНЯ
Глухой шум, доносившийся со стороны города, заставил путников насторожиться.
Тимофеич крикнул Степана и Ванюху, ушедших вперед, и когда те подбежали, уже ясно
было, что это не одна и не две лошади отчетливо барабанят по обсохшей дороге. Беглецы,
спасавшие свою жизнь, растерянно поглядывали друг на друга, не ведая, куда сунуться, за
что ухватиться. Канавы, которою доселе была окопана дорога, не было больше. Ровный
болотистый луг расстилался во все стороны, со всех концов охваченный небоскатом. Но
впереди виден был мост, куда безо всякого уговора сразу бросились все четыре беглеца.
Белый, не посеревший ещё от дождей и времени мосток был на просмоленных стояках
перекинут через ручей, мутный и говорливый, как и тот – на острове, на Малом Беруне. Ещё
года не прошло, как спаслись они оттуда, и вот теперь снова ищут спасения от новой беды.
Под мостом была сырость и тень. Беглецы прижались здесь к какой-то полусгнившей
загородке, которою зачем-то забран был обрыв на берегу. Сердце стучало в каждой из
четырех грудей, как копыта приближавшейся погони.
Через минуту мост задрожал, словно под грохотом обвала. Потом конские копыта опять
горохом рассыпались по дороге, замирая в отдалении. Ванюха высунул голову и разглядел бе-
лые банты на драгунских1 шляпах и синие с красными воротниками плащи.
– По наши души, – молвил Семен Пафнутьич, бледный и сразу почувствовавший
1 Драгуны – один из видов конницы.
зяблость во всем теле под легким кафтаном и в ногах, обутых в измочаленные лапти.
– Ищут в тундре дыму, – буркнул Степан.
И они снова умолкли, прислушиваясь к шороху травы по бережкам, к воробьиной
перебранке на мосту над их головами и к звонким переливам ручья внизу, у ног.
Но Семену Пафнутьичу суждены были в этот день великие потрясения. Он стоял,
расставив широко ноги, прислонясь к загородке и зажав в руке хворостинку. И когда
наклонился, чтобы заткнуть выбившуюся из лаптя онучу, то обмер, и начавший проходить
озноб снова мурашами забегал у него под рубахой. Внизу, под ногами Семена Пафнутьича,
между полученными им взамен сапог разбитыми лаптями торчала человеческая голова,
огромная, кудлатая, уткнувшаяся лицом в землю, в щепки, в глину, в прах. Семен Пафнутьич
почувствовал, что никогда больше не разогнуть ему спины и таким вот крючком придется
ему отныне ходить по свету, если дано ему будет пережить эти дни, полные удивительных
дел и сулящие ещё кто знает какие беды.
Но Семен Пафнутьич печалился о своей скрюченной в дугу спине понапрасну. Потому
что не успел он ещё себе представить, на костыль или на палицу будет он обеими руками
опираться, катясь по земле, как казавшаяся мертвой голова сама собой повернулась и глянула
нагнувшемуся Семену Пафнутьичу прямо в лицо своими белесыми глазищами из-под
нависших бровей. Семен Пафнутьич сразу разогнулся и в лапте, из которого совсем вылезла
онуча, отбежал в сторону.
А голова тем временем зевнула и плюнула вверх, шлепнув плевком в мостовой настил.
Тимофеич уже стоял рядом с Семеном Пафнутьичем и недоуменно глядел на голову,
которая продолжала зевать и шлепать плевками. Степан заглядывал в щели загородки, откуда,
из отверстия внизу, торчала голова. Ванюха следил за летевшими вверх плевками, которые
один за другим шлепались в мост. Голова была клеймена1, хотя, должно быть, давно и не
совсем удачно. Под слоем грязи на красной роже и под бурой щетиной Ванюха смог
разобрать водянистые зеленоватые буквы: В – на лбу, О – на правой щеке и Р – на левой.
– «Вор», – прочитал Ванюха вслух.
А владелец клейменой головы протащил до половины свое туловище вместе с руками из
отверстия в загородке и стал, лежа на спине, подбрасывать зерневые кости2, ловя их на лету и
пощелкивая ими в руках.
– Ну и жох!.. – вырвалось наконец у Тимофеича, пораженного столь мастерской игрой
зерновщика, подбрасывавшего свои костяшки с искусством ярмарочного жонглера.
Но тот стукнул напоследок костяшкой в настил моста, поймал её и перекинулся на живот.
– Подходи! По алтыну на кон!
– Ну и жох!.. – даже присел от восхищения Тимофеич.
– Из мошенничков будете, ваше степенство? – справился Семен Пафнутьич, зло
поглядывая на перепугавшего его до смерти клейменого оборванца.
– И вор и тать3 на твою же стать,– ответил тот.
Семен Пафнутьич зашипел и присел на пенек у самой воды переобувать лапоть, из
которого совсем выбилась непослушливая онуча.
– Хороша ли квартира? Зимой не дует? – спросил Степан.
– Хоромы неплохи, – ответил оборванец, – хоть какому герцогу под стать; только пыль да
копоть, притом нечего лопать.
У Степана живот подвело. Он вспомнил, что за весь день не было у него во рту маковой
росинки, но нашелся всё же ответить беспечальному стихоплету:
– Вам, ворам, просто: тяп да ляп – клетка, в угол сел – и печка.
– И то, – согласился клейменый. – Табачку не держишь?
Тут и у Тимофеича заныло сердце. Он полез искать трубку, но ни трубки, ни кисета не
было с ним. Остались ли они в остроге или и эту мелочь выграбил Бухтей?
1 В прежнее время преступникам на тело или на лицо накладывали неизгладимые отличительные знаки
(клейма).
2 Зернь – игра на деньги при посредстве особо помеченных косточек.
3 В старину под словом «вор» подразумевали государственного преступника, смутьяна, реже – мошенника;
похитителя же называли татем.
А у подмостного жильца были в руках уже карты. Тузы, валеты, короли веером
рассыпались в его пальцах, распускались павлиньими хвостами и, точно по приказу, шурша,
летели обратно, притаиваясь в смирной колоде. Клейменая голова готова была в какую
угодно игру: в ломбер, кучку, марьяж, никитишну, ерошки, три листика или хоть в дурачину.
– «Карты подрезные, крапом намазные...»1 – пропел ему Степан из воровской же песни.
И тогда короли и козыри, двойки и тройки, черви, трефы, пики, бубны, только что
кружившиеся в руках клейменого в пестром танце, испуганно метнулись в сторону и все
сгинули сразу, словно их и не было вовсе.
С набежавшим ветерком цокот копыт стал снова слышен с той стороны, куда недавно
умчались полицейские драгуны. Оборванец быстро убрал туловище вместе с клейменой
головой в свою нору, которую прикрыл деревянной заслонкой.
Беглецы опять прижались к загородке и стали слушать медленно приближавшееся
ржание лошадей и голоса всадников; те возвращались шагом, перебрасываясь словами. Мост
был невелик, но драгуны ехали по нему долго, будто даже не час и не день, а, как могло
беглецам показаться, столько, сколько прожил на Малом Беруне Тимофеич. Конские копыта
били гулко в доски над головами беглецов, которым не слышно было, о чем говорили
солдаты. Но как кончилось страшное шестилетнее заточение на Малом Беруне, так приходил
конец и нескончаемому, казалось, прохождению небольшого драгунского пикета через малый
этот мост.
Уже голова пикета миновала середину моста, уже последние лошади, может быть,
одними только задними ногами добарабанивали возле перилец. Но двое драгун зачем-то
застряли посредине, и один даже слез с лошади. Он возился с седельными ремнями,
подтягивал подпругу, поправлял чепрак, а другой в это время хлестал плеткой по своей
лошади, которая взвивалась вверх и бросалась из стороны в сторону по всему мосту.
«Что, как вздумает коня поить?..» – мелькнуло у Степана.
Да нет! Ручей был мутен от вчерашней непогоды, и холеная драгунская лошадь отвернет
морду от этой ржавой воды.
Драгун покончил наконец со сбруей и вскочил в седло. Оба верховых бросились во весь
опор вдогонку своим товарищам, и Ванюха увидел те же короткие ружья в седельных петлях
и синие спины всадников, приклоненные к вытянутым конским шеям.
Беглецы стали выбираться из-под моста, но обернулись к отверстию в загородке, где
заслонка стукнула снова. Из своей норы опять вылез клейменый оборванец. В руках у него
были самодельные шашки, и пешки уже были расставлены в полном порядке на исчерченном
клетками обломке доски.
XXIII. НОЧНОЕ УБЕЖИЩЕ
Солнце клонилось низко, когда путники с посеревшими от усталости и голода лицами
подошли к большому двору, стоявшему посреди мелколесья и огороженному высоким глухим
частоколом. Изба, амбары и все прочие строения были внутри двора: ни одно из них ни
одним окошком не глядело наружу, на дорогу, огибавшую в отдалении двор и скатывавшуюся
дальше вниз вдоль по ельнику, которым густо поросло это место. Но когда Семен Пафнутьич
постучал три раза, и ещё три, и ещё два, на высокой крыше избы зашуршало что-то, и в
невесть откуда взявшемся крохотном оконце показалось чье-то бледное лицо, которое тотчас
исчезло вместе с самим оконцем на ладной, крытой лучиною крыше.
Щелкали замки и стучали засовы, пока наконец тяжелая калитка бесшумно, без скрипа,
не отошла назад, открыв путникам заросший травою двор, залитый последними лучами
багряного светила, которое до половины ушло уже за частокол. Не было слышно ни
собачьего лая, ни возни скотины в хлеву, и ни о чём не спрашивала путников высокая
женщина в черном одеянии, которая прикрыла калитку и снова стала стучать засовами и
щелкать замками. Семен Пафнутьич вошел в избу, оставив берунов дожидаться посреди
двора.
Тимофеичу ясно было, что выгорецкий трудник привел их в раскольничье гнездовье.
1 Особо меченные карты для мошеннической игры.
Старик обрадовался этому, потому что здесь можно было заночевать без опаски, укрывшись в
каком-нибудь тайнике, который всегда был про всякий случай в любом раскольничьем
жилище. А Семен Пафнутьич через минуту снова вышел на крыльцо и пошел вместе с
запершей калитку женщиной в угол двора, где стояла закопченная банька. Он позвал туда
своих попутчиков, и, пока женщина таскала в баньку снопы соломы и охапки сена, Семен
Пафнутьич показал им лазейку под полок, куда они должны были забраться, если бы ночью
вышла тревога. Сам он ушел ночевать в светлицу, а беруны бросились к хлебу, щам и молоку,
которые поставила им на лавку всё та же женщина, не проронившая доселе ни единого слова.
Беруны тоже не проронили ни слова. Они заправляли в рот огромные ломти хлеба и
посылали им вдогонку одну за другою большие ложки теплых ещё щей. Они икали, чавкали,
глотали, не разжевывая, точно боялись, что наедут опять драгуны или вломится в баньку
Бухтей и отнимет у них и это. И когда горшок стал пуст, а кринка суха, беглецы повалились
на сено и солому, не скинув с себя кафтанов и не снявши даже сапог.
Ночь прошла спокойно, и берунам не пришлось покидать нагретого ложа и лезть под
полок, в паутину и мусор. А утром их разбудил Семен Пафнутьич, стоявший перед ними в
новых сапогах, в широченном армяке и лоснящейся поярковой шляпе.
– Ты, Сёмушко, никак, невесту смотреть собрался! Такой молодец! – лукаво глянул на
него Тимофеич. – Вон и шляпа на тебе с ямкой... Не то что малахай твой драный.
– Малахай... – вспомнил Семен Пафнутьич. – Пусть этот малахай пропадет совсем...
Пусть малахай этот носят теперь мучители наши.
И, поправив на голове шляпу, которая была ему велика и наползала на уши, сердито
добавил:
– И лапти тоже...
Они вышли во двор, где на завалинке их дожидался завязанный мешок с хлебом и прочей
едою. Степан взвалил мешок на спину и продел руки в лямки.
На дворе было пусто и тихо, как и накануне. И так же как и накануне, молчаливая
женщина в черном сарафане и черном платке отперла им калитку, и они вчетвером
спустились по тропинке в лог и вышли там снова на дорогу. Отсюда места пошли вскоре
более потаенные, боровые, с вязью теней на дороге, с быстрыми ручьями, через которые
путники перебирались вброд, с гомоном лесной птицы и мельканием белки меж древесных
ветвей.
XXIV. ВЕСЕЛЬЩИК МИТЯ СООБЩАЕТ ВЫГОРЕЦКИЕ НОВОСТИ
После этой ночевки у Семена Пафнутьича снова завелись денежки – алтыны и полтины,
которые он ревниво прятал в сапоги, рассовывал по потайным карманам армяка и запускал за
пазуху в висевший у него на шее кожаный кошель. И где за деньги, где за спасибо
подвигались наши путники вперед то в телеге, то пешком, а то и водою по рекам и озерам в
длинных узких поездниках1 или на медленно шедших по течению перильчатых ведилах2.
Обходили воеводские избы, обедали под кустом, ночевали на мирских постоялых дворах или
в особых попадавшихся по пути и хорошо ведомых Семену Пафнутьичу раскольничьих
подворьях. И так вот, по многим путям и водам многим, добрались они до большой воды, до
озера Онега, на коем парусов и не счесть. Близка была Выгореция, где покой, и сытость, и
всякое изобилие. И стоило только сойме3, на которую погрузились беглецы, дойти по
выпавшему тиховодью до Пигматской пристани, как здесь начиналась настоящая жизнь: без
скудости, без страха и без постоянной оглядки.
Пигматка так и кишела знакомцами Семена Пафнутьича. Здесь, в этой пристани
выгорецких раскольников, полно было кораблей, которые шли с Вытегры, груженные хлебом,
буйным зерном ржаных поволжских раздолий. Сюда, в Пигматку, доставлялась с Поморья
семужная и иная красная рыба, которая шла далее водою и сухопутьем к охотным и рыбным
рядам в столицах. И здесь же, в верфи, выгорецкие плаватели строили свои онежские
1 Поездник – длинный узкий карбас.
2 Ведило – плот с перилами; служит для сплава смолы в бочках и дров
3 Сойма – парусное одномачтовое судно, раза в полтора-два больше шнеки.
галиоты и всякие мелкие суда, покрывавшие весь берег в этом месте.
Не успели беглецы сгрузиться в Пигматской пристани, а Семен Пафнутьич поправить на
голове шляпу, захлобучившую ему уши и глаза, как среди прочего набежавшего люда они
заметили вёсельщика Митю, который уже проталкивался к ним сквозь тесно обступившую
их толпу.
У безусого прошлым летом парня теперь появился пух на подбородке, и малый говорил
петухом, выкукарекивая слова то дискантом, то басом.
– А где ж медведь? Савка? – кукарекнул он как можно тише на ухо Степану.
Но Семен Пафнутьич так цыкнул на парня, что тот скоренько юркнул в толпу, а у самого
Семена Пафнутьича, тряхнувшего при этом головою, снова наползла на глаза шляпа.
Семен Пафнутьич пошел к гостинице, которая помещалась в трехъярусной избе на
зеленом пригорке, а за выгорецким трудником шли беруны и валил народ. Весельщик Митя
плелся позади и никак не мог понять, куда же все-таки девался ошкуй и как же теперь Степан
без ошкуя. На крыльце Семен Пафнутьич, пропустив в дверь берунов, выискал в толпе Митю
и позвал его в избу. И здесь, дав малому рыбник, стал за трапезою чинить ему допрос.
Митя пихал себе в рот куски рыбника и, когда проглотил последний кусок, стал
выкукарекивать Семену Пафнутьичу выгорецкие новости. Сидит-де теперь Никодим
Родионыч в Суме, лодью на Новую Землю снаряжает. И послал Никодим Митю из Сумы за
якорем. И сказал: «Как поедешь за якорем, то забеги в Лексу и скажи там, что в пятницу
буду». А в Данилове в кузнице сделан им якорь новый, тяжелый. А у Никодима Родионыча в
лодейном покойчике стоит теперь чайник медный, невесть отколь взялся...
Семен Пафнутьич снова цыкнул на Митю и стал гнать его из горницы, но малый не хотел
уходить и все льнул к Степану, изворачиваясь так, чтобы миновать рук Семена Пафнутьича.
Тогда Семен Пафнутьич сунул ему ещё один рыбник. И пока парень запихивал тесто с
начинкой себе в рот, стараясь не обронить ни крошки, Семен Пафнутьич вытолкал его в сени
и запер дверь на крючок.
XXV. БЕГЛЕЦЫ ПРИЕЗЖАЮТ В ЛЕКСУ
Ранний рассвет чуть занимался над безлюдной еще Пигматской пристанью И было ещё
влажно на заре, когда Семен Пафнутьич вышел босой, в одних портках на крыльцо и
весельщик Митя стал запрягать лошадей в две телеги, которые он выкатил из-под навеса,
распугав там кур, очумевших от столь рановременного разгона. Лошади – то ли от этакой
рани, то ли от Митиной глупости – никак не становились в оглобли, входя туда передними
ногами, выходя тем временем задними и вертясь на месте. Семен Пафнутьич ругнул Митю
обалдуем и пошел сам запрягать буланую, пока Митя топтался с гнедой.
Беруны тоже встали и посреди двора, у водовозной бочки, плескали водою в заспанные
рожи. Они все поднялись до поры, чтобы в Лексе застать Никодима. Он обещался быть там в
пятницу, а ныне уже суббота вставала над миром. И две телеги шибко покатили по той же
дороге, по которой накануне Митя-весельщик проскакал воробьем. Парень ещё в Пигматке
норовил устроиться в одной телеге со Степаном, и это удалось ему, пока Семен Пафнутьич
лез к Тимофеичу, путаясь в своем необъятном, с чужого плеча, армяке. Митя был счастлив и
кукарекал всю дорогу. Степан тыкал его пальцем в брюхо, и смешливый Митя, боявшийся
щекотки, даже всхлипывал от возбуждения и начинал икать.
Заря на первых порах подрумянила придорожный сосняк, потом позолотила околицу в
Лексе и стала гнать горячие потоки ярого света вдоль улицы, по которой резвой рысью
бежали пигматские лошади, чуявшие стойло и сладкий овес, полною мерою засыпанный в
корыто. Мелкая пыль, поднятая колесами, шла вверх к белому дыму, реявшему над хлебной и
поварней. Плотники, медники, сапожники – каждый на свой лад – выстукивали молотками по
своим закутам. С крыльца счетной избы перегнулся за перильца Никодим, и острый его глаз
из-под косматой брови не мог объяснить ему, что это валит к ним за чучело в закрывшей всё
лицо шляпе. Уж не новая ли комиссия жалует опять из Петербурга, хотя от последней они
отделались только в прошлом году, и немалыми деньгами?
Но это была не комиссия, и никто пока не зарился на полновесные выгорецкие рубли.
Телеги остановились у крыльца, и когда чучело слезло с воза и сняло с головы посеревшую
от пыли поярковую шляпу, то это оказалось и не чучело вовсе, а Семен Пафнутьич, старший
трудник, стоял, как живой, перед Никодимом. А за ним с воза лез – ну, кто бы мог подумать!
– Алексей Тимофеич, старый берун, вывезенный прошлым летом с пропащего острова им же,
Никодимом. И другие два тоже соскочили с телеги, и все они обступили Никодима и
пожимали ему руки, и правую и левую, кто за какую ухватит.
– Никодим Родионыч!.. Миленький!.. Голубчик!..
И старый Тимофеич целовал Никодима и в губы, и в щеки, и в плечико, и в бороду.
– Медведя нету! Не приехал медведь. Не привезли!.. – кукарекнул на всю улицу
вислоухий Митя.
Но Семен Пафнутьич даже не цыкнул, а только поглядел на Митю, но так, что малый
шарахнулся от него, пролез под брюхом лошади и притаился за телегой, пока Семен
Пафнутьич с Тимофеичем объясняли Никодиму, что все они четверо в бегах, и как такой
случай с ними вышел, и как из такого, можно сказать, ада каждого из них вынесло целым,
живым и невредимым.
Никодим сочувственно качал головой, трепал беглецов по плечу, ответно улыбался
Тимофеичу и соображал что-то про себя. Потом все пятеро пошли в избу, а Митя остался на