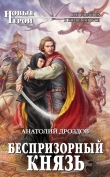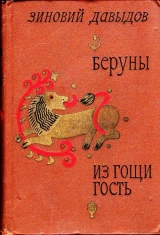
Текст книги "Беруны. Из Гощи гость"
Автор книги: Зиновий Давыдов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 39 страниц)
заставил Ванюшку и Степана сбросить с себя изодранное беруново одеяние, потому что
берунами на Мезени уже стали пугать детей. Стоило только Ванюшке или Степану, кому-
нибудь из берунов, показаться на улице в песцах и лисицах, как ребятишки бросались
врассыпную, забыв и бабки и недоигранный кон.
У городских рядов сунулась как-то к Тимофеичу вылинявшая бабенка за приворотным
зельем1; другая пристала к нему на базаре с петухом, в которого, по её словам, вселился бес.
Тимофеич наскоро пожевал губами, изругал и ту и другую, рассерженный вернулся к себе в
житницу и молча залез там на нары.
Уже к лету, когда оттаяла земля, прошел по реке лед и надо было приниматься за какое-
нибудь дело, к ним во двор стал ломиться солдат с тем самым распухшим мужиком, который
тяжелым своим взглядом провожал Степана в его прогулках на новые огороды. Солдат,
бывший в полной амуниции, осмотрел всех троих берунов вместе со всем их барахлишком,
сунулся было к Савке в дровяной амбарчик, но показал ли ему ошкуй зубы, или выставил
когти, а только солдат резво выскочил наружу, присел на бревнышко и отпил из болтавшейся
у него на ремне фляги.
Заткнув бережно флягу и смахнув с неё обшлагом приставшую пыльцу, солдат объявил,
что он человек казенный, едет с царицыным указом, что велено берунам живо собираться и
как можно скорее ехать в беруновом одеянии вместе с медведем в царскую столицу, в некий
немалый городец, о коем, должно быть, и они, беруны, наслышаны довольно. И что на этом
им весь сказ его, Терентия Недельки, её величества рядового.
Тимофеич, заслышав про её величество, заметался туда-сюда, Степан и Ванюшка
остались, по той же причине, стоять посреди двора с разинутыми ртами, а потом все трое
бросились в житницу собирать пожитки и вязать узлы.
VI. НЕИССЯКАЕМАЯ ФЛЯГА
И пошли: за Мезенью Архангельск, за Архангельском Холмогоры, за Холмогорами
каргопольские леса. Малиновыми колокольчиками раскатывался тракт по проселкам и
почтовым станциям, через реки – по валким паромам, через овраги – по трясучим мостам.
Степан с Ванюшкой ехали на передней подводе; за ними на отдельной телеге помещался
Савка в железной клетке, которую на скорую руку смастерил для него мезенский кузнец; а
позади тряслись Алексей Тимофеич Хилков и рядовой её величества Терентий Неделька.
Терентий Неделька сам установил такой порядок путешествия берунов из своей Мезени
в столичный город Санкт-Петербург. Он боялся, как бы кто из них не сбежал и не попасть бы
ему, Терентию Недельке, на расправу в Тайную канцелярию2 по такому делу. Он и на
ночлегах по нескольку раз принимался ночью пересчитывать берунов и наведывался даже на
1 Приворотное зелье – по мнению невежественных людей, снадобье, обладающее якобы силой «приворотить»
одного человека к другому, то есть заставить полюбить.
2 В ведении Тайной канцелярии находились особо важные дела: о преступлениях против государства и власти.
конюшню к медведю. Но медведь сопел, высунув язык, а беруны храпели как ни в чем не
бывало.
Всё же солдат знал, что за ними за всеми нужен глаз да глаз, потому что Россия была
полна тогда дезертиров и бегунов. И солдат поглядывал за берунами, но не забывал и своей
фляги, которая была подвешена у него на ремне сбоку. Флягу эту он вывез из турецкого
похода, и она отличалась тем чудодейственным свойством, что никогда не иссякала, – потому
что, как только солдат замечал, что фляга оскудевает, он останавливал весь обоз и забегал в
первый же кабак, которых было по дороге довольно. Там он требовал наполнения турецкой
фляги, объявляя, что за вино не платит, так как человек он казенный и едет с царицыным
указом. Кабатчики наполняли флягу и, когда подводы снова отваливали от порога, слали
солдату вдогонку зычные пожелания скорейшей кончины.
Чем дальше путники подвигались на юг, тем сильнее заедали их комары, и в такой же
мере увеличивалась забота Терентия Недельки о его неиссякаемой фляге. Однажды, когда
душный день еле заметно пошел на убыль, Терентий Неделька обнаружил, что
чудодейственная фляга иссякла. От такого огорчения он стал ругать и себя, и флягу, и
берунов, и даже царицу Елисавету, по милости которой он оказался в таких дураках, вместо
того чтобы прохлаждаться теперь в столице, в каком-нибудь питейном доме. Заподозрив
Тимофеича в том, что он будто бы своим беруновым волшебством испортил турецкую флягу,
рядовой её величества Терентий Неделька стал с пьяных глаз чинить Тимофеичу нелепый
допрос: по какой, дескать, такой причине они, беруны, до сих пор держат у себя за ледяною
стеною царя Иоанна1, у которого царица насильством отняла корону.
Тимофеич пшикал на солдата и затыкал ему рот руками, но солдат не унимался, на чём
свет стоит ругал царицу и кричал, что нет ещё царю Иоанну настоящей подмоги и не
приспело время, а когда приспеет время, то царь Иоанн всё равно уйдет от берунов и повелит
рубить головы им и прочим царицыным слугам, не пощадившим его младенческой колыбели;
что надо было ему, солдату, ещё в Холмогорах податься царю Иоанну на подмогу, да, вишь,
так, с бухты-барахты, не пересигнуть через стену ледяную простому человеку.
Солдат бы ещё долго продолжал свои озорные речи, если бы за поворотом не приметил
на пригорке новый кабак с прибитой над дверьми дощечкой, где царский орел казал языки на
обе стороны дороги всем прохожим и проезжим, куда бы они ни держали путь свой. Солдат
соскочил наземь, живо обернулся, и, когда снова зарылся в сено, оказалось, что его турецкая
фляга опять обрела свою чудодейственную силу.
VII. БЕРУНЫ ВЪЕЗЖАЮТ В ПЕТЕРБУРГ
Степан пытался заводить разговоры с ямщиками, расспрашивая их, не проезжал ли здесь
и в какую сторону архитекторский сержант Михайло Неелов и при нем женщина, Настасья
Петровна. Но ямщики отвечали, что ездит здесь всякий народ, и сержанты и другие, и с ними
бывают женщины, и Настасья Петровна и какая-нибудь Анна Сидоровна, а проезжал ли
такой Михайло Неелов, этого они, ямщики, не знают. Проезжал в прошлом году по тракту
какой-то копченый; кажется, Михаилом Нееловым был прописан в подорожной или
Федосеем Мацуевым?.. Нет, кажется, Федосей Мацуев. И женщина при нем действительно
была – может быть, и Настасья Петровна.
– И-эх, завейся веревочкой!.. – кричал ямщик и стегал веревочным кнутишком исчахлых
своих лошаденок, которые на ходу клевали мордами так же, как сам ямщик носом.
И так вот миновали они Вытегру и Лодейнопольскую верфь, на плоту переправились
через реку Сясь, подъехали к новой Ладоге, но в Шлиссельбурге с солдатом снова случилась
неприятность, потому что шлиссельбургские кабатчики, точно сговорившись, отказывались
подлить винца в неиссякаемую флягу. Они не обращали никакого внимания на то, что он,
Терентий Неделька, человек казенный и едет по царицыному указу. Один из них даже
пригрозил ему Тайной канцелярией, где с него, солдата, сыщется за такие воровские его
1 Император Иоанн Антонович. Ему не было от роду и полутора лет, когда Елисавета, в 1740 году, свергла его с
престола. Иоанн Антонович долгое время содержался потом в одиночном заключении на севере, в городе
Холмогорах.
увертки. Другой кабатчик потребовал предъявления царицыного указа, и, когда Неделька
вынул из сумы бумагу, кабатчик долго вертел её в руках, разглядывал на свет и читал её и с
начала, и с конца, и с середины. Он, однако, убедился наконец в том, что Елисавета I,
императрица и самодержица всероссийская, узнав, что на Мезени появились какие-то
удивительные беруны с ученым белым медведем, требует для царской своей забавы этих
берунов к себе, в беруновом их платье и вместе с медведем.
Но кабатчик этот был, должно быть, тертый калач – наверно, и сам во всевозможных
указах дока. Он совсем было хотел уже крикнуть своему помощнику, чтобы тот нацедил вина
Недельке, но спохватился и объявил, что в бумаге есть про медведя, но ничего не сказано про
турецкую флягу; да притом дана бумага не Недельке вовсе, а Петру Ивановичу Шувалову,
графу. Кабатчик до того разошелся, что даже объявил бумагу не подлинником, а только
копией, и что-де копии не может быть полной веры. И сколько ни грозился и ни плевался
Неделька, ничто не помогало: кабатчик повернулся к нему спиною и стал безо всякой
надобности переставлять бутылки и кружки на полке.
Терентий Неделька вовсе пал духом и с тяжелым сердцем тронулся дальше.
Но дальше дело неожиданно пошло лучше: в мызе Устье турецкая фляга стала вновь
источать крепкий напиток, который не иссякал уже ни у мызы Пелы, ни у мызы Вяземского и
до самой Невской лавры, когда они покатили леском по прямой, как стрела, дороге и единым
махом докатили до речки Фонтанки. Но здесь им вышла остановка.
Навстречу по вновь перестроенному Аничкову мосту беспрерывной чередой двигались к
лавре одноколки, таратайки, расцвеченные кареты, запряженные цугом, с выездными
лакеями на запятках. А впереди, на узком мосту, воз с сеном, сковырнувшийся набок,
загородил дорогу. Сломанное колесо валялось подле, конные солдаты гарцевали около и
барабанили палками по вознице, который, в свою очередь, молотил кнутовищем по своей
рвавшейся из упряжки лошадке. Народ стал толпами сбегаться к мосту, прослышав, что
поймали каких-то берунов и будто бы сейчас в клетках будут спускать их в Фонтанку. Но
беруны оказались на вид обыкновенными мужиками, потому что Тимофеич ещё в Мезени
наотрез отказался ехать в беруновом платье и не хотел облекаться в это одеяние и у мызы
Вяземского, перед въездом в столицу. Достойным внимания напиравшего народа оказался
один лишь ошкуй, стоявший на задних лапах в клетке, ухватившись передними за железные
прутья. Он с любопытством глядел на сверкавшую под солнцем речку, на баб, усердно
колотивших вальками, на перепуганного суматохой теленка, который, задрав хвост, несся по
ещё топкому тогда берегу, заваленному конским навозом и всякою дрянью.
Тимофеич тоже воззрился было на каменные палаты, высившиеся на противоположном
берегу, потому что подобных видывать ему раньше не приходилось. Уж не живет ли в этих
палатах царица? Но Терентий Неделька пояснил, что живет здесь не царица, а граф Алексей
Григорьевич Разумовский, царицын любимчик. Тимофеич хотел спросить солдата ещё о чем-
то, но столпившиеся вокруг телеги люди стали дергать старика за что попало, и один какой-
то, в рваном полукафтане, норовил даже потянуть его за мохнатую бороду, в которой застряла
солома. К счастью, тут грянула музыка – гвардия проходила по мосту, – и толпа загляделась
на золотые короны, жарко горевшие на холодном серебре полковых барабанов. За
флейтщиками в красных кафтанах ехал на дорогом коне вельможа в алмазах и самоцветном
каменье, и Терентий Неделька пояснил Тимофеичу, что это и есть Петр Иванович Шувалов,
граф, откупивший у царицы, в числе прочего, и северный промысел на зверя и рыбу. Толпа,
завидев графа, уже и вовсе оставила берунов и забыла даже про ошкуя.
В народе говорили, что едет обирала Шувалов в Невскую лавру табаком обсыпаться,
намекая на то, что и табак взял он на откуп у государства и теперь только один может
торговать им, назначая за товар какую вздумается цену.
– А после обсыплется солью, – утверждали другие.
– Моржовым салом будет помазан...
– Трескою причастится...
– Медяками разговеется...
– Вор...
– Мошенничек...
– Чертушко...
Гремела музыка, под всадником играла лошадь, пучил глаза вельможа Шувалов,
которому казалось, что народ приветствует его своим криком. Рукою, затянутою в замшу, он
слал ответные приветствия народу, стоявшему шпалерами по обочинам дороги и
продолжавшему всё так же честить графа, пользуясь оглушительной пальбой из ружей и
пушек, которая началась за рекою.
– Подох бы ты скорее! – орал во всю мочь детина, взобравшийся на кучу щебня.
– Курицын сын... – шамкнул возившийся со своей берестяной табакеркою старичок.
И выстрелы один за другим били вверх, белым дымом расходясь вокруг
Петропавловской колокольни, в белое облако облекая медного ангела, несущего крест.
VIII. КАК РАЗВЛЕКАЛИСЬ ВЕЛЬМОЖИ И ГЕРЦОГИНИ
В Петербурге, на зверовом дворе, куда были доставлены вместе со своим медведем
Савкой привезенные из Мезени беруны, шла подготовка к очередной придворной потехе.
Площадь около лисьего загона была расчищена, лисятникам были выданы новые зеленые
кафтаны, а берунам приказано было уже с утра нарядиться в беруново платье и быть начеку.
Накануне профессора Академии наук чинили берунам допрос. Они подъехали в желтой
академической карете прямо к медвежьему острогу1 и здесь, набивши табаком носы, стали
допытываться, сколько туда ходу, до Малого Беруна, и что там произрастает, и какой там
водится зверь. Один, очкастый, всё выпытывал насчет солнца: когда оно там восходит, как
заходит, когда пропадает совсем... Тимофеич показывал всё, что знал, но очкастый был
немец, и понять Тимофеича ему было трудно. Он сердился, ругал Тимофеича свиньею, хотя
тот показывал сущую правду.
– Я же говорю тебе, милый, – силился Тимофеич заглянуть своему допытчику под
медные очки, прямо в рачьи его глаза. – Спроси хоть Ванюху: дитя чистое врать те не станет.
Но с Ванюхой в это время бился другой, в парике, который буклями спадал ему на плечи.
Этот не мог простить Ванюхе того, что парень на острове не помер, когда по всем книгам
помереть ему там полагалось. Ванюха виновато улыбался, сам понимая, что оплошал и тем
огорчил такого важного господина.
На Степана насели двое других. Они развернули географические карты и потребовали,
чтобы Степан в точности показал им, где именно изловил он своего ошкуя. Но Степан хотя и
выучил ошкуя разным штукам, но, как на грех, ничего не понимал в географических картах.
Чтобы не обидеть ученых господ, приехавших на зверовой двор в похожей на издохшего кита
карете, Степан ткнул пальцем в карту, после чего профессора, сворачивая свои бумаги,
называли Степана дураком и невежей. Все четверо снова нюхали табак, потчуя друг друга,
потом смотрели на Савку, который с разгону бултыхался в пруд посреди острога.
Наглядевшись на Савкины игры, профессора сели в свою карету и покатили с зверового
двора на Васильевский остров.
День, назначенный для гулянья, выдался погожий, и берунам было жарко в их беруновом
платье. Кроме того, им было не по себе в остроге, где им приказано было смирно сидеть на
самом виду, чтобы сквозь окошки в частоколе было видно, каковы они, беруны, на самом
деле. Но, кроме берунов, на зверовом дворе находились еще хивинцы и другие азиатские
люди, которые ходили около слонов, и этим было холодно в их уборах, как холодно было и
самим слонам, выгнанным на двор из теплых амбаров. Кашляли в клетках обезьяны, и
мелкая дрожь пробегала по страусу, неподвижно стоявшему за высоким тыном. И только по
дрожи этой можно было догадаться, что стоит там великолепная птица, а не просто статуя из
числа многих у итальянского фонтана.
К полудню вельможи стали съезжаться на двор, и впереди карет, опираясь на трости,
бежали арапы-скороходы, скакавшие так резво, что под стать и самому Ванюшке, когда он на
Малом Беруне молодым оленем прядал через водороины и утесы. Барыни и разные
герцогини выходили из карет, и плыли они по двору, шелестя шелками, как ветер в лесу
1 Острогом в старину называлось укрепленное и огороженное частоколом место.
шелестит опадающею листвою. Они останавливались у медвежьего острога, чтобы сквозь
окошки посмотреть на берунов и на Савку, потом шли к слоновым амбарам, где их встречал
дрессировщик слонов, персиянин Асатий.
На площади против лисьего загона уже начиналась жестокая потеха. Там на земле была
разостлана сеть, и края этой сети держали в руках приглашенные гости – кавалеры и дамы. И
когда лисичка, выпущенная из загона, проносилась мимо плетней и рогаток и попадала на
сеть, праздные люди, не останавливающиеся ни перед чем, чтобы себя распотешить, сразу
натягивали сеть туго. Зверь взлетал высоко, потом падал обратно и снова с натянутой сети
летел в высоту, как горящая солома, взвихренная ветром. И так до тех пор, пока не иссякала в
человеческом сердце ярость и живая лисица не превращалась в красный бездыханный комок.
Тогда за края сети хватались другие, и новый зверь, обреченный на смерть, мчался из загона
прямо в поставленную для него ловушку под трубы егерей1, трещотки лисятников и
улюлюканье мужиков, согнанных для этого из соседних деревень и оторванных от работы в
горячую летнюю пору.
Игра длилась долго, пока не были затравлены все лисицы. Тогда вельможи и герцогини
поплыли обратно к своим каретам, не глядя на слонов и не поинтересовавшись даже
берунами и Савкой. И когда к вечеру отперли медвежий острог и выпустили оттуда берунов,
персиянин Асатий, почмокав губами и вздохнув глубоко, шепнул Тимофеичу, что на них
сквозь окошко в частоколе смотрела сегодня царица. А им и невдомек было. Они просидели
весь день за своим частоколом в берунских песцах, в дурацком своём одеянии.
IX. СЛОНЫ, ОБЕЗЬЯНЫ И СТРАННАЯ ПТИЦА ГУКУК
Когда солнце начинало клониться к закату и шел на убыль долгий день, беруны шли на
Фонтанку смотреть, как Асатий купает слонов. Персияне и хивинцы, подручные
слоновщики, вместе с Асатием отпирали амбары и криком, с битьем в тулумбасы2, понукали
слонов, одного за другим загоняя их в воду. Слоны были покорны этому страшному крику, и
только сердитые слоны не слушались хивинцев и персиян. Их было двое – слон и слониха;
сладить с ними мог один лишь Асатий. Он не кричал и не бил их железным прутом.
Дрессировщик терся у них меж ногами и что-то шептал им по-персидски. Асатий хорошо
знал своё дело, и его ценила даже царица. Он и лечить слонов был мастер, давая заболевшим
слонам ревень с чилибухой3.
Кричали хивинцы, и слоны напоминали Тимофеичу китов, когда пускали вверх фонтаны
воды. К речке начинал сбегаться народ; из пивоварни напротив выползала всякая мелкая
шушера; даже из пригорода торопились на речку солдаты. Они смеялись над Асатием,
поносили его и швыряли в слонов чем попало. Глупцы и охальники кричали, что от слонов
будто все беды: и язвы, и голод, и мор; что это шах Надир нарочито на русскую землю
насылает слонов и персиянин Асатий – ему первый помощник.
Тимофеичу трудно было стерпеть это, и он кричал на тот берег, чтобы добрые люди не
швыряли каменьем, потому что слоны, осердясь, натворят им бед. Тогда и его принимались
там ругать на все корки: будто он, Тимофеич, и берун, и колдун, и медведь-оборотень и что,
попадись он им в руки, они спустят с него берунскую шкуру.
Зверовые дворы огорожены были высокой стеной, и простой народ туда не пускали. На
площадях и толкучих рынках рассказывали всякие небылицы о персиянах-слоновщиках и
разном зверье, неведомо для чего в таком большом количестве свезенном в столицу.
Особенно сильное впечатление производили в то время обезьяны, столь похожие на
человека. Об этих шустрых зверьках невежественные люди рассказывали всякие басни. Что
будто бы у обезьян есть король, и короля этого вместе со всей его свитой полонил в
индийских горах шах персидский Надир. Он и переслал обезьян царице в зверовые дворы. А
у себя, в индийских горах, живут обезьяны большими стадами. И если кто их обижает, то они
жалуются своему королю, и тогда обезьяний король высылает на обидчиков рать. А рать эта
1 Егерь – охотник, стрелок.
2 Тулумбас – небольшой бубен.
3 Ревень и чилибуха – лекарственные травы.
велика. Она штурмом берет город, и тут уж пощады не жди. Есть даже у обезьян свой особый
язык, и научиться их наречию нельзя человеку. А кто узнает хоть слово, того якобы
обезьяний король убивает.
Но пострашней обезьян есть, говорили, на зверовом дворе какая-то небольшая птичка из
той же Индийской земли, и зовется та птичка гукук. Черна, как ворона, а хвост, как у павы, и
если сядет на чью-нибудь кровлю, то в том доме будто бы человек умирает. Живет эта птица
на зверовом дворе на свободе, а по ночам летает над городом и кричит: «Гукук! Гукук!» И
невозможно взять эту птицу ни в силья, ни пулей.
X. ОКРИВЕВШИЙ СОЛДАТ, ДОБИВАЮЩИЙСЯ ОТСТАВКИ
Асатий, когда кончал купать слонов, то тем же порядком, с криками и битьем в
тулумбасы, подгонял их обратно к слоновым амбарам. Здесь, прежде чем загнать их в стойла,
он потчевал их водкой, которую слоновщики лили ведрами в большую куфу1.
Водки на слоновом дворе полон был погреб, потому что Асатий поил слонов водкой в
жаркие дни только после купанья. Остальную же водку выпивали сами слоновщики. Асатий
тоже не брезговал водкой. Он и берунам лил в ковшик; те пили винцо и хвалили, потому что
водка была хоть и с пригарью, но крепка и даже слонов пробирала. Слоны, напившись водки,
шли в стойла, пошатываясь, и там, подкрепившись сарачинским пшеном2, засыпали. Тогда и
слоновщики уходили в свои закуты, а Асатий сидел с Тимофеичем подле куфы до вечерней
звезды.
Тимофеич расспрашивал Асатия про Индийскую землю, родину слонов, о которой читал
ему Никодим из большой тетради на выгорецкой лодье. В том далеком краю правит султан, и
земля та богата, и бояре сильны и кичливы, а народ там беден и ходит нагой. И когда султан
выезжает на потеху, то развевает черные знамена с драконами золотыми; никто не может
развевать таких знамен, кроме султана. И едут тогда вместе с султаном его мать, и жена, и
министры, пятьдесят слонов в суконных попонах, лютые звери на двойных цепях и
множество женщин с водой для питья и обмыванья. А позади султанова балдахина идет
бешеный слон с железною цепью во рту, идет и сбивает коней и людей, чтобы кто из них не
приступил близко к султану, потому что султан, как и в других странах цари, день и ночь
трепещет за свою жизнь.
Но Асатий не мог того рассказать Тимофеичу про Индийскую землю, хоть был он и
главный слоновщик. Он в той земле не бывал и делу своему научился в детстве у себя же на
родине, в Персии. Асатий больше вздыхал, молчал и молча, как кофе, тянул свою водку. А с
вечерней звездой отправлялся к себе. И беруны шли к себе в чулан при медвежьем остроге.
Тогда из дальнего домика выходил кривой солдат Евмен Марадуй, участник боев при
Бендерах и Хотине, где в войну 1739 года сшиблись армии турецкого султана и русской
императрицы. Солдат глядел теперь только единственным глазом, но помнил ад, когда горела
земля, и дым, который пускали турки по подожженной степи. Слепотою, удушьем и
смертельною жаждою отравлен был Измайловский батальон, шедший вперед по горячей
золе. Евмен Марадуй вернулся в Петербург с ожогами на ногах и помутневшим от дыма и
копоти глазом. И тогда же, ещё при жизни императрицы Анны, был он приставлен к
отхожему домику на зверовом дворе. Окривевший солдат стал проситься обратно на родину,
на Украину, и всё ждал, что выйдет ему чистая отставка. Но умерла императрица Анна,
отцарствовал младенец Иоанн, и ныне Елисавета Петровна восседает на царском престоле, а
солдату никак не вернуться в родную сторонку.
Евмен Марадуй и в ночное время меж загонов и клеток дорогу к куфе находил без
ошибки, хоть был он крив и глядел на свет одним только глазом. Солдат, столько лет
понапрасну прождавший отставки, добирался до куфы, черпал ковшиком водку и лил её
внутрь, запрокинув голову и не глотая. И кривой его глаз был мутен и светел, как белые ночи,
к которым за весь солдатский свой век не мог привыкнуть Евмен Марадуй. Они проходили в
бессоннице, в костоломе, в тяжелом духе отхожего места, к которому с давних лет был
1 Куфа – бочка, кадь.
2 Сарачинское пшено – рис.
приставлен солдат, желавший вернуться к городу Чигирину, в родную свою деревню. И когда
ковшиком зачерпнуть из куфы уже было невозможно, пьяный солдат разувался и лез в куфу и
там по-собачьи лакал остававшуюся на дне водку. Солдату становилось после этого весело в
куфе, он валился там набок и затягивал хрипло:
Ой, не плачьте, не журитесь,
В тугу не вдавайтесь.
И в ответ на солдатово пение поднимался тут гогот, и лай, и шипенье, и кашель, и смех
по клеткам, в загородках, амбарах, теплицах – по всему зверовому двору.
XI. ХИБАРКА В ИНЖЕНЕРНОМ БАТАЛЬОНЕ
И тогда испуганно жалась к плетням женщина, возвращавшаяся в надвинутой на лицо
епанёчке1 по пустынным улицам спящей столицы. Это была жена фаготиста, который дул в
это время на какой-то чухонской свадьбе в трубу. Жена фаготиста перепугалась до смерти,
заслышав многоголосый хор разбуженного пьяным Марадуем зверья. Но звери, прокричав в
белую петербургскую ночь, сразу умолкли, после того как солдат оборвал свою песню.
У Марадуя была теперь другая забота: ему надо было выбраться из куфы, куда он так
неосторожно забрался, и добрести к своему домику за оленьим загоном. Но перелезть через
высокий борт куфы не мог уже пьяный солдат. Он пополз на четвереньках вдоль бортов
куфы, но она была кругла, как кольцо, и похоже было, что сухопутный солдат вписался в
морскую службу и поплыл теперь кругом света, чтобы с другого бока вернуться на прежнее
место. Солдат даром что был крив и давно просил отставки, а шел, видно, на всех парусах и
при добром ветре. Он вмиг сделал с десяток полных концов и, не находя щели, через которую
мог бы выбраться на вольный воздух, стал приставать и сбавил жару. Выбившись наконец
вовсе из сил, он заснул в слоновой куфе крепким сном, густым и темным, как летние ночи на
его солдатской родине, под городом Чигирином.
В тесных своих застенках, стоя, сидя, лежа, опять западало в дремоту полоненное зверье,
взбуженное пьяным солдатовым пением. Спал страус в заклети, и снова прилипла к насесту
индийская птица гукук. Обезьяны, слоны и хивинцы-слоновщики – все спали в закутах;
спали беруны в медвежьем остроге. Казалось, не спал никогда один только заяц. Он дрожал,
как лист на осеннем ветру, и кричал иногда. Плачем подкидыша шел его голос к литейным
дворам, за речку Фонтанку, в белую ночь. И так жалостлив был этот крик, что Настасья, не
ложившаяся в эту ночь, вздрагивала в своей хибарке за третьим литейным двором.
Настасья, бывшая Степанова жена, а ныне жена Михайла Неелова, архитекторского
сержанта, гладила всю ночь бельё медным начищенным утюгом и складывала его в
дорожный сундук вместе с прочим немудрым сержантовым барахлишком. Сержант ещё спал
на козлах за дощатой перегородкой, а Настасья укладывала в сундук его бритвы, и запасный
парик, и банку с мукой, которою пудрил парик свой сержант, отправляясь на службу.
Настасья торопилась с укладкой, потому что на рассвете они выступали вместе со всем
инженерным батальоном, чтобы идти походом в украинскую степь, где сооружалась новая
крепость.
Днем Настасья из-за щепки и тряпки разбранилась с женой батальонного кузнеца,
ядовитой язвой, которая, притихнув после перепалки, стала рассказывать, что на зверовом
дворе обретаются какие-то беруны, колдуны-оборотни, потому что могут они обернуться чем
угодно. И неожиданно кончила тем, что и она-де, Настасья, ведьма того же берунова
племени.
Настасья, не думая ни о чём, прислушивалась к заячьему крику, в котором звенела обида.
Но заяц на рассвете умолк, и тогда же за дощатою стенкою проснулся сержант. Батальонные
конюхи под трели горниста выводили лошадей из конюшен. Настасья укладывала последнее
белье.
XII. ЖЕНА ФАГОТИСТА ПРИХОДИТ НА ЗВЕРОВОЙ ДВОР
1 Епанёчка – короткая безрукавная накидка.
На рассвете притащился домой фаготист Фридрих, продувший где-то на болоте за
Гостиным двором в свой фагот с зари до зари. Фридрих прошел в незапертую калитку мимо
спавшего в будке солдата, по темным лестницам и переходам добрался до своего чердака и
здесь просунутою в дверь щепкою откинул дверной крючок.
Жена фаготиста, испуганная ночным переполохом на зверовом дворе, спала теперь под
стеганым одеялом на своей деревянной некрашеной кровати. Тощий фаготист быстро скинул
с себя свой музыкантский кафтан и всю остальную свою одежонку, обвязал плешивую голову
зеленым платком и, юркнув в свою перину, на навороченную здесь рвань, свернулся в
клубок. И тут фаготист перестал быть фаготистом и наигрывал уже на флейте, выводя носом
такие рулады, какие на фаготе ему никак не давались.
Проснувшийся в клетке дрозд начал ему вторить, так что на два голоса пошла у них
работа. Жена фаготиста оставалась сама по себе. Она храпела густо, контрабасом, и только
мешала дуэту фаготиста с дроздом.
Уже и солнце стояло высоко в небе и било каскадом в покойчик фаготиста сквозь
слуховое окно. Уже и придворные актеры вышли за ворота и всею ватагою пошли по
направлению к Оперному дому вместе со своим капельмейстером Арайей и Варфоломеем
Тарсием, историческим живописцем. Девка Агапегошка прогуливала по двору кота на
веревке. Карлица Аннушка и Наташа грелись на солнышке, глядя, как бегает по выступам и
карнизам ученик кровельного дела Николай Капушкин. И только тогда, когда в двенадцать
часов грянул выстрел с Петропавловской крепости, контрабас умолк, и жена фаготиста
открыла глаза.
Она вспомнила о деле, о котором только вчера говорила с нею царицына чесальщица
Материна, не угодившая как-то императрице и попавшая в немилость. Материне надо было
вернуть себе прежнее расположение царицы, и глупая баба решила прибегнуть к волшебству.
Помочь ей в этом согласилась жена фаготиста.
Жена фаготиста, как только проснулась, вскочила с кровати и босиком подбежала к
рукомойнику, где совершила свой незатейливый туалет. Потом завязала в платок бутылицу
гданской водки, калач и денег полтину и пошла со двора, оставив фаготиста доигрывать
последние рулады вместе с не перестававшим ему вторить дроздом.
С узелком под той же епанёчкой дошла жена фаготиста до канала, перебежала мостки и
не без опаски открыла калитку зверового двора. Сторожу в зеленом кафтане она сказала, что
идет к садовнику Ягану Антонию, и её пропустили без разговоров.
Жена фаготиста, не глядя на клетки и ящики с разным зверьем, вышла к медвежьему
острогу и здесь сквозь решетку заглянула в окошко.
В пруду в рыжей воде играл Савка. Чернобородый копченый детина в суконной фуражке
сидел под навесом и швырял медведю какую-то снедь, которую тот подхватывал на лету,
выскакивая из воды до половины. Солнце заливало весь пруд и отблёскивало на мокрой
серебряной шерсти ошкуя.
Женщина с узелком под короткой епанёчкой раза два кашлянула; Степан обернулся, и она
позвала его пальцем, на котором алел альмандин1.
Степан подошел. Жена фаготиста отломила кусок калача и сунула сквозь оконную
решетку Степану.
– Дай медведку.
Степан швырнул медвежий гостинец в пруд, и Савка, щелкнув зубами, стал весело
чавкать.
– Скушай, Петруша, и ты кусочек.
– Я не Петруша, – заметил Степан, заправив калач за обе щеки.
– Ну, а как тебя кличут?
– Степан.
– Стефан? – обрадовалась женщина. – У меня брат был тоже Стефан.
– Вишь ты! – удивился Степан. – Так что ж он?