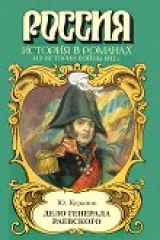
Текст книги "Дело генерала Раевского"
Автор книги: Юрий Куранов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 39 страниц)
8
«Пушкин пришёл вчера же к вечеру...» – начал чтение Олег, усевшись за стол, как это делал в житнице.
А Наташа, как всегда, устроилась над стопкой мелко испечатанных пишущей машинкой листов.
«В высокой комнате с окнами на Мойку стоял предвечерний зимний полусвет...»
Олег, собравшийся было уже читать, отложил лист в сторону и обратился ко мне как бы с заявлением:
– В чём, собственно говоря, смысл подвига Марии Николаевны Волконской? Софья Алексеевна, мать её, и брат Александр, казалось бы столь вольнолюбивый, и даже Николай Николаевич-младший осуждали её. Они считали, что, с одной стороны, нельзя оставлять младенца Николино, а с другой – столь резко выходить из круга своего сословия. Отец поддерживал именно первенство долга – материнство. Упрекал её даже в отсутствии смирения... Раевский-старший считал этот аргумент иезуитством. Тем более что многие полагали, будто любви у неё к Волконскому не было, за которого своей волей отдал её отец без обсуждения. Я считаю, что на такой поступок способна лишь натура, способная воплотить в сложившихся условиях высочайшую форму христианского подвижничества. В эпоху, когда уже всюду стало складываться, по сути дела, отношение женщины к мужу даже не языческое, а паразитическое: муж должен работать, служить, содержать жену, а она имеет право жить, окружённая прислугой и гувернантками. В Марии Раевской мы видим абсолютно обратное. Она отвергает весь мир сложившегося женского эгоизма и добровольно разделяет судьбу подпавшего под кару закона своего супруга. Это глубоко христианский поступок. Не зря их потом похоронили вместе в имении Волконского под Черниговом в селении Воронки. Там они захоронены рядом, а над ними их дочерью возведена часовня. Ну ладно, я отвлёкся, – сказал Олег, взял оставленный было лист и продолжал: – «...стоял предвечерний зимний полусвет. В нём угрюмость домов и каналов Петербурга кажется наполненной какой-то таинственной печалью, которая разлита повсюду и носит в себе отзвук вселенской неустроенности человека внутри самого себя. Раевский устал от месячного ожидания встречи с императором. Придворные люди, через которых эта встреча и устраивалась и оттягивалась, все пытались выведать у генерала, о чём он с царём намерен говорить. Всем было ясно, что герой Отечественной войны намерен облегчить участь старшего сына, тоже героя войны. Он опять попал под кокетливую нечистоплотность жены одесского губернатора, дальней родственницы генерала. Но предполагалось, что не только на эту тему собирается беседовать с царём генерал. Огромный военный да и просто жизненный опыт его, безусловно, просит выхода, особенно перед царём, от которого зависит будущее России. С одной стороны, генерал своею мудростью может быть полезен государю, с другой стороны, тог уже показал, что намерен быть абсолютным самодержцем и в подсказках не нуждается. Да и сам Раевский сомневался в полезности своего разговора с Николаем. Он знал, что Николай Первый – обыкновенный военный чиновник средней руки. Да он и не видел сил, на которые можно было бы рассчитывать царю, даже если бы тот захотел ими воспользоваться. Россия неумолимо превращалась в машину неутомимого чиновничества. И что страшно, всем это нравилось. Очень осторожно мысль эту высказал на днях Раевский Пушкину. И тот отзывчиво поддержал её, а вчера вдруг пришёл со стихами.
– Вы помните, мы с вами езживали по югу отечества и вас встречали восторженные ваши почитатели, – сказал Пушкин, – а вы мне все говаривали: «Почитай, почитай им твои стихи, поймут ли они тебя».
– Было, было, – задумчиво согласился Раевский, глядя, как по комнате пробегает уже в который раз фазан, подаренный хозяину дома приезжим из Персии дипломатом. Фазан блистал, как бы весь покрытый чеканкой, и казался алмазным.
– Так вот, – продолжал Пушкин, – я хотел написать вам кое-что и вдруг понял, что всё уже написано: когда мы хаживали вдоль Подкумка вечерами по камням, я подобрал в свою тетрадь прилетевший мне под ноги цветок. И я положил его тогда в тетрадку. И вот на днях его я нашёл... Оно довольно странно в нашей ситуации, это сочинение, но примите его со всею свойственной ему странностью.
И Пушкин с какой-то юношеской грустью в голосе стал читать Раевскому стихотворение. Читал он его, поглядывая в окно:
Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:
Где цвёл? когда? какой весною?
И долго ль цвёл? и сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?
На память нежного ль свиданья,
Или разлуки роковой,
Иль одинокого гулянья
В тиши полей, в тени лесной?
И жив ли тот, и та жива ли?
И ныне где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей невидимый цветок?
Вчера Николай Николаевич ничего не сказал Пушкину по поводу этого стихотворения. Только поклонился ему с благодарной улыбкой. Но сегодня он сказал:
– Вчерашние ваши стихи до глубины души меня тронули, и я почему-то вспомнил Машу.
Теперь Пушкин поклонился, вдруг покраснел и отошёл к окну, задёрнутому наполовину тяжёлой багровой шторой.
– Ия решил вам кое-что показать, – сказал Раевский. – Этот лист губернатор Цейдлер, по распоряжению государя, дал ей подписать, сказав: «Подумайте только об условиях, которые вы должны подписать». Маша подписала их не читая. Это копия.
Пушкин принял лист и, стоя у окна под угасающим светом зари, стал читать. И по мере того как он читал, рука его всё беспомощней дрожала. Пушкин читал сначала про себя, но потом медленно стал произносить строки вслух: «1-е, жена, следуя за своим мужем и продолжая с ним супружескую связь, сделается естественно причастной его судьбе и потеряет прежнее звание, то есть будет уже признаваема не иначе, как женою ссыльнокаторжного, и с тем вместе принимает на себя переносить всё, что такое состояние может иметь тягостного, ибо даже и начальство не в состоянии будет защищать их от ежечасных, могущих быть оскорблений от людей самого развратного, презрительного класса, которые найдут в том как будто некоторое право считать жену государственного преступника, несущую равную с ним участь, себе подобную; оскорбления сии могут быть даже насильственные. Закоренелым злодеям не страшны наказания. 2-е, дети, которые приживутся в Сибири, поступят в казённые заводские крестьяне. 3-е, ни денежных сумм, ни вещей многоценных с собою взять не дозволено; это запрещается существующим правилом и нужно для собственной их безопасности по причине, что сии места населены людьми, готовыми на всякого рода преступления. 4-е, отъездом в Нерчинский край уничтожается право на крепостных людей, с ними прибывших».
Пушкин долго и молча держал перед собою прочитанный лист, глядя в окно на засыпанную снегом, посиневшую Мойку.
– Это богохульное принуждение, – сказал Раевский, – он присваивает право разрушать то, что скреплено Богом на Небесах.
– При венчании, – поддержал Пушкин.
– Нет никаких законов на этот счёт даже на земле, в империи, – сказал раздражённо Раевский.
– На многое из того, что он делает, нет никаких законов. И быть не может. Он хуже Римского Папы, – сказал Пушкин и долго смотрел на Мойку.
Молчание и сумерки сгущались. Фазан сидел уже на спинке португальского стула из чёрного дерева. Он тоже потемнел, но всё ещё мерцал в сумерках.
– Любой отец может гордиться такой дочерью, – сказал Пушкин и посмотрел сквозь окно на небо.
Там длинно растягивалась из-за горизонта освещаемая полоса, которая рассыпчато над Невою растягивалась. Раевский встал из кресла, в котором сидел возле затухающего камина, и подошёл к окну, следя глазами за этой полосой. Он был в блузе чёрного бархата, в которой любил ходить в Болтышке, в своём южном имении.
Пушкин пристально смотрел со стороны на лицо генерала, тускло освещаемое зарей. Потом он еле слышно произнёс!
Редеет облаков летучая гряда...
Он читал далее невесомые сии строки, которые как бы проплывали в воздухе и озаряли смуглое лицо поэта. Дойдя до последней строки, он задержался и посмотрел на исчезающую в небе полосу зари:
И именем своим подругам называла…
Раевский приблизился к Пушкину и обнял его. А тот внезапно прижался к нему, как ребёнок. И до последнего дня запомнились Раевскому слова, которые тихо произнёс к нему поэт:
– Я был бы счастлив, если бы у меня была такая... – он задержался на мгновение и завершил: – такая дочь. И я бы молился за неё до скончания дней моих».
9
К вечеру мы прервались. Поужинали, чуть передохнули. Я подремал в небольшой комнатушке за русской печкой, поставленной почти посредине дома. Эта комнатушка была более похожа на чулан. Там было тепло и уютно, стояла деревянная кровать со стёганым матрасом и с крупно простроченным зелёным одеялом. Вечером поработали во дворе, разгребали чёрное месиво сажи со снегом, оставленное во дворе пожарной машиной. Житницу восстановить, конечно, было ещё можно.
– Её нужно будет сделать теперь немного проще, – сказал Олег.
– Брёвна, доски, стол, скамейка вдоль стены, самые простые табуретки, – сказала Наташа.
– И сделаем большой портрет Раевского в сосновой лакированной раме, – пообещал Олег.
– А кто портрет нарисует? – спросил я.
– Вот кто нарисует, – ткнула Наташа пальцем Олега в грудь, – он всё может. Как ему самому захочется, так и нарисует.
– Сделаю его тушью, – подтвердил Олег, – в духе Павла Филонова.
– А кто такой Павел Филонов? – поинтересовался я.
– Это великий русский художник. Он предсказал в своих работах, какой будет всемирная революция вообще и русская в частности. Есть у него потрясающая работа «Шествие народов». Там идут, надвигаясь на зрителя отовсюду, неисчислимые толпы людей, каждый из которых – что-то среднее между дикарём и машиной.
– Это было потрясающее предсказание будущей культуры, – сказала Наташа.
– А где его работы? – спросил я.
– В Третьяковке и в Русском музее, – сказала Наташа.
– Я что-то их там не видел, – признался я.
– Их прячут в запасниках, чтобы никто не увидел и не догадался, куда нас ведут, – сказал Олег, – и какими станут дети тех, кто нас ведёт.
– А наши дети? – спросил я.
– Наши дети должны быть другими, – сказал Олег.
– И верить в Бога, – добавила Наташа.
– Министерство культуры сейчас готовит решение по уничтожению работ этих, – сказал Олег, – Филонова.
– Чтобы спрятать концы в воду, – сказала Наташа. Она посмотрела на небо, утопающее в сумерках, и добавила: – Пора идти за Латкой.
– А где она?
– Не знаю. От огня и от криков куда-то убежала. Надо искать.
– А где её искать?
– Везде, – сказала Наташа.
– Везде пойдём искать, – сказал Олег. – Кто она без нас? Любой обидит или съест.
– Не любой, но желающих много, – уточнила Наташа.
10
Мы шли холмистыми перелесками вокруг окраин города. Наташа время от времени окликала негромко:
– Латка! Латка!
А Олег продолжал наш разговор:
– Понимаешь, почитали Раевского многие, но понимал, может быть, один только Пушкин. Почему они так и полюбили друг друга. При последнем приезде Раевского Пушкин приходил к нему почти каждый день. Они заводили беседы о судьбах России, поскольку Николай Николаевич собирался к царю. Он готовился высказать свой взгляд на этот счёт. Терять ему было нечего, чувствовал он, что дни его подходят к концу. Больше всего его волновала неразумная завоевательная политика. Он считал, что строить всепожирающую империю не только неразумно, это гибельно для России.
Где-то невдалеке хрустнула ветка.
– Латка! – позвала Наташа.
Олег насторожился. Постоял и продолжил мысль, шагая неторопливо:
– Считал, что идея построения империи сама по себе идея богоборческая. России Бог дал привольные земли, всё на них и в них для жизни есть. И незачем на других посягать. Когда объединяются христиане, это ещё понятно, особенно когда народы эти близки друг другу изначально. Он воевал на Кавказе и был категорически против завоевания всех этих мелких народов, столетиями грабящих друг друга и неспособных воспринять идею высокой государственности. Он считал, что в массе своей с русскими они не сольются никогда. Но отдельные, особо стремящиеся люди духовно и умственно могут по их желанию переходить в нашу веру, в наши культурные очаги. Если хотят, пусть приходят. Но никакого насилия. Не хочешь, как говорится, не надо. Кавказ, конечно, зона для России важная, осуществлять контроль над ней можно через два по-своему великих народа: грузин и армян. Они, как и русские, христиане. Без России персы и турки их перережут. Мы естественные союзники. Посмотрите, как влился в нашу суть князь Пётр Багратион. Раевского с ним соединяла истинная дружба. С Шамилем такая немыслима.
Опять где-то что-то хрустнуло в лесочке. Опять мы все насторожились. Опять позвала в темноте Наташа:
– Латка! Латка!
– Николай Николаевич считал, – продолжил Олег, когда мы двинулись дальше под морозно разгорающимися звёздами, – что нельзя любому народу превышать естественный для него объем чужеродных, несоответствующих ему народностей. Есть этакая этнографически предельная критическая масса иностранцев. Если принять в себя сверх допустимого совершенно неконтактное и, более того, угнетаемое население, взрыв неизбежен. Так погибали все великие империи.
– И будут погибать, – сказала Наташа.
– И будут, – согласился Олег, – это показала и наша Гражданская война, она носила не только классовый характер. Вот об этом Николай Николаевич и хотел предупредить Николая Первого. Он хотел дать императору понимание того, что величие государства не в количестве захваченных земель и озлобленных обитателей их, а в благочестии да благоустроенности его народа.
– Это интересно, – вздохнул я, – жаль, что этого не принимают в расчёт нынешние промышленники Бонна и Парижа.
– Конечно, – поддержал Олег, – узколобые германские промышленники накачивают страну дешёвыми рабочими из Турции, Югославии, которые неизбежно сделаются проблемой в такой богатой стране да и спровоцируют агрессивную молодёжь против всех вообще приезжих.
– Как теперь Америка мечется, не зная, что делать с неграми, которые в наиболее агрессивной части своей никогда не примирятся с белыми, а те никогда не избавятся от ку-клукс-клана, – сказал я. – Во всяком народе всегда есть люди, которым кого-то нужно ненавидеть.
– Обо всём этом Николай Николаевич попытался тогда поговорить с царём, – сказал Олег, выходя с просёлка на хорошо залитую асфальтом, широкую дорогу, которая излучиной огибала небольшой соснячок. А там, за излучиной, горели огни корпусов какого-то завода, из длинных труб которого валили кроваво подсвеченные клубы дыма.
– Он был наивный человек, этот странный генерал, – сказал я.
– Конечно, – согласился Олег, – каждый умный и порядочный человек всегда в какой-то степени ребёнок. Но речь шла о судьбе России. Царь должен был понять, что, если дворянство превратится в таких паразитов и холуёв, как Ростопчин, Кутузов и Пологов, то погибнет оно. Ведь оно уже было народом в народе, который говорил на чужестранном языке и служил чужой культуре. Партизаны из крестьян порой не могли отличить своих от завоевателей. Этот народ в народе всё более становился паразитом. Ведь все свои деньги дворяне проматывали за границей.
Мы вышли на шоссе, по которому изредка проскальзывали машины, всё более – легковые.
– И это ужасно, – сказала Наташа.
На излучине дорога отворачивала резко за лесок, уходя от завода в сторону, по направлению к длинному, до горизонта, сосняку, над которым горели звёзды. Мы шли, чуть отставая друг от друга, шли по краю шоссе навстречу движению, как это и полагается, чтобы не подставиться машине, идущей сзади. Между нами шагала Наташа, негромко покрикивая в сторону леса:
– Латка!.. Латка!..
Олег шагал у самой бровки асфальта, там, где из-под покрытия выступает довольно широкая полоса, усыпанная гравием и уезженная.
– Чем же закончился поход к царю? – спросил я.
– Ты увидишь чем, – пожал плечами Олег, – что касается Александра, то более или менее успешно. Царь в конце концов разрешил ему посещать Москву, а потом поселиться в столице. Там Александр женился, но жена вскоре умерла, оставив ему дочь, которой тот и отдал все силы свои. Уже больше ни с кем не вступал он из женщин в близкие отношения. Под старость он уехал в Ниццу. Там и умер. А чем закончился разговор о России, да и говорил ли о ней Раевский с императором, ты видишь, – Олег провёл рукой вокруг нас всех, – дворян нет, народа фактически нет тоже. Это не народ, это – просто население. Культуры нет ни своей, ни заимствованной. Возродить её некому. Жека и «субъект» ничего построить не в состоянии, даже если захотят... В нашем роду говорят, что, когда Раевский глянул на царя вблизи, он понял, что разговаривать на серьёзные темы с ним бессмысленно...
Вдали от шоссе справа что-то утробно ухнуло в глубине завода, и небо там озарилось багровым зловещим светом. Багровый этот свет кроваво озарил и наши лица.
– Как страшно, – сказала Наташа и добавила: – Где же Латка?
– Трудно сказать, – продолжал Олег, не глядя в сторону завода, – где в жизни закономерности, а где...
Он не успел докончить фразы. Из-за излучины на бешеной скорости вылетела чёрная сверкающая «Волга» и, не сбавляя хода, снесла Олега с асфальта, отшвырнув его далеко в сторону леса.
НА РАССВЕТЕ
1
Отпевал Олега катакомбный священник. Он пришёл ночью. Занавески в доме Наташа плотно задёрнула. Невысокого роста худощавый батюшка появился после зари в телогрейке, ватных стёганых рабочих брюках и в шапке-ушанке. Человек с усталым пожилым лицом, с выцветшими глазами под иссушенными морщинистыми веками, он походил на заключённого. Рыжеватая тощая, но длинная борода его свисала угловато и выглядела смастерённой из рогожи. Голосом глухим и простуженным он, войдя, прославил Пресвятую Троицу и приступил к отпеванию.
Со духи праведных скончавшихся
душу раба Твоего, Спасе, упокой,
сохраняя ю во блаженней жизни...
Свечи неторопливо и успокоительно потрескивали. Мерцание озаряло комнату и спокойное во гробе Олегово лицо, как бы дремотно забывшееся.
Батюшка в облачении выглядел строго и смиренно, просительным голосом возглашал в мерцании свечей:
– Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежды живота вечного преставльшагося раба Твоего брата нашего Олега, и яко благ и человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная; избави его вечные муки и огня геенского, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя...
Наташа стояла спокойно, с какой-то каменной твёрдостью в полотняной бледности лица, и ни одной слезы не было в глазах её. Глаза горели белым светом внутренней неистребимости.
– ...ещё бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимого верова, и единицу во Троице и Троицу во единстве православно даже до последнего своего издыхания исповеда...
Отпевал батюшка долго и старательно, словно трудился на некоей необычайно ему одному доступной стезе.
Время как бы остановилось. И батюшка, и Наташа, и некая старушка в чёрном одеянии, пришедшая со священником, – все мы переселились в совершенно иное пространство и состояние, в котором Олег вовсе не воспринимался как человек исчезнувший или отсутствующий.
– Упокой, Боже, раба Твоего, и учини его в рай, идеже лицы святых, Господи, и праведницы сияют яко светила; усопшего раба Твоего упокой, презирая его вся согрешения...
До рассвета читались и читались псалмы. Батюшка перед рассветом ушёл, а старушка осталась. Уходя, священник сказал, что через три дня будет готова плита на могилу Олега. Есть у него верный и умелый человек. Утром они эту плиту принесут. А старушка читала и читала псалмы при свечах над Олегом, Временами её сменяла Наташа.
2
На третий день мы собрались на кладбище. Как обещал батюшка, туда должны были принести надгробную плиту. Мы с Наташей с рассветом пошли через весь город. Морозец стоял слабый, в воздухе уже чувствовалась весна. Волосы Наташи, выбившиеся из-под ушанки, завязанной над теменем, заметно уже темнели. Я не удивился этому. Олег давно уже объяснил мне странную особенность этой женщины: летом волосы её темнеют, а зимой совершенно светлеют, словно их обесцветили. Что ж, теперь приближалась весна.
– Батюшка благословил меня на монашество, – сказала Наташа, – на тайное, в миру.
– Я думаю, это единственный путь, – сказал я.
– Даже Пушкин, – сказала задумчиво Наташа, – говорят, собирался в монахи... Ведь он совсем не зря написал: «Пора, мой друг, пора...» Если бы не дуэль...
– Не дуэль, не эта дикая женитьба, смертельная, – сказал я.
Мы приближались к рынку, к ветхим дощатым рядам, полупустынным и унылым. Две-три женщины с плетёными корзинами там виднелись. Они распаковывали свои корзины. А ещё одна ходила по рынку, как-то развязно поглядывая по сторонам, то и дело потирая синей варежкой своей толстый малиновый нос. За спиной она придерживала другой рукою потасканный мешок, затянутый верёвкой.
– А Николай Николаевич и Пушкин так больше и не виделись? – спросил я.
– Не привелось, – ответила Наташа. – Но последний разговор, уже почти в дверях, был замечателен. Пушкин, видимо предчувствуя, что это свидание у них последнее, попросил Николая Николаевича вспомнить, какие два самых значительных дня были в его жизни. Один самый ужасный, а другой самый величественный.
Не задумываясь Николай Николаевич ответил, что самый страшный день тот, когда он увидел, как столицу с разных сторон поджигают. Он считал величайшим своим грехом именно то, что не предвидел такого поворота событий до Филей... Не мог даже допустить мысли, что Москву решили сжечь.
– А второй? Второй? – вспыхнул я.
– Второй день, когда он увидел залитый солнцем Париж, при подписании капитуляции, и понял, что маршалы Мармон и Мортье спасли город от уличных боев, от варварского разрушения.
Завидев нас издали, женщина с мешком замахала мне варежкой, зачем-то призывая. Она даже подмигнула мне издали. Издали она походила на какого-то карлика с картины Гойи.
– Я на минутку, – сказал я Наташе и приблизился к этой женщине с печатью вырождения на физиономии.
Подмигивая вспухшими и багровыми веками, женщина оттащила меня в сторону. Она сбросила со спины мешок и развязала его передо мной, она приблизила ко мне лицо и дышала на меня винным перегаром. В мешке лежала обвалянная в какой-то гнилой мякине голова косули.
– Недорого, на бутылку, – прохрипела женщина, заглядывая мне в глаза.
Я развернулся и ушёл прочь.
– Дурак! – крикнула вслед мне женщина хрипло. – Всего за бутылку, был бы умный...
А у меня перед глазами стояла отрезанная голова косули со смёрзшимися веками.
– Что там такое? – спросила Наташа.
– Да погадать предложила, – ответил я и добавил:– Поразительно ответил он Пушкину.
– Да. Старик остался сам собой, – кивнула Наташа, – а на удивлённый взгляд Пушкина он как бы попробовал извиниться: «Ведь я солдат». – «Вы великий человек», – ответил ему Пушкин.
– Как жаль, что рукопись сгорела и уже нельзя узнать, что написано там о кончине Николая Николаевича, – сказал я грустно.
– Это не так, – ответила Наташа, – рукописи, правда, горят, но люди не все погибают. Пока что.
– Это как понять? – поднял я взгляд на Наташу и увидел, что в глазах её стоят слёзы.
– Я знаю всю рукопись наизусть, как знал Олег. Я не зря перекладывала страницы, когда он читал.
– Какая вы молодчина! – покачал я головой.
– Я не молодчина, я – Раевская, – сказала Наташа, – это важнее.
– Но у вас нет детей, – сказал я после некоторого молчания.
– У нас есть сын, – сказала Наташа, – вы просто его не видели, а разговор о нём не заходил... И по нему не сразу догадаешься, умён ли он, талантлив ли...
Некоторое время мы шли молча. Впереди уже виднелось кладбище. Подходя к кладбищу, Наташа сказала, глядя под ноги:
– Он тоже Раевский, фамилия его Раевский. И то-то же Николай. Мы на нём восстановили родовое имя. Энтелехия.








