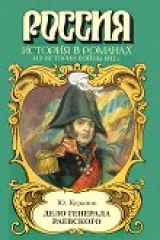
Текст книги "Дело генерала Раевского"
Автор книги: Юрий Куранов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 39 страниц)
5
Потрясённый покидал Киев юный офицер Николай Раевский в сопровождении своего одногодка, почти товарища по дружеским связям среди старших родственников. Они ехали вместе на южное российское порубежье, где ждала их новая жизнь, к которой он, как и всякий достойный юноша доблестного этого сословия, готовился с первых шагов жизни. Кони спускались к Днепру, колеса равномерно и глухо потрескивали в глубоком песке. Солнце сияло на бесчисленных золотых куполах отца городов российских, месте богатырских боев, великих подвигов и пожарищ, бесчеловечных казней и преступлений, а также на поприще великой духовной мощи и смирения россиян. Россия двигалась теперь на юг, попирая полчища османов, приходивших в бессилие, но ещё не сломленных и полных гордынями воспоминаний былой своей славы. Тогда они поставили свой золотой полумесяц вместо золотого креста на купола величественной царьградской Софии. Как бы притягаемая властным зовом её к освобождению, расправляющая плечи Русь посылала сынов своих на юг.
Один из них, попутчик Раевского, был тоже полон дорожных впечатлений от древней столицы и рассказывал о таинственных сеансах прорицателей в тёмных одеждах и с мглисто мерцающими зрачками лунатиков, которые околдовывали любопытных во мраке богатых салонов, предсказывая им судьбы и угрожая коварствами и внезапностями судьбы. Он также ломал ещё голову над заданной ему завлекательной загадкой, как из двух карт во время карточной игры сделать одну или три, смотря по требованию обстоятельств. Дворянский сын Алексей Пологов, современник и соучастник детства Николая Раевского, сидел, прищурив глаза, и что-то многозначительно прикидывал в уме.
Сам же юный офицер Николай Раевский сидел, глядя стремительным прощальным взглядом назад, в сторону Киева. Вся освещённая поднявшимся солнцем, Лавра раскинулась по горам над величием Днепра как одна дремучая дебрь, из которой вставали, подобно свечам поднебесным, в сиянии золота глав своих стройные храмы, увенчанные лазоревым туманом, они растекались по алости вод реки, её владычного течения, осеняемого полётами чаек, орлов и облаков. Медные уста колоколов её могучими звонами расстилались вокруг, созывая люд на поклонение и молитву, на величие и подвиг. Пригорки, пригорки, леса и леса. Орлы да коршуны. А Киев как блистательное подножие Небесного Трона высился над туманами, не утопая в них, отзываясь колоколами да молебнами».
6
За окнами темнело, словно приближались сумерки. Серые облака стлались над городком из-за пригорков и из-за крыш. Между тем до вечера было ещё далековато. Наташа поднялась из-за стола и куда-то вышла.
– Самовар принесёт, – сказал Олег и устало закрыл глаза.
Я смотрел на его лицо и думал о том, как неистребима в человеке порода, если она возрастала в деятельности, в накоплении разума, порядочности, сдержанности, всего, что не колеблет и не разрушает человеческую натуру изнутри. Может быть, в этом и смысл возрастания и крепости боярских, дворянских, духовных родов и поколений, которые веками выпестовываются в обществе, чтобы на их из рода в род умелостях, сноровках, спайке возводились державы. Не случайно так и называется – «держава». Она держится на самых крепких, на самых достойных родах и семьях народа. Род, семья. На них веками держались государства, царства, империи...
Олег тяжко вздохнул.
– Сколько мы сами своими руками разрушили, сожгли, разворовали своего достояния. Возьмём хотя бы Киев, – с закрытыми глазами, как бы откуда-то издалека, Олег начал горькой укоризны полные размышления, – никто и никогда не крушил Киева, отца всех городов и всей державы россов, как это сделали в своё время сами русичи, славяне же. Через полтора всего столетия после воздвижения величайшей святыни тех времён да и нынешних на Киев ополчился Мстислав, сын Андрея Боголюбского, по благословению, кстати, отца своего, посягавшего также и на северное устье славянства – Новгород. В 1169 году пришёл Мстислав с дружинами отца, подступил под стены Киева и ворвался в него. Он и не подумал пощадить святыни первопрестольного города, разграбил все сокровища великого собора и прочих церквей, наиздевался над сородичами, пожёг всё, что можно было сжечь. Насиловал он, истреблял люд киевский пуще любого половца. Никто и никогда так не надругался, окромя, может быть, татар, и не надругивался над Киевом за все века. При литовском владычестве Киев хоть и не расцвёл в полную силу, но и не хирел. То же самое проделал над Новгородом позднее Иван Грозный, грозный для своих в первую голову. А позднее Кутузов и Ростопчин, глазом не моргнув, спалили Москву, оказавшись перед Наполеоном бессильными и безрассудными. А сколько своих городов и святынь мы сами ещё до немцев пограбили да и при них спалили! И всё хвастаемся своим перед врагами бессилием и безжалостностью к своему достоянию. Николай Николаевич Раевский, кстати, – Олег медленно поднял веки над глазами, полными печали, – Николай Николаевич всю жизнь потом казнился за уступку свою, за то, что поддержал Кутузова и Барклая в их решении оставить Москву. Он как ребёнок плакал, когда уходили через Москву, а она уже со всех сторон пламенем охватывалась.
– А что же он посоглашательствовал в Филях? – спросил я.
– Там было две причины, – сказал Олег, – даже три. Никто, никто не думал, что Москву истребят. Ведь до тех пор, захватывая европейские города, Наполеон не истреблял их, даже и не расправлялся особенно с населением. Ну кое-что сожгут, кое-что разграбят, кое-кого изнасилуют, убьют. Ведь готовили Москву к сожжению тайно, кричали, что будут её оборонять до последней капли крови. Это – раз. Второе: при Бородине подставленная Наполеону флангом армия перемалывалась всей армадой французов по частям. Сначала всей мощью Наполеон раздавил Семёновские флеши, потом всею же мощью смел всё с батареи Курганной, плохо укреплённой, почти обезоруженной. Против всей армии Наполеона ополовиненный корпус, семь батальонов с батареи перед самым штурмом были отправлены на флеши. И ермоловские два батальона в полдень, к моменту первого захвата батареи, Кутузов послал не к Раевскому, а на уже захваченные флеши. Ермолов самочинно, увидев, что Курганная захвачена, отбил её. За что, кстати, получил от Кутузова выволочку. И третье: сметённый с батареи неслыханно превосходящими силами, контуженный Раевский был обвинён Кутузовым, по доносу, в оставлении батареи и чуть ли не в трусости. Его заставили писать отчёт, оправдываться. Это был второй донос в его жизни. И не последний. В России талантливый человек без доносчика не останется.
– А первый когда? – удивился я.
– После Персидского похода, – невесело сказал Олег, – после того доноса Раевского вообще из армии изгнали. А тут еле живого героя, давшего пример стойкости, Кутузов ставит в положение виноватого и решение вопроса о его виновности фактически ставит в зависимость от исхода Военного совета об оставлении Москвы. В самом же деле, почему Николай Николаевич согласился на оставление столицы? Армия была разбита, но, благодаря неслыханному упорству офицеров и солдат, не была разгромлена и подавлена, что удивило и потрясло Наполеона. Этот старый развратник и лизоблюд повернул дело так, что все виноваты, кроме него. Зачем ему понадобилось, когда генералы собрались в его ставке, прибывшего Дохтурова уводить в другую комнату и там шептаться с ним? А он этого старого суворовского бойца там выматывал за то, что уступил Семёновское под натиском всей армии Наполеона. Между тем с полудня Бородинского сражения корпуса Раевского уже не существовало, он был уничтожен. Его место заняла дивизия Лихачёва, который несколько позднее израненный и полуживой попал в плен. И все, кроме Кутузова, чувствовали себя так или иначе виноватыми. Между тем этот дряхлый, не по годам истаскавшийся пройдоха посылает царю донесение, будто бы он одержал над Бонапартом «викторию». Сам же через час отдаёт приказ отступать. Он мог бы в тот же день закончить войну, если бы не прервал великолепный рейд Платова и Уварова в тыл французам. Там уже началась паника, Наполеон хотел броситься на её предотвращение. Но Кутузов спас его. На всём протяжении похода в Россию у Бонапарта не было более спасительного союзника, чем Кутузов.
За окнами мелко заискрился снег. Поблескивающие сумерки накрыли городок, и тишина разлилась по всем его переулкам как бы зримой тонкой завесой. Умиротворение, пришедшее от чтения рукописи, не то что усилилось, но стало постепенно всеобъемлющим. Мелкий снег постепенно густел и начал превращаться в медленный бесшумный снегопад. И в глубине снегопада вдруг начало оживать что-то грациозное, изысканное и как бы опустившееся на середину двора. Появилась маленькая косуля, как бы сотканная из снегопада и невозмутимо доверчивая. Она стояла, подняв голову и поглядывая по сторонам. Хотелось протянуть руку и потрогать её прямо из окна, так чудно и доверчиво появилась она.
Я вопросительно посмотрел на Олега.
Он понимающе улыбнулся, но молчал. Он молча смотрел на грациозное животное, возникшее из снегопада. И послышалась откуда-то скрипка.
Скрипка не то что пела, скрипка певуче со снегопадом разговаривала, еле слышно притрагиваясь звуком к воздуху и медленно, как осенняя листва, падающим снежинкам, среди которых прохаживалась косуля. Косуля прохаживалась то поднимая, то наклоняя голову.
Словно раздумывало о чём-то животное. И вполне можно было подумать, что, прогуливаясь тут под снегопадом, она либо слушает, либо сама сочиняет эту музыку.
Темнело быстро, и я стал различать, что в окне Олегова дома светится какой-то тонкий огонёк. Я присмотрелся сквозь снегопад и увидел, что широкие створки окна раскрыты внутрь. Там в комнате горит на окне свеча. Высокая длинная свеча горела в глубине комнаты. Так было тихо в воздухе, что пламя свечи не колебалось. А музыка текла во двор оттуда, из-за раскрытого окна. И кто-то стоял позади свечи в комнате; мне показалось, что это он играет на скрипке.
7
– Происхождение лани в нашем роду отнюдь не случайно, – сказал Олег, – это не просто чья-то прихоть. Впрочем, лучше я прочитаю тебе главу, пока Наташа нас потчует скрипкой из раскрытого окна, а потом принесёт самовар и блины.
Олег взялся было за стопку густо испечатанных страниц, но в дверях появилась и сама Наташа. Хотя приметил я, что музыка из раскрытого окна не оборвалась и вовсе не закончилась. Музыка только плыла низко и бережно под изрядно потяжелевшими хлопьями, под которыми разгуливала, с остановками, по двору косуля да Лепка, положив морду свою лукавую и простодушную одновременно, смотрела из конуры на всё во дворе происходящее.
Наташа прошла с заглушённым самоваром, поставила его на стол. И уселась возле примечательной этой стопки страниц, чтобы их как заведённая перекладывать.
– Успела, – сказал, улыбнувшись, Олег со своей снисходительно-успокоительной и добродушной интонацией, взял со стопки листок, как блин подрумяненный, и принялся читать, от себя отодвинув лист протянутой рукой: – «Проезжали они те самые земли, по которым ехать было одно удовольствие для души раздольной и бывалой. И тысячи всяких опасностей и неурядиц подстерегали любопытного путника по всем направлениям дорог, по всему свету отсюда разбегавшихся и со всего света сюда неутомимо сходившихся. По степным и предгорным землям Приднестровья дорога не была простой, но величественной. Спутник Раевского вёл себя всё время как-то дёрганно, часто куда-то исчезал, потом возбуждённо появлялся. Однажды на ночлеге он поднялся до зари и потребовал быстрее в дорогу. В дороге он признал, что ночью чуть не застрелился, что спасла его только случайность. Он говорил, что ждёт с нетерпением наконец-то прибытия в действующую армию, где есть у него от родителей надёжные покровительные связи.
Рано утром кони вынесли путников в гористую долину с широкими плавнями. Спутник Раевского дремал. А над долиной, в которой широко разливался лиман, вставало солнце. Оно вставало, как огненный щит, и ало тонули в пылающих туманах плавни. Отсюда внизу была хорошо видна полоска берега, камыши прибрежья колыхались от осторожных и быстрых одновременно движений, как ручьи, ведущие к водопою. И там что-то в разных местах плавней время от времени всплёскивало и что-то колыхалось там. И – стихало.
– Куда они все так открыто бегут? – воскликнул тревожно Раевский, глядя в долину.
На заданный себе вопрос он здесь не получил ответа. Он сам себе не мог ответить. А больше ответить было некому.
– Они их ждут на водопоях, – сказал он себе тогда, как бы сам себе отвечая.
И как бы ещё один какой-то голос в глубине его добавил к словам этим ещё одни, вроде подводящие итог:
«Они нас всюду ждут на водопоях».
И хотя не было сказано, кто и кого ждёт повсюду на водопоях, Раевский знал, о чём и о ком идёт речь.
Позднее у самой реки попался чумацкий привал. Горел костёр. В котле кипело варево. Из камыша на взгорок выходили от реки трое молодых здоровых чумаков. Босые. Мокрые. Довольные. Подвешенную и растянутую на шесте за связанные ноги лань несли чумаки к костру. Лань безвольно болталась, подвешенная на шесте. Болталась, как мёртвая. Но была ещё жива. Глаза её, чёрные, влажные, широко были раскрыты от покорности и от ужаса. Она мутнеющим взглядом слезящихся глаз смотрела куда-то в пустое пространство. И в глазах её затухал и ещё слабо теплился по-детски наивный вопрос: «Это что же такое? За что?»
Сия утренняя сцена на берегу Буга так на всю жизнь и осталась в сердце поручика, потом генерала, потом члена Государственного совета. И в именье его постоянно жила потом лань. Он обзавёлся ею сразу после того, как изгнан был императором из армии после Персидского похода».
8
Скрипка молчала. Снегопад снижался и делался всё тяжелее и медленнее. По крышам, деревьям, окнам, воротам и оградам как будто шелестел листопад. Листва же ещё не вся опала. Тяжкие хлопья снега садились на влажные листья ещё не опавших дубов и клёнов. Деревья тяжелели, с них струился медленный шелест. Всё-всё как будто пело под этим шелестом каким-то чудным голосом девочки, которая ведёт мелодию без слов, вся отдаваясь таинственному этому пению.
Косуля прогуливалась под снегопадом, тоненько и осторожно ступая копытцами по быстро и глубоко белеющей земле. Косуля иногда останавливалась и чуть касалась детскими своими губами хлопьев такого влажного снега, который ложился ей под ноги.
Мы втроём сидели на крыльце дома и молча смотрели на снегопад, свечу в окне, на косулю. В ногах у нас лежала Лепка и, может быть, спала под снегопадом.
Потом провожали меня на остановку междугородного автобуса. Мы опять проходили мимо того коренастого дома со ставнями на окнах. Сквозь щели между ставнями просвечивался тусклый свет. И опять из-за ставней слышалось тихое пение.
– Почему они собираются дома? – спросил я.
– Они в церковь не ходят, – ответил Олег.
– А почему?
– Они её сторонятся, – сказала Наташа.
– Там такая слежка за всеми, – сказал Олег.
– А кто следит? – спросил я.
– Сам священник и следит, – сказала Наташа, – когда его ставят в священники, то берут с него подписку о доносительстве.
– Кстати, задолго до большевиков эту практику ввёл ещё Пётр Первый, – сказал Олег, – священники обязаны были доносить, кто в чём исповедался. А это считается смертным грехом. Пётр же назначил зверское наказание за неразглашение церковной исповеди. Теперь же это дело, повседневное и обязательное, возражений у священства, как правило, не вызывает.
– Вообще, священники должны сообщать, кто ходит в церковь, что говорит, что думает, – сказала Наташа.
– Но ведь об этих катакомбниках тоже знают? – спросил я.
– Конечно, знают, – согласился Олег.
– Пока не трогают, – вздохнула Наташа.
– Они нас стерегут на водопоях, – сказал я тихо.
– На водопоях. Это уж так заведено издавна, – согласился Олег.
Он нагнулся, поддел из-под ног пригоршню мягкого, рыхлого, светящегося снега, и поднёс его к губам, и долго дышал им. Потом он поднёс пригоршню этого снега к лицу Наташи, оно засветилось от снега, словно от какого-то озарения. И к моему лицу поднёс Олег эту пригоршню свежего снега. И я почувствовал, как влажно пахнет от пригоршни.
– Небом пахнет,– сказал я.
– Небом, – согласилась Наташа.
– Конечно, – подтвердил Олег.
Так мы пришли на остановку. Автобус уже стоял, пустой. Расставаясь, Олег сказал мне:
– Хоть и стерегут они нас всех на водопоях, я всё же приеду к вам на следующее ваше собрание.
ТРЕТЬЕ ВЫСОКОЕ СОБРАНИЕ
1
Всё было так, как было прежде. Или почти так. Фотографический портрет лошадиной головы на стене. Варёная картошка. Бутылка водки. Правда, на сей раз это была не просто водка. Это был «Кристалл», особо очищенная водка рижского производства, «прозрачная и чистая, как слеза невинной девушки» по словам человека, похожего бородкой и усами на некогда живописную фигуру из французской истории Наполеона Третьего. «Он и привёз из Риги целый ящик изысканного этого напитка, напитка богов», – сказал кандидат исторических наук. «Богов номенклатурных», – поправил его хозяин квартиры.
Сообщение сегодня производил как раз сам Мефодий Эммануилович, человек с бородой и усами Шарля Луи Наполеона Бонапарта.
– Я не был бы искренен, – начал докладчик, если бы не высказался о роли фельдмаршала Кутузова, которая неимоверно преувеличивается, и о самой исторической ситуации, сложившейся в первой четверти прошлого века в российской общественности, столь трагически разрешившейся через сто лет. Я просил бы не идентифицировать российское общество с Российской империей, которая представляла всего лишь часть общества, хотя весьма существенную. – Мефодий Эммануилович как-то победоносно окинул взглядом созастольников, как бы сообщая им некий окончательный приговор. – Мы, люди, приученные к методу исторического материализма и привыкшие к нему вследствие своего воспитания и обучения, отступаем от этого метода, когда приписываем мотивировки и судьбы исторических событий, процессов и даже государств какой-то одной исторической личности, пусть даже и выдающейся. Этим самым мы как бы оправдываем ленивость собственного аппарата мышления и, опираясь на до нас выверенные суждения в адрес этих личностей, эквилибрируя ими, порою залихватски, порою поверхностно, я имею в виду не личности, а суждения, – отвлёкся докладчик, всех окинув пронзительным взглядом, – эквилибрируя этими суждениями, создаём видимость анализа исторических событий. Так мы поступаем и в отношении весьма типичной для начала прошлого века фигуры, известного общественного и военного деятеля фельдмаршала Кутузова. Сама эта личность сложилась в знаменитую эпоху, называемую екатерининской, эпоху необычайно романтизированную и превознесённую так, что за восхвалением этой действительно выдающейся немки пропадает сама выскочка из ничтожного княжеского рода Прибалтики, тогдашней окраины Европы и России, Софья Федерика Августа Ангальт-Цербстская. Нужно быть выродившимся слюнтяем, чтобы, создавая великое государство из не менее великого народа, признавать матушкой эту похотливую кобылу, которая влезла на русский трон, оседлав наглых, развратных и хищных жеребцов. При ней сложилась чудовищная банда своих и чужестранных аферистов, которые к концу её царствования вогнали русского крестьянина да и всякого простого человека в такую нищету и кабалу, какой не видывали и при Петре Великом. О широте её кругозора и стратегического мышления говорит хотя бы инструкция к задуманному ею и бесславно осуществлённому Персидскому походу. Одному из бесчисленных проходимцев Валериану Зубову, бездарнейшему из бездарных, пролезшему в верха благодаря жеребячьим талантам своего брата, было поручено буквально завоевать всю Персию до Тибета. А представляла ли одряхлевшая распутница, где этот Тибет простирается, какова сама по себе эта Персия и где её границы с Тибетом кончаются? Это аппетит кобылы, потерявшей чувство реальности под очередным жеребцом.
– Однако! – повёл зрачками в потолок бывалый кандидат исторических наук, с испугом и настоящим изумлением глядя на оратора.
– Плевако! Плевако... Настоящий Плевако, – бархатным басом пропел кто-то во всеобщем внимании.
– А ведь дано-то было на поход менее пятидесяти тысяч солдат, – заметил Мефодий Эммануилович и продолжал: – Восемь тысяч отпустили сначала генералу Гудовичу, а затем ещё тридцать пять тому самому Зубову, который к тому времени уже прославился тем, что получал чины почти не служа, без всякого усилия, как многие наши нынешние номенклатурщики... из высшего и низшего эшелона.
– Это он зря. Это зря, – прошептал кто-то опасливо.
– Тому Зубову, который, усмиряя Польшу, не только потерял ногу, – продолжал человек с бородкой и усами Наполеона Третьего, – но и запятнал себя, по словам современников, низким, бесстыдным и возмутительным обращением с некоторыми поляками и их жёнами.
Евгений Петрович молча из своего угла следил за оратором не взглядом, глаза его как раз всегда были опущены, а вздрагивающей внимательностью ушей, которые даже чуть поалели от напряжения.
– Не случайно, – продолжал Мефодий Эммануилович, – такой блестящий и талантливый офицер, как полковник Раевский, не мог в его окружении найти себе достойного места. Его не могли там выдержать эти распоясавшиеся и бездарные прохвосты, а он был человек открытый и язвительный. Достаточно было тупого доноса, и начался длительный процесс его выживания, который закончился тем, что блестящего военачальника Павел Первый уволил из армии. В этих условиях, когда власть брала в России бездарная и воровская номенклатура, как мы сказали бы теперь, тип вроде генерала Кутузова приходился как нельзя кстати. Он был умён и даже по-своему талантлив, но ему нужен был крупный характер, мощная личность, отражённым светом которой он бы светил. В окружении Румянцева ему не повезло. Румянцев не был крупной личностью, и отсвечивать было не от кого. Румянцев был просто большой полководец.
Все сидели напряжённо и как бы забыв о второй, очередной рюмке.
– Здесь я должен коснуться вообще величия прославленных полководцев екатерининской поры, – Мефодий Эммануилович двумя руками с двух сторон изящно сложенными тонкими пальцами поправил свои усы, – все они, за исключением в какой-то степени Румянцева, обязаны своей знаменитостью туркам. Как нынешние израильские генералы – арабам. Осовевшая, полусонная Османская империя, которая в своё время тоже утвердилась на развалинах одряхлевшей Византии, разваливалась на глазах. И ордена, звания, поместья за победы над нею ждали только тех, кто первый за ними придёт. В окружении Румянцева-Задунайского было всё так же, как при дворе Екатерины, только всё было ещё пошлее и ничтожнее. Кутузов был умён, притворно и придворно остроумен, держать язык за зубами и скрывать свои мысли этот статный, этот блестящий офицер ещё не научился. Он поплатился за первую же шутку в адрес Румянцева и оказался в Крыму. Этот случай сделал своё дело, он наложил отпечаток на всю личность честолюбивого, охочего до жизненных услад и благ штабного офицера. Правильнее было бы сказать – «приштабного» пока что. Скоро он станет придворным. У деревни Шумы впереди солдат, без таких проявлений личности офицер тогда лица не получал, со знаменем в руке ворвался он близ Алушты в укрепления противника. Там он и получил первую пулю в голову. Он выбил татар и уже преследовал их, но свинец вошёл в левый висок и вышел у правого глаза. Это ранение тоже имело координирующее значение для последующей деятельности Михаила Илларионовича. Лечить его отправили в Петербург, причём – как героя. Героем он и был. Он был представлен влиятельными покровителями императрице, и та одарила его Георгием IV степени, дала денег от царской щедрости и отправила лечиться за границу. За границей он лечился в Пруссии. Там он тоже был представлен не кому-нибудь, а самому Фридриху Великому. С той поры будущий русский полководец стал знатоком и сторонником прусской военной доктрины, которая уже отслужила свой век и которую он столь печально применил против наиболее талантливого разрушителя этой системы под Аустерлицем, а потом под Москвой, при Бородине. Только неистовая стойкость солдат и высокое боевое мастерство да находчивость офицеров спасли россиян от позорного поражения.
И вот после Пруссии Кутузов опять в Крыму при Суворове. Здесь он прошёл школу такую, после которой любой более или менее серьёзный военный приобретал черты полководца. Здесь он проявил себя как умелый дипломат, склонив последнего крымского хана к отречению от престола и вручению своих владений от Буга до Кубани Санкт-Петербургу. За этот успех Кутузов получил генерал-майора. В армии Потёмкина он командовал дивизией, брал Очаков. Тогда же он получил вторую рану, тоже в голову. Турецкая пуля при отражении вылазки турок вошла в щёку и вылетела через затылок. Но вскоре он уже принял корпус и брал Аккерман. При взятии Аккермана, кстати, Николай Раевский отличился, уже будучи полковником. – Докладчик перевёл дыхание. – Я не хотел бы перечислять всё более или менее значительные события жизни Михаила Илларионовича, но не упускаю случая отметить, что в тот бурный, полный храбрости и доблести военный век подобными или сходными событиями насыщены судьбы многих крупных военачальников. Но мы их по этой причине величать до гениальности не бросаемся. Багратион спас армию под Шенграбеном, спас армию под Аустерлицем Дохтуров, Бенигсен выстоял под Прейсиш-Эйлау против Наполеона. По тем временам это было великое событие, да и не только по тем. Об этом мы умалчиваем. Барклай перешёл Ботнический залив и принудил к миру Швецию как раз перед нашествием Наполеона. Между тем по болезненной своей самолюбивости, если бы только из-за неё, Кутузов отказался давать бой под Царёвым Займищем, позиции которого были выгоднее и лучше подготовлены, чем бородинские. Надо заметить, что личные мотивы при всех поступках зрелого Кутузова всегда брали верх над всеми прочими. И потом, чтобы надолго не задерживаться на этой конечно же неординарной личности и не превращать память великого и трагического события в проблему фельдмаршала Кутузова, я хотел бы обратить ваше внимание на один существенный момент. А именно: каждый великий полководец, как и любой другой человек – художник, писатель, актёр, философ, естествоиспытатель, – оставляет неизгладимый след в истории человечества или эпохи, или своего народа, после него остаётся так называемая школа. Есть у нас школа Суворова, его ученики, люди, им сформированные как полководцы, как военачальники. Это Багратион, Дохтуров, Коновницын, Милорадович, Платов... Военной школы Кутузова – нет. И дипломатической школы Кутузова – тоже нет, хоть по своему времени дипломат он был знаменитый. Но в истории России Михаил Илларионович Кутузов явно-таки оставил глубокий и весьма продолжительный след. Конечно же в формировании типа или характера военного деятеля, который, не возглавляя никакого великого или простого крупного явления и фактически ничего лично от себя не внося в его развитие, остаётся как бы его возглавителем. Явление развивается по чисто историческим причинам, так или иначе путём выдающихся личных взаимодействий с другими личностями, как правило, выше его стоящими или более выдающимися, но именно он формально привлекает себе звание возглавителя этого явления. Особое развитие этого типа общественного деятеля получило в наши дни, когда выдающихся личностей вообще нет, есть деятельные и выдающиеся характеры. Например, Шолохов, Фадеев – среди писателей, Маяковский – в поэзии, Курчатов – в науке, Сталин – в военном искусстве и вообще во всех видах человеческой деятельности. Как правило, не так уж самому этому человеку выгодна такая славность, она выгодна окружающей его клике, мафии, общности, клану, как правило, состоящих из очень энергичной посредственности, основные черты которых собирательно проявились в избранной ими, без них невыразительной личности. Таким, например, обязательно станет малозаметный ныне художник Глазунов или поэт, писатель Михалков... Что-то в них есть, а что именно – понять нельзя, принципиально же ничем от других они не отличаются. Ну, скажем, скульптор Вучетич, поэт Долматовский, командарм Шапошников, с одной стороны, Будённый – с другой. Наиболее яркая среди них личность и ранее всех в законченном виде состоявшаяся – фельдмаршал Кутузов. Если хотите – это Сталин без НКВД и без патологической кровожадности.
– Эк куда загнул, – вздохнул кто-то изнурённо, но не встал и не вышел.
– Что-то мы совсем забыли о нашем полудосягаемом для простого русского интеллигента «Кристалле», – заметил Иеремей Викентьевич.
И все оживились.
Все даже переменили закрепостившиеся было позы. А Мефодий Эммануилович прервался. Правда, прервался не на полуслове, а предупредил:
– Я, собственно, ещё ничего не сказал, я только проиграл прелюдию.








