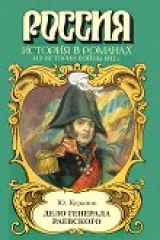
Текст книги "Дело генерала Раевского"
Автор книги: Юрий Куранов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 39 страниц)
6
– Он работал некоторое время в Новосибирском социологическом центре. Там велись довольно серьёзные социологические исследования и было много умных людей, даже стукачи там были неглупые и даже порой обаятельные.
– Настоящий стукач и должен быть обаятельным, – сказал Олег.
– По крайней мере, так называемый «свой парень», – подтвердил Кирилл Маремьянович и уточнил: – Но ни в коем случае не пьяница. Пьяницы ненадёжны: напьётся и разболтает всё. Правда, пьяницу тоже порою вполне удачно используют, вот как в случае со мной. Хотя меня использует не специальное ведомство, а что-то, по моим представлениям, гораздо страшнее. Но к нашему покойному Мефодию Эммануиловичу. Там, в Новосибирске, этот социологический институт прикрыли, вернее, кастрировали его. Многих талантливых людей вытеснили, а остальные сами разъехались. Из «поля зрения» их не выпускали. И тот, кто не спился и не сблядовался, того оставили под особым наблюдением. Дело в том, – Кирилл Маремьянович трясущимися пальцами указал на бутылку, – что в наше время не пить и не блядовать очень опасно. Особенно – не пить. Там считают, – он указал пальцем в потолок, – что не пьёт именно тот, кому есть что скрывать. В нравственные или в религиозные мотивы они обыкновенно не верят. А если убеждаются, что человек не пьёт по религиозным соображениям, то это случай особо опасный. Священникам тогда дают указание как-то отстранить его от общения с общиной. Священников же непьющих вообще стараются не заводить, за исключением кадровых своих работников. Сюда, на эти собеседования по Бородинскому полю, Мефодия Эммануиловича заманили, чтобы окончательно решить его судьбу.
– То есть? – спросил я.
– Решить, что с ним делать. Сама политическая настроенность человека их сейчас мало интересует. Там, в их среде, – Кирилл Маремьянович опять указал пальцем в потолок, – антисоветчиков хоть лопатой греби: информация у них есть, они понимают, что государство разваливается. Но им важно, чтобы число людей талантливых и умных было как можно меньше, во всяком случае, чтобы их число не достигало так называемой «критической массы». Вот тех, кто спиться или растлиться не в состоянии, они приговаривают к разного рода искусственным ограничениям, а тех, кто и на это не реагирует, решают судьбу на особом совете.
– Это кто? Комитетчики? – удивился я.
– Не-е-е-ет, – протянул Кирилл Маремьянович, – комитетчики против них дети. Те сами спиваются и сблядовываются.
– А кто это?
– Точно я сказать не могу, но вот люди типа Евгения Петровича.
– Жеки, – уточнил Олег.
– Всё может быть, – пожал Кирилл Маремьянович плечами и просительно глянул на бутылку.
Я плеснул ему четверть стакана. Он выпил, вытер губы трясущимися руками и продолжал:
– Вот меня никогда не собьёт машина, – усмехнулся Кирилл Маремьянович и глянул многозначительно на стакан свой пустой.
– Как знать, – не согласился Олег, – вы же сами говорите, что алкоголикам они не доверяют.
– Ну, я пока не алкоголик. У них есть по этому поводу два интересных понятия, оба они начинаются по какой-то странности с буквы «э». Но имеют они совершенно противоположное значение.
Я насторожился.
– Первое слово – энтелехия. Это слово греческое, понятие древнее. Означает оно законченность и завершённость какого-либо состояния. По смыслу оно гораздо полнее, то есть это состояние возвышенного, совершенного осуществления замысла, находившегося в развитии. Ввёл, то есть наполнил его философским значением, Аристотель. Оно обозначает актуальную ныне наполненность предмета, находящегося в движении, для достижения своего полного развития. Энтелехия невозможна без знания, которое по наполненности своей превращается в умозрение. Вот эти люди взяли на себя право решать, достоин ли тот или иной человек энтелехии, поскольку от неё в первую очередь зависит благополучие общества. Они считают, что есть два вида энтелехии: одна – устраивающая их представление о развитии общества, другая – не устраивающая. Первая имеет право на жизнь, вторая не имеет.
– Что же они делают в случае, когда «не имеет»? – спросил я.
– Здесь у них есть два исхода. Первый, самый, как говорят, общеупотребительный: создать в обществе такие условия, чтобы уровень допустимой сейчас интеллектуальности, а также талантливости регулировался самим обществом, чтобы люди останавливались в своём развитии сами.
– Как это? – заинтересовался я.
– Очень просто. Общество должно быть органически нетерпимым к каждому талантливому или умному человеку, чтобы человек чувствовал дискомфорт, неудобство, нетерпимость, чтобы он постоянно ощущал на себе давление без применения каких-то специальных средств. Как это, скажем, было с Лермонтовым. Талантливый человек очень раним, особенно если он ещё и умён. Его легко вывести из себя. Петербургское общество ко временам Лермонтова уже сформировалось, и такой гениальный человек, как Михаил Юрьевич, ощущал с болезненностью невозможность пребывать в этом обществе. К нему, правда, пришлось всё же применить спецсредство – ссылку на Юг в предельно антиинтеллектуальную среду. И сам он себе нашёл там конец. Гениальнейший, честнейший Батюшков был вынужден сойти с ума во цвете лет... С Пушкиным было сложнее: он был натурой вулканической, и к нему пришлось применить Дантеса. Хотя сам Дантес мог и не заметить, что его применяют как механизм. Европейское общество, где тот сформировался, в силу ряда исторических причин сложилось так, что умный или талантливый человек не вызывал такого решительного отторжения, кстати, в силу циничности этого общества. Петербургского же двора особенности были вообще уникальны, такого не было нигде: это было как бы огромное оккупационное управление целым народом, хотя до 1918 года концлагерем Россия ещё не была.
– Ну а ещё пример? – попросил я.
– Пожалуйста. Николай Николаевич Раевский. Ведь мы до сих пор не знаем, отчего на самом деле он умер. А он просто задохнулся, как и Батюшков, в петербургской обстановке, да плюс ещё и семейная трагедия. Понимаете, Петербург оказался огромным пауком, высасывающим из России все жизненные силы и умертвляющим её. Из Москвы шла жизнь, чиновникам нужна была анти-Москва. Ещё Иван Грозный метался по Руси, громя её повсюду, прячась в Александрове, пытался уйти в Прибалтику, куда его тянула та струя литовской крови, что змеилась в нём. Свой допетербургский Петербург ему создать не удалось, и он сошёл с ума. Московское самодержавие, естественным путём родившееся, было мягким, в нём отсутствовала та бездуховность, которая восторжествовала на берегах Невы. А вот Петру и его преемникам удалось создать двойника, механический бездуховный город, где главной фигурой стал чиновник, для которого главным в жизни стала мистификация государственной деятельности. Вот почему Россия императорская так легко смирилась со сдачей Москвы и сожжением её для поругания Наполеона. Весьма примечательно, что весной 1814 года никому не пришло в голову сжигать Париж, ни русским, ни французам.
Кирилл Маремьянович судорожно плеснул себе в стакан водки, тут же продолжил речь:
– Петербург иссушил Достоевского, поселил свой смертельный яд в Гоголя, отравил Брюллова, Кукольника, Глинку. Не понимая, в чём дело, инстинктивно люди стремились убежать из него куда угодно, либо з русскую деревню, либо за границу, либо в монастырь. Кстати, Петербург создал и двойника русской Церкви. Этакий чиновный её эквивалент – Синод, нечто вроде церковно-административной восковой персоны. Ну ладно... – Кирилл Маремьянович остановился, переводя дух. – Кстати, эта кошмарная революция мертвецов против живых свершилась именно в Петербурге. Большевики взорвались в Петербурге, а сами убежали в Москву, тотчас же превратив её уже в двойника Петербурга. Именно для этого им понадобилось её перестраивать.
– Так вы считаете, что в России больше ничего никогда путного не произойдёт? – спросил я.
– Никогда. Уже всё. Петербург её сокрушил, а большевики прошлись по нерестилищам, – сказал Кирилл Маремьянович, озираясь и вытирая высохшие губы. – Тут Петербург орудует уже совместно с новою Москвой, выжженная под предлогом войны с Наполеоном, древняя столица стала пародией, таким же приютом чиновников, уже абсолютно оторванных от народа да, в отличии от петербургских, ещё более диких и уже по-настоящему невежественных...
– Ну хорошо, – перевёл я дыхание, – а какой же второй пункт их тайной доктрины? Доктрины этой компании? Кстати, сами себя они как-то именуют?
– Да. Они себя именуют как «Ассоциация защитников интеллектуальной экологии общества». Иные, правда, заменяют слово «экология» словом «равновесие». У этой чиновничьей популяции есть только одна вполне осмысленная цель – не допустить интеллектуального развития страны. Не допустить рождения на свет человека талантливого или интеллектуального они не могут, это дело Божие, безбожники рассматривают это как проявление стихийных сил природы. Помешать этому невозможно, не допустить же развития этих личностей – дело вполне вероятное. На их языке это и называется определить человека как личность, не имеющую права на энтелехию.
– А вы не могли бы привести пример? – спросил я.
– Пожалуйста, – охотно согласился Кирилл Маремьянович и плеснул себе в стакан, – две ярчайшие фигуры времён войны с Наполеоном. Самый знаменательный из них Раевский. Сразу после взятия им Парижа он был удостоен императором Александром беседы. Царь поздравил его с графским титулом. Раевский же, человек глубочайшего ума и уже понимавший, какую тяжкую опасность его личности представляет вступление в клан придворной бездари, отклонил это благоволение. И с этого мгновения он выпал из номенклатуры навсегда. Он совершил против номенклатуры тягчайшее преступление. Такого они не прощают. Раевский же видел гибель при дворе ярчайшего полководческого гения Румянцева, затухание Суворова, разложение Кутузова. Сразу после возвращения из Франции Раевского ссылают в Малороссию командовать пехотным корпусом. Нечто подобное потом проделает с Жуковым Сталин.
– А кто второй? – спросил Олег.
– Пожалуйста, – Кирилл Маремьянович отхлебнул из стакана, – генерал Ермолов. Его талантливость обратила на себя внимание уже в 1798 году, и под надуманным предлогом его ссылают в Кострому, после Персидского похода. Там он был взят на подозрение, как и Раевский. Из ссылки был возвращён только через три года. В войне с Наполеонов он буквально заставил Барклая, будучи начальником штаба Первой армии, соединиться со Второй армией. После объединения армий начальник общего штаба. Настаивал на обороне Москвы, даже выбирал место для сражения. При Малоярославце, вопреки воле Кутузова, сделал всё, чтобы защитить и потом отбить отданный французам город и не пропустить Наполеона к Калуге. Во всю дорогу отступления Ермолову приходилось бороться не столько с французами, сколько с главнокомандующим.
– Я могу подтвердить ваши слова, – сказал Олег. – После того как Коновницын и Раевский отбили Малоярославец и только горстка французов осталась на окраине города, Ермолов предлагает великолепный манёвр, что вообще могло бы привести к концу войны уже на этом этапе. Денис Давыдов пишет: «После битвы князь Кутузов имел весьма любопытный разговор с Ермоловым, который я здесь лишь вкратце могу передать. Князь; «Голубчик, ведь надо идти?» Ермолов: «Конечно, но только на Медынь». Князь: «Как можно двигаться ввиду неприятельской армии?» Ермолов: «Опасности нет никакой: атаман Платов захватил на той стороне речки несколько орудий, не встретив большого сопротивления. После этой битвы, доказавшей, что мы готовы отразить все покушения неприятеля, нам его нечего бояться1». Когда князь объявил о намерении своём отступить к Полотняным заводам, Ермолов убеждал его оставаться у Малоярославца по крайней мере на несколько часов, в продолжение которых должны были обнаружиться намерения неприятеля. Но князь остался непреклонным и отступил».
– Вот именно, – согласился Кирилл Маремьянович, – в это мгновение Кутузов спасал Наполеона, а Ермолов спас Россию, с Раевским и Платовым вместе. Ермолов спас Кульмское сражение, вместе с Раевским спас великое сражение при Лейпциге. И после войны этого великого военного деятеля фактически ссылают на Кавказ командиром грузинского корпуса, там его маринуют на второстепенной линии и мытьём да катаньем вынуждают выйти в отставку при расцвете ума и таланта. Сколько мог бы он принести пользы, если учесть, что он в 1853 году избран был начальником московского ополчения.
– А ещё! – попросил я.
– Пожалуйста, – согласился Кирилл Маремьянович. – Ермолов так и остался генералом от артиллерии, а бездарный Витгенштейн в 1829 году получил фельдмаршала. Ещё один пример – генерал Скобелев. Генерал от инфантерии. Ярчайшая и талантливейшая личность. Авторитет непререкаемый, умён, бесстрашен, готовил военную реформу против дураков. Внезапно умер при невыясненных обстоятельствах. Его энтелехия не состоялась.
– А ближе к нашему времени? – попросил я.
– Можно совсем близко, – кивнул Кирилл Маремьянович. – Куда уж ближе: Ленин и Троцкий, в какой-то степени Бухарин. Я уже не говорю о маршале Жукове, заклёванном со всеобщего согласия.
– Ленин и Троцкий? – засмеялся я.
– Конечно, – согласно засмеялся Кирилл Маремьянович, – Ленин и Троцкий, плюс – Бухарин. Обратите внимание, что само размежевание социал-демократов прошло по чисто антропологическому признаку. В сравнении с настоящими интеллектуалами, талантливыми людьми, Ульянов таковым не выглядел. Поэтому интеллектуальная часть во главе с Плехановым была сразу отсечена. Затем шёл дальнейший отбор, и к власти а России пришла наиболее бездарная часть социал-демократов во главе с Лениным. На их фоне Ленин выглядел умником. Скрепя сердце, по явной нужде, терпели Троцкого, человека явно талантливого. Он был нужен и был не менее, а, может быть, более кровав, чем все остальные. С Лениным они в этом отношении близнецы. Правда, Ленин не любил расстреливать лично, как Троцкий, как Дзержинский. Троцкий создал Красную Армию, победил в Гражданской войне. Страна фактически была умерщвлена. Можно теперь и без него. Можно и без Ленина, он тоже всем уже мешает. Ленина заключают в Горки, там подвергают его эвтаназии. Троцкого ссылают. На их место сажают наиболее бездарного из своей среды Джугашвили, он же Коба. Он же Сосо, он же Сталин. Типичный выродок. Все признаки интеллекта и талантливости в стране истреблены. Остались единицы. Их тоже выкорчёвывают: Есенина, Мандельштама, Маяковского, Клюева, Мейерхольда, Пильняка, даже Бориса Корнилова, Павла Васильева – нет. Дело сделано. Теперь уже такие, как Евгений Петрович и кандидат исторических наук, могут производить селекцию общества по типу неандертальцев. Образец Лысенко и Ворошилова. Теперь даже такие личности, как Пастернак или Зощенко, люди просто талантливые, вызывают ярость. Конечно, на оставшемся фоне такие, как Алексей Толстой или Шолохов, кажутся гениями. Даже Горький и Тухачевский, не говоря уже о Бухарине, теряют право на энтелехию.
– Значит, вы считаете, что с Россией покончено? – спросил я.
– Безусловно, – поёжился Кирилл Маремьянович.
– Значит, они вас победили? – спросил Олег.
– Безусловно, – согласился Кирилл Маремьянович, – они победили не только меня, но и вас, и его, и всех вообще, они победили даже тех, кто ещё не родился.
– Как они втянули вас в свою банду? – спросил я.
– Вот что особая трагедия, – вздохнул Кирилл Маремьянович, – об этом я и должен рассказать.
7
В 1957 году меня реабилитировали за отсутствием состава преступления. Я вернулся в Москву. Что меня погубило? Моя общительность, мой темперамент. Говорить я умел, да и сейчас, как видите, ещё могу. Я с юмором рассказывал о своём аресте, о суде, о лагерной жизни. Там было много невероятного, и все хохотали до слёз. Всё сопровождалось, как у нас водится, выпивками. Так у меня стали собираться компании. И к выпивкам я пристрастился. Однажды мне позвонил вежливый мужской голос, представился работником городского Управления безопасности. Он попросил разрешения прийти и предупредил, чтобы я не тревожился, так как у него ко мне дружеская беседа. А я был с похмелья, зарплата пропита. Я как раз размышлял, кому бы позвонить и перехватить на похмелку. Надо сказать, что после лагеря я их почему-то не боялся, хотя уже точно знал из личного опыта, что никаких законов для них у нас не существует. Просто сама встреча с ними – серьёзная опасность, но отвергать её ещё опаснее. Вот я ему и брякни: «Если вы ко мне собираетесь сейчас, то прихватите с собой бутылку водки». – «Даже так?» – удивился тот. «Конечно, – сказал я, – у вас ведь там есть буфет, деньги на представительство вам положены».
– Это мерзко, – заметил я.
– Конечно, это мерзко. Теперь я сам это вижу. Но когда хочется выпить и не на что... – Он развёл в воздухе руками. – Приблизительно через полтора часа у меня за столом сидел молодой стройный и очень доброжелательно настроенный человек с чёрным дипломатом. Разговор начался сразу, он сказал, что я очень интересный человек, у меня собираются интересные люди, а он работает в службе изучения общественного мнения. Я представляю для них интерес именно с этой точки зрения. «Мы бы хотели вмонтировать в вашей квартире звукозаписывающую аппаратуру, – сказал мой гость. – Для нас это важно только с точки зрения изучения общественного мнения. Никому из ваших гостей ничего не будет грозить, многие очень порядочные и весьма уважаемые в обществе люди, поэты, художники, учёные, даже общественные деятели, откликнулись на эту форму сотрудничества с нами». – «А вы бутылку принесли?» – спросил я. «Как вы просили», – ответил он. «А где она?» – «Здесь», – мой гость похлопал по дипломату. «Пора её на стол», – сказал я. Он вынул из дипломата великолепную бутылку рижского «Кристалла». Я сходил за двумя рюмками, откупорил бутылку. «Может быть, мы сначала поговорим?» – предложил мой гость. «Зачем же? – возразил я. – Одно другому не мешает. А за знакомство выпить полагается». Мы чокнулись, и мой гость чуть пригубил. Я налил вторую рюмку себе. «Нам надо бы сначала договориться, – сказал мой гость, – и кое-что оформить». – «Договориться мы всегда успеем, – сказал я, – а вот выпить человеку не всегда удаётся за генерала Раевского!» Я поднял свою рюмку, и мы опять чокнулись. Мой гость опять лишь пригубил. Он насторожился, глядя, как я расправляюсь с его бутылкой, и заметил, что дело всё-таки есть дело. «Тем более», – согласился я и наполнил свою рюмку, чуть капнув гостю. «Вы сами понимаете, – сказал он, прикрывая рюмку ладонью, – что разговор наш строго конфиденциальный, мы вам оказываем весьма высокое доверие, и никто не должен об этом знать». – «Это само собой разумеется, – сказал я, – за это мы сейчас тоже выпьем. Но тут есть один аспект: вы сами видите, что выпить я не дурак, и могу иногда завестись и наговорить ненароком таких вещей, что начальство ваше вынуждено будет предпринять против меня какие-либо неординарные меры. Что тогда?»– «Я вам гарантирую полную безопасность». – «Это вы, – сказал я, – но ведь вы сами понимаете, что перед своим непосредственным начальником вы мало что значите, а уж выше... Вас самого могут пощекотать за то, что подобрали где-то такого, как я... Вы же видите, как я пью». – «Это существенный момент», – согласился мой гость. Он был молод, судя по всему, нигде никогда не сидел, сапогом его по голове не били, он даже никогда не ходил в атаку, судя по всему, сын весьма благополучных обывателей. Что с него взять? Он явно был озадачен и соображал, как ему выпутаться из этой ситуации. «У этого бедняги даже нет на ноге сапога», – подумал я. Он сидел в великолепных модных ботинках. Такими ботинками бить по голове никому не придёт в голову. «Какие странные люди, – подумал я, – о чём они думают? Таким чистюлям в такой организации просто нечего делать». И мне стало грустно.
Кирилл Маремьянович посмотрел на нас глазами, полными слёз, и провёл по ним рукой. Он явно входил в роль, хотя со стороны могло бы показаться, что он хмелеет. Я давно был с ним знаком, знал, что выпить он может сколько угодно и быть только слегка выпившим. Хотя потом дней пять мучится от похмелья.
– Ну и чем же всё кончилось? – поинтересовался я.
– Кончилось всё просто, – ухмыльнулся Кирилл Маремьянович, – мой гость встал. Поблагодарил меня за приятную беседу и спросил, почему я предложил тост за генерала Раевского.
– Потому что Раевский был порядочным человеком и отказался от графского титула, когда ему предложил его царь.








