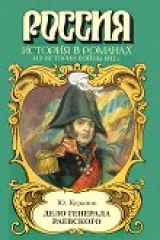
Текст книги "Дело генерала Раевского"
Автор книги: Юрий Куранов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 39 страниц)
6
И как не раз уже случалось на Руси, самое очевидное и всеми предсказуемое оказалось неожиданностью. При надёжности изумительной населения, находчивости его и выносливости нам во всей нашей истории постоянно приходится на всякую напасть отвечать так, словно мы ни о каких опасностях не подозревали, хотя всё время только и говорим об изобилии у нас внешних и внутренних врагов. Имея армию более шестисот тысяч и огромное количество пушек, превосходных по своим качествам, Наполеону мы смогли противопоставить лишь небольшие силы, до удивления. Да и сами возможности Бонапарта оценены были ошибочно. Не предполагалось, что приведёт он с собою полумиллионную армию. Мы же растянули перед ним жидкую цепочку из незначительных сил обороны. Это были три армии общим числом в двести двадцать тысяч солдат и офицеров при девятистах пушках. То была мощная сила, но не для Наполеона, возможности которого явно занижались. Эти три армии выглядели так: Первая насчитывала 127 тысяч при 550 орудиях, в ней шесть пехотных дивизий, три кавалерийских корпуса и казачий корпус Платова. Здесь командовал тогдашний военный министр генерал Барклай-де-Толли. Его армия растянулась на двести километров, прикрывая Петербург. Смешно выглядела эта группировка против полумиллионной гидры Наполеона. Конец северной столицы был бы неизбежен, двинься Наполеон на север. Ещё смешнее выглядела Вторая армия, которая прикрывала дорогу на Москву. Она уступала любой из группировок ведущих маршалов Наполеона. Численность её составляла 45 тысяч солдат и офицеров при 170 пушках, растянутых на сто километров от Лиды до Волковыска. Два пехотных и один кавалерийский корпуса да казачий отряд. Командовал армией Багратион.
Сорокашеститысячная армия генерала Александра Петровича Тормасова расположилась аж на Волыни. Счастливее обстоятельств для знаменитого завоевателя предложить было невозможно ни со стороны императора Александра, ни со стороны военного министра. И всё петербургское чиновничество, большое и малое, жирующее и самодовольное, не могло придумать лучшего подарка на двух сразу блюдечках полководцу французов и его маршалам, любой из которых мог бы заткнуть за пояс военного министра России. К тому же добавить надобно, что самая могучая группировка французов пошла на Москву, на крошечную армию Багратиона, а с ним и на Раевского, который командовал одним из двух пехотных корпусов. Главная задача должна была, конечно, заключаться в том, чтобы эти две столь миниатюрные армии хотя бы соединились, прикрывая дорогу на Москву, поскольку сразу стало ясно, что на Санкт-Петербург Наполеон не нацелен. При этом стремлении на соединение Раевскому пришлось принять первый мощный удар Даву и Жерома Бонапарта. Особенно опасен был Даву, именно его некоторые считали талантливей Наполеона. Группировка Даву составляла чуть меньше ста тысяч солдат. Он и занялся сравнительно небольшим корпусом Раевского.
Даву почти нагнал армию Багратиона, которая собиралась переправляться через Днепр у Могилёва. Но Даву оказался здесь первым. И нужно было его задержать. Утром Раевский получил записку от князя Петра, в которой ему приказывалось затеять бой с Даву. Вследствие запутанности положения и нерасторопности разведки князь Пётр был введён в заблуждение и писал: «Я извещён, что перед Вами не более шести тысяч неприятеля: атакуйте его с Богом и старайтесь по пятам неприятеля ворваться в Могилёв».
И бой произошёл у деревни Дашковка, в одиннадцати километрах от Могилёва. На эту войну Раевский взял двух сыновей. Александру исполнилось шестнадцать лет, а Николаю не было ещё одиннадцати. Как пишет об этом деле сын старшей дочери Николая Николаевича, случилось всё так: «В деле при Дашковке они были при отце. В момент решительной атаки на французские батареи Раевский взял их с собою во главу колонны Смоленского полка, причём меньшего, Николая, он вёл за руку, а Александр, захватив знамя, лежавшее подле убитого в одной из предыдущих атак нашего подпрапорщика, понёс его перед войсками. Геройский пример командира и его детей до исступления одушевил войска: замешкавшиеся было под картечью неприятеля, они рванулись вперёд и всё опрокинули перед собою».
Николай Николаевич-старший не любил патетических слов, но подвиг этот получил звучание по всей России, особенно в столицах. И по этой причине, когда речь заходила об этом эпизоде у плотины Салгановской, сам он излагал его так: «Я никогда не говорю витиевато. Правда, я был впереди. Солдаты пятились. Я ободрял их. Со мной были адъютанты и ординарцы. По левую сторону всех перебило и переранило, на мне остановилась картечь. Но детей моих не было в эту минуту. Вот и всё тут». Так отвечал бывалый воин, познавший горечь славы со сладостью её, когда заходила речь о Салтановке. Но в письме к сестре жены своей он писал: «Вы, верно, слышали о страшном деле, бывшем у меня с маршалом Даву... Сын мой Александр выказал себя молодцом, а Николай даже во время самого сильного боя беспрестанно шутил. Этому пуля порвала брюки, оба сына повышены чином, а я получил контузию в грудь, по-видимому не опасную». Денис Давыдов писал об этом деле тоже: «...следуемый двумя отроками – сынами, впереди колонны своих ударил в штыки по Салтановской плотине сквозь смертельный огонь неприятеля».
Вой утих только к вечеру. Выстрелы стихали. Река темнела. Даву решил, что против него основные силы Багратиона, и отдал приказ подождать, выяснить обстановку. Раевский же спокойно, тоже выяснив многое, то есть что перед ним основные силы Даву, решил отступать. Было ясно, что далее выдержать натиск не удастся. Но главное сделано, Багратион через Днепр переправился, теперь нужно думать о соединении двух армий под Смоленском.
После боя Николай Николаевич спросил младшего сына:
– Знаешь ли ты, зачем я водил тебя с собою в дело?
– Знаю, – ответил мальчик, – для того, чтобы мы вместе погибли.
Полтысячи километров прошла с кровопролитиями армия Багратиона, входя в Смоленск первого августа по новому стилю. Третьего августа подошла и армия Барклая-де-Толли. Наполеону не удалось сомкнуть свои клещи.
Но шестого августа решено было на Военном совете перейти в наступление. Общественное мнение, то есть мнение людей некомпетентных и потому легкодумных, заставляет порой людей опытных, но нетвёрдых в характере, совершать оплошные поступки. Решали теперь, едва уйдя из одной западни, поискать новую. Решено было прорвать центр французов силами обеих армий, для этого идти на Рудню. Оставлен был в Смоленске один только полк из дивизии Неверовского, а самую дивизию Багратион двинул в сторону Красного, предполагая, что именно с этой стороны возможно нападение. Двинувшись же в наступление, русские войска бессмысленно маневрировали в течение десяти дней, не имея сведений от разведки, поставленной слабо, хотя казаков было хоть отбавляй для этих целей. Войска российские бродили между Рудней и Поречьем, а Наполеон за это время переправился через Днепр и рванулся на Смоленск. Лучшего подарка он ожидать не мог. И над русскими опять нависла угроза катастрофы. Спасти её мог опять лишь Раевский. Французы шли по Красносельской дороге, не ожидая сопротивления. Всё говорило о том, что русские будут отрезаны от Москвы и неожиданный удар с тыла сокрушит их. Наполеон был не из тех, кто прощает ошибки, с ним каждую минуту держать нужно было ухо востро, ни на мгновение не расслабляясь. Даву и Мюрата, пехоту и конницу бросил вперёд император – чуть менее двухсот тысяч солдат и офицеров.
В полдень первого августа, по старому стилю, конница Мюрата увидела пехоту Неверовского, сплошь сформированную из новобранцев. Но эти новобранцы на сутки задержали блестящую конницу сына трактирщика, а ныне короля Неаполитанского. Оттеснив несгибаемых новобранцев Неверовского, сия блистательная армада ввиду Смоленска предстала перед седьмым корпусом Раевского. Николай Николаевич позднее других уходил из Смоленска на тот глупый манёвр своей армии и успел пройти лишь несколько вёрст, когда послышались залпы французов позади. И тут к нему подоспел адъютант Неверовского, отправленный к Багратиону. В пятнадцати вёрстах от Смоленска Раевский потребовал себе приказ вернуться и оборонять город, который веками считался ключом к Москве. «Ночью, на бегу, – писал позднее Михаил Орлов, – внушая каждому из своих подчинённых предугаданную им важность поручения, он достигает берегов Днепра. Переправа через реку, взятая на личную ответственность, занятие на рассвете Смоленска и обширных его предместий против неприятеля, в десять раз его сильнейшего, доказывает, что он решился здесь умереть или оградить наши сообщения».
В Смоленске Раевский обратился за советом к Беннигсену, и тот сказал, что генерал берётся за дело обречённое. Он поддержал слухи о том, что Неверовский разбит, и советовал Раевскому не переправляться через Днепр, хотя бы артиллерию спасти. Раевский думал по-другому. Позднее он писал: «Сей совет не сообразен был с тогдашним моим действительно безнадёжным положением. Надобно было пользоваться всеми средствами, находившимися в моей власти, и я слишком чувствовал, что дело идёт не о сохранении нескольких орудий, но о спасении главных сил России, а, может быть, и о самой России». Это был образ намерений, принципиально отличавшийся от образа действия Кутузова и в первой и во второй войне его с Наполеоном».
Раевский занял оборону по Красносельскому большаку на подступах к Смоленску, и к двум часам все увидели уцелевших солдат дивизии Неверовского. «Я помню, какими глазами мы увидели Неверовского и дивизию его, подходившую к нам в облаках пыли и дыма, покрытую потом трудов и кровью чести! Каждый штык его горел лучом бессмертия». Через три часа появились передовые части французов. Позднее подошёл Мюрат. Пришельцы, подобно древним завоевателям, зажгли в ночи огни, обложив этот многие виды видавший город. Раевский располагал не более чем пятнадцатью тысячами человек, а на подступах огни завоевателей горели бесчисленно. Трубы славы поднимались невидимо над городом, чтобы прогреметь с рассветом, и прогреметь на многие века вперёд».
7
Москва за окном затихла. Окна темнели. Какая-то сивая туча, пепельно подсвеченная снизу, расстилалась над нею. А машины, как неутомимые светляки, ткали и ткали вдоль улиц какую-то бесконечную паутину. Олег осунулся, медленно прохаживаясь вдоль окна, как бы не просто рассказывая о деяниях, когда-то бывших, а ведя некий репортаж с места событий.
«Стояла тёплая лунная ночь с 15 на 16 августа 1812 года. Наступал день рождения императора французов, ему исполнялось сорок три года, и сподвижники готовили ему величественный подарок: древний русский город Смоленск, взятый именно теперь, отрезал русские армии от столицы и обрекал их на разгром и плен. Обложили Смоленск сто восемьдесят пять тысяч солдат гвардии Мортье, кавалерии Мюрата, корпусов Даву и Нея, маршалов давно и далеко прославленных от Египта до Северной Италии, от Кипра до Кёнигсберга. Против этой громады готовился к бою пятнадцатитысячный корпус Раевского. По равнине далеко рассыпались огни французских дивизий, и казалось, что нет им конца.
После Военного совета Раевский выехал верхом за город, сам отводя места расположения для своих частей. Шумный богатый город замер в тревожном ожидании перед морем огней, которые жаждали захлестнуть его и поглотить. Ночь дышала тишиной и спокойствием. Но Раевский чувствовал, как в нём, внутри его существа, сплелись тысячи нитей судеб этого города и каждого из его жителей, каждого из столетий прошедших и столетий будущих. Далеко слышался треск кузнечиков, поздний треск этих неутомимых существ с их такими хрупкими, такими мимолётными жизнями. Луна светила густо, и матовые склоны холмов, длинные стены и высокие башни городской крепости казались вылитыми из тёмного серебра. Стены эти простирались вокруг центра города на пять вёрст, высились до двенадцати сажен, а в толщину достигали четырёх. Венчали стены три десятка мощных башен. Вдоль стен вырыт был широкий ров.
Мог ли в эту ночь предположить там, среди моря огней, низкорослый самоуверенный полководец с лицом римского патриция, что вскоре, не в таком уж далёком будущем, придётся бежать ему через этот полуразрушенный и полусожжённый и вконец разграбленный город, а до того под Малоярославцем, южнее Москвы, прорываться в богатые степи и, когда уже победа будет склоняться над его знамёнами, путь ему преградит этот невидимый генерал. Он остановит его, когда уже решится одутловатый Кутузов пропустить Бонапарта в богатые степи. И уж конечно, не могло прийти Наполеону в голову, что через год, а именно 4 октября 1813 года, в страшном сражении под Лейпцигом, которое войдёт в историю под именем Битвы народов, чашу весов опять в самую решительную минуту склонит на сторону союзников неторопливый, с быстрым и решительным взглядом генерал, которого он ни разу не видел даже в подзорную трубу и не знает, как он выглядит.
За городом на востоке голубовато вступал в ясное небо рассвет, словно там над вознёсшимися башнями и куполами пробили небосвод и начали растекаться чистые светоносные ключи. Запели петухи. Петухам отозвались боевые трубы. Приближался час атаки, когда французская кавалерия потеснит русских конников и попадёт под убийственный огонь удачно расставленных Раевским за ночь батарей. Тут во всём своём блеске двинется на приступ пехотный корпус маршала Нея. Маршал сам пойдёт во главе корпуса, бесстрашно и гордо. Откуда знать бесстрашному маршалу, что через три месяца в сражении под Красным на правом фланге русского авангарда остатки его разбитого корпуса пленит именно седьмой корпус генерала Раевского? А сам Ней выберется из окружения только благодаря медлительности Кутузова, который, услышав, что здесь в окружении находится сам император, странным образом оцепенеет, чтобы не дать свершиться пленению Наполеона. Позднее таким же образом оцепенеет он, фактически самоустранившись от сражения при Березине, что позволит Бонапарту бежать из России.
Но сейчас, 16 августа, по новому стилю, эти будущие пленники во главе со своим предводителем бесстрашно ворвутся в Королевский бастион и будут выбиты оттуда батальоном Орловского полка. Французы вновь пойдут в атаку и доберутся до крепостного рва, но, обращённые в бегство, отступят. Наполеон прибудет к городу в девять часов утра и отложит штурм. На острове Святой Елены он вспомнит об этом утре так: «Два раза храбрые войска Нея достигали контрэскарпа цитадели и два раза, не поддержанные свежими войсками, были оттеснены удачно направленными русскими резервами». Император не будет знать, что против него стоял лишь пятнадцатитысячный корпус, отразивший после полудня ещё одну атаку Нея.
В тот момент прибудет адъютант Багратиона с запиской: «Мой друг! Я не иду, а бегу. Хотел бы иметь крылья, чтобы поскорее соединиться с тобой. Держись». Да! То были времена, когда в России офицеры и генералы разговаривали на языке поэтов.
Так вторично спасены были русские армии от смертельной опасности одним осмотрительным, стойким и мудрым генералом, который в армии Наполеона, безусловно, стал бы маршалом. Рассказывают, будто впоследствии, когда старый генерал, человек сдержанный в выражении своих чувств, вспоминал эти слова князя Петра Багратиона, он глубоко затягивался своей трубкой и погружался в облако дыма. Это уже во втором изгнании, когда Петербург вторично и окончательно отказался от воинского его таланта и от мудрого его сердца. Именно тогда ему не раз вопрос задавали о подвиге под Салтановкой и он отвечал ещё более сдержанно:
– Ничего там особенного не произошло тогда. Просто солдаты пятились. Я ободрял их. Со мною были адъютанты, ординарцы. По левую сторону всех перебило. Картечь остановилась на мне. Но детей моих не было в ту минуту. Младший сын собирал в лесу ягоды. Он был тогда сущий ребёнок, и пуля ему прострелила панталоны. Вот и всё. Весь анекдот сочинён в Петербурге.
– Но, ваше превосходительство, сестре супруги вашей Екатерине Алексеевне вы после Смоленска писали несколько иное...
– Ну что там, – снисходительно улыбался Раевский, – чего не напишешь после сражения.
– Полноте, Николай Николаевич, – допытывались в разговоре, – неужели вы никогда не испытывали возвышенного волнения или воодушевительного прилива сил? Ни при Бородине, ни под Лейпцигом, ни под Смоленском?
– Почему, – оправдывался стареющий генерал, – человек не в состоянии избежать волнения, особенно перед ответственным поступком или свершением. Тогда, под Смоленском, в ожидании дела я хотел несколько уснуть, но искренне признаюсь, что, несмотря на всю прошедшую ночь, проведённую мною на коне, я не мог сомкнуть глаз – столько озабочивала меня важность моего поста, от сохранения коего столь много или, лучше сказать, вся война зависела.
– И всё же почему не пошли навстречу вашей популярности в высших кругах Петербурга, которую так обожал, скажем, Михаил Илларионович?
– Быть кумиром хитрецов и пустословов невелика честь, – отвечал Раевский и поглаживал свою американскую собачку».
– Меня в то же время изумляет впечатлительность вашего предка, – сказал я, глядя на потухающее море огней за окном.
– Ничего себе впечатлительность, – усмехнулся Олег, – когда в ваших руках судьба страны, невпечатлительным быть невозможно, если вы нормальный, конечно, человек.
– Но вот мы знаем, что Николай Николаевич, ваш славный прапрадед, плакал, оставляя Москву.
– Хо, – ещё раз усмехнулся Олег, – плакал не только мой прапрадед, плакала вся Москва. Чтобы вы знали, господин хороший, как реагировала Москва на её предательскую сдачу, мне придётся процитировать кое-какие страницы. Кстати, москвичей до последней минуты водили за нос. Кутузов никому до Филей об этом ничего не говорил. Но всё свидетельствует о том, что он её сдавать решил давно. Даже Ростопчину он, по некоей версии, до последней минуты об этом не говорил. Хотя я думаю, что они работали рука об руку. Правда, этот фанфарон день и ночь кричал, что Москва сдана не будет, её защищать готовы до последнего, мол, человека. Всем, например, известно, что в день тезоименитства Александра Первого, 30 августа, Ростопчин ездил на Поклонную гору к Кутузову. После встречи с Кутузовым Ростопчин в тот же день выпустил афишу к населению Москвы. Вот кусок из неё:
«Светлейший уверяет, что он будет защищать Москву до последней капли крови, «готов хоть в улицах драться».
Первого сентября версты за три от Москвы слышна была музыка во французском лагере, а через Москву провели пленных французов. Ростопчин писал в этот день к народу: «Братцы, сила наша многочисленная и готова положить живот, защищая отечество; не впустим злодея в Москву... Москва – наша мать; она нас поила, кормила и богатила. Собирайтесь на трёх горах; слава в вышних Богу – кто не отстанет, вечная память – кто мёртвый ляжет, горе на Страшном Суде – кто отговариваться станет!»
В это самое время в одиноком домике на горе Можайской дороги, в этом домике с красными окошечками главнокомандующий русской армии уже знал судьбу Москвы. Уже вечером этого дня прискакал всадник от Кутузова к генерал-губернатору Москвы, которого даже не пригласили в эту роковую избу, и сообщил, что Москву сдают без боя. При сих словах у Кутузова не блеснула даже тень слёзы на совете, и он нисколько не изменился в лице. А вы спрашиваете, почему плакал Раевский. Раевский понял, что будет дальше. Вот вам: «Без главнокомандующего и без прочих правительственных лиц Москва ещё более осиротела; вот появился авангард отступающей нашей армии; он выступал тихим похоронным маршем, с унылым видом, в глубоком молчании; сперва шли ряды пехоты и кавалерии, за ними тянулись фуры, госпитальные повозки; барабаны звучали, мостовая грохотала под грузными экипажами. Некоторые купцы растворили свои лавки и зазывали солдат на даровое угощение. У кабаков бушевали толпы народа и отставшие солдаты. Грабители, расхищая чужое имущество, шли, обременённые ношами. Оставшиеся жители Москвы робко спрашивали: «Куда вы идёте?» – «В обход», – коротко отвечали им. «Не наше дело, про то ведают командиры», – нехотя говорили другие».
– Вот это и предвидел Раевский? – спросил я.
– Не только это, – ответил Олег и продолжал: «...церкви, мимо которых проходило войско, были отперты, то некоторые из солдат, оставляя свои ряды, входили в них и усердно молились: народ, простёршись на подмостках, вслух читал свои молитвы; многие плакали, били земные поклоны и рыдали... пронёсся слух, что армия пойдёт в обход на Звенигородку, чтоб ударить в тыл неприятелям. «Да нет, братцы, нас морочат, дело-то нечисто, – говорили солдаты, – сами-то мы, пожалуй, уцелеем, а Москву отдадим». Проходя через Кремль, некоторые начальники командовали своим отрядам: «Стой! Кивера долой, молитесь!» Многие коленопреклонялись, и перед глазами их, полными слёз, бледнели золотые маковки храмов...»
Олег перевёл дух, посмотрел на Москву, которой огни угасали, угасали, угасали... Он провёл по глазам ладонью и продолжал:
«3 сентября встал он с беспокойного ложа своего под звуки военной музыки и часов в десять, сопровождаемый французскою, итальянскою и польскою гвардиею, конною и пешею, тронул в путь по направлению к Кремлю. Он сидел на белой, богато убранной арабской лошади, окружённый блестящею свитою...» Здесь были все или почти все народы Европы представлены красными мундирами лейб-гусар в высоких киверах и с висящими вдоль спины лошадиными хвостами, лёгкие уланы и рослые гусары, конница в шишаках и с тигровыми шкурами, старая гвардия, уцелевшая под Бородином, усатая и рослая, в высоких медвежьих шапках с кистями. Были здесь пруссаки в синих камзолах, белые, как гуси, австрийские кирасиры, малорослые вестфальцы и чопорные поляки, которые ехали под знамёнами белого орла, под которым они два века назад одолевали Москву. При обозе ехали француженки и польки, некоторые верхом, в пёстрых костюмах. Так некогда при солдатском обозе пристроилась будущая русская императрица волею Петра Анна Скавронскан.
Наполеон ехал в сером сюртуке, в невысокой треугольной шляпе, без знаков отличия... Все они двигались по Арбату, на котором ещё виднелись афиши Ростопчина, они кричали, что Москву не отдадут без боя. Наполеон, войдя в Кремль, распорядился напечатать известия о взятии Москвы, чтобы срочно отправить их в Европу. Он сообщал: «Великая битва 7 сентября, то есть Бородинская, поставила русских вне возможности защищать Москву, и они оставили свою столицу; теперь три с половиной часа наша победоносная армия вступает в Москву...» И Наполеон тут не лгал».
Олег закрыл глаза, провёл по ним вздрагивающей рукой и продолжил:
– «Но вот чего боялся, может быть, Раевский. Ведь он помнил войну в Польше, под водительством Суворова. И вступление в Прагу, предместье Варшавы. В Москве же ныне клубы дыма поднялись над Гостиным двором ещё до появления Наполеона, когда же он вступил в Кремль, загорелись москательные лавки, масляные ряды, Балчуг, Зарядье, Остоженка, потом Солянка, вокруг моста через Яузу, позднее Замоскворечье, даже барки с хлебом... По улицам потекли горящие реки вина... Обжигаемые пожаром голуби заметались над задыхающимся городом. Взвыли собаки, лошади метались по горящим улицам и ржали в ужасе. Москвичи с трепетом вытаскивали из домов иконы, задыхались от дыма, бежали с ними в разные стороны. А старый, повидавший на своём веку многое главнокомандующий со свислыми на грудь эполетами уезжал невозмутимо подальше от Москвы в карете своей. Он не оглядывался. А зарево горящей столицы видели за сотню вёрст отсюда, скажем, в Коломне.
Французы и горожане метались по Москве в поисках пожарных инструментов. Их не было. Всё было вывезено. Но после пожара да и ещё во время его начались грабежи. Вот этого страшился со слезами на глазах Раевский. Он видел грабежи Праги. Не просто грабежи, но насилия, издевательства, чинимые в Москве завоевателями, не поддаются сравнениям и описаниям. Женщины обмазывали себе лица пеплом и гарью, одевались в мужские штаны, приделывали бороды, прятались в раскалённые подвалы. Девушки и девочки забирались в распоротые животы мёртвых лошадей... Французы не были самыми страшными истязателями, они даже иногда подкармливали детей. Страшнее других были некогда союзные пруссаки, баварцы, вестфальцы и особенно поляки. Безумствуя, они кричали: «Вот вам за Прагу! Вот вам за Варшаву!» Поляки не хотели забыть, как Суворов, захватив Прагу, отдал се на волю своих солдат». Вот отчего плакал Раевский, – сказал Олег и, ткнув в меня пальцем: – Вот о чём не хотел думать Кутузов. Он просто бросил столицу на произвол захватчиков, которые победителями фактически не были.
– А почему не плакал Кутузов? – спросил я.
– Почему не плакал Кутузов? – переспросил Олег. – Известно, почему Кутузов не плакал. Он был человеком особого душевного устройства. На этот вопрос он сам ответил, служа под начальством князя Прозоровского в войне с Турцией за три года до оставления Москвы французам. Прозоровский тогда предпринял штурм Браилова. Штурм окончился неудачей. Прозоровский тяжко переживал неудачу. Он плакал, стенал, буквально рвал на себе волосы. И Кутузов решил его утешить. «Не такие беды бывали со мною, – сказал он успокоительно. – Я проиграл Аустерлиц, сражение, решившее участь Европы, но не плакал. Ничего...»








