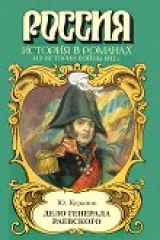
Текст книги "Дело генерала Раевского"
Автор книги: Юрий Куранов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 39 страниц)
9
С двумя малютками, с молодой, отважной, преданной и невзыскательной женой полковник Раевский покидал Кавказ, который так расширил круг его впечатлений о жизни вообще и круг размышлений на темы российской государственности, особенно же на предмет военного искусства, которое со смертью Суворова должно было вступить на путь застоя и узкомыслия. Софья же Алексеевна, уезжая на жительство в глубокие провинции России, как бы прокладывала путь в драматический подвиг своей младшей дочери, столь явно и столь тайно долженствовавшей стать возвышенным образом любви для великого русского поэта.
Жизнь офицера с семьёй при своей части да и сама служба в те времена сопряжены были с огромными расходами. Отъезд с Кавказа при обстоятельствах столь жестоких, с запрещением какой-либо службы вообще, оказался для Раевского разорительным. Не зря на Малороссии издавна говорили: «Паны дерутся, у холопов чубы трясутся». При всей видимости достоинства и чести дворянства в государстве, даже дворяне, военной службе отдавшие себя всецело, всегда в России были на положении холопов. Малейшие изменения вокруг трона и на троне самым неожиданным образом сказывались на всех. Особо осложнились денежные дела Раевского. Сдача дел превратилась в предвзятое и унизительное следствие, хотя никто не сомневался в честности Раевского. Даже главнокомандующий русскими войсками в Грузии граф Гудович писал тогда дяде Раевского графу Самойлову: «Мне самому совершенно неизвестно, за что он со службы исключён, как и в Высочайшем приказе не сказано. А жалею о том искренно, знавши его всегда достойным офицером».
Раевский покидал Кавказ в полной уверенности, что из военной службы он уходит навсегда. Он, правда, чувствовал прирождённую привязанность к военным делам, к чувству долга, к чувству опасности и необходимости действовать решительно, быстро и в то же время обдуманно. Ему нравилось в военной службе именно то, что многих в ней угнетало: обязанность всегда быть собранным и подтянутым, необходимость постоянно быть готовым к любым неожиданностям, беря при всех необходимостях ответственность на себя. Но, наглядевшись на несовершенство российской военной машины, ничем неискоренимое воровство и взяточничество, на подавление не только в солдате, но и в офицере чувства достоинства, презрение к личности, верховенство дурака над умным, Раевский решил тогда оставить армию навсегда. Всё же он не растерялся. Тем более что были всё-таки на свете люди, которые могли помочь. Спасительное чувство родственной взаимопомощи ещё не растаптывалось в России на государственном и общественном уровне. Спешила на помощь мать, помогал дядя граф Самойлов и тесть протягивал руку. Ему принадлежали несколько поместий. Пусть поместья не были богатыми и по тогдашним требованиям едва могли помочь свести концы с концами, но было где притулиться, с чего начать.
Раевский взялся за ведение хозяйства. Он полюбил сады, торговля и предпринимательство его привлекали. Он не только вёл свои дела, но и помогал родным, помогал близким. Армейские порядки настолько отвращали, что он об армии старался вообще не вспоминать, считал, что с нею покончено, его натура не для армейских обстоятельств. Он сотнями и тысячами вёрст мог бы исчислить свои деловые поездки по России. Только в 1803 году разъезды его были обширны: Москва – Орёл – Екимовское – Москва. К этим разъездам в 1804 году добавился Петербург. В 1805 году сверх обычного свыше тысячи трёхсот вёрст: Смела – Москва – Петербург, разъезжал в карете. Наступает зима, Раевский ставит карету на сани. В одном из писем графу Самойлову он пишет: «...пробыл здесь (в Москве) сутки, поехал в деревню, где теперь оставил жену и детей здоровых, а сам по делам своим опять на сутки приехал в Москву». Или ему же: «...в Орле пробыл один день по делам Вашим, в Москве двое суток с половиной, и теперь отъезжаю в Петербург». А это свыше тысячи вёрст. Ещё он пишет как-то дяде, что из именья собирается поехать в Можайскую, потом Епифанскую деревню, «откудова доходят жалобы»; ещё однажды сообщает о непогоде и разливе, вследствие чего «из флигеля в другой на лодках ездим». Эта жизнь во глубине России, по всей России делает Николая Раевского человеком не дворянского только сословия, пригревшегося к трону, но жителем всей России на общих её обстоятельствах.
Сразу после Кавказа он поначалу жил в деревне, больше не помышляя о карьере. Где именно он жил: в Болтышке Киевской губернии или в Екимовском Каширского уезда? И уже известный для многих военачальник как бы перестал для них существовать.
При всех неожиданностях судьбы Раевский не допускал и мысли «добиваться справедливости», ни к кому не обращался за прямой или косвенной защитой. Тем не менее на какое-то неизбежное торжество справедливости полковник надеялся. И неожиданно 5 февраля 1799 года он получает так называемый «абшид» – указ об отставке, об изгнании официально. До того, как «исключённый со службы», он подвергался по обычаям своего времени даже некоторым административным ущемлениям, как, например, запрещению приезжать в столицы, жить безвыездно в строго ему определённом районе. «Абшид», то есть указ об отставке, все ограничения снимал, и фактически Раевский признавался оклеветанным. В Высочайшем указе было написано: «...исключённый из службы прошлого 1797 года, мая 10 день, полковник Раевский отставляется с абшидом». Это касалось, в общем-то, не одного Раевского, 1 ноября 1800 года, уже незадолго до смерти царя, последовал указ, которым «Всемилостивейше дозволялось всем выбывшим из службы воинской в отставку или исключённым... паки вступить в оную».
«В оную» службу Раевский решил не вступать. Может быть, здесь имело значение условие, по которому вновь «вступающие в службу» не имели права подавать прошения, но были обязаны лично явиться для представления императору. К тому времени родился у Раевских второй сын. При шаткости общественного положения в империи всякого подданного, особенно шатким было положение военных. Они были порою простыми игрушками прихотей царствующих особ и царедворцев.
А в начале марта 1801 года дворяне гвардейского служения задушили Павла Первого и возвели на трон весьма участвовавшего в заговоре сына его, двадцатитрёхлетнего Александра. Отцеубийца осыпал милостями всех, кто пострадал при отце. Раевскому представлялась возможность вернуться к службе. Новый император даже пожаловал ему чин генерал-майора. Но обласканный изгнанник решил пребывать в своей отставке. В декабре 1801 года Николай Раевский писал Александру Первому: «Ныне хотя я имею ревность и усердие продолжать Вашему Императорскому Величеству службу, но встретившиеся домашние обстоятельства, кои должно к бедственному с семейством моим содержанию привести в порядок, принуждают к принятию других способов, почему и осмеливаюсь всеподданнейше просить, дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества указом поведено было сие моё прошение принять и меня, имянованного, отставить от службы на собственное пропитание и, за долговременную и безпорочную службу, со Всемилостивейшим позволением носить общий кавалерийский мундир».
10
Близилось к концу безмятежное пребывание Раевского в изгнанниках. Его отлучение от военных дел обычно в шутку потомки сравнивали со псковским изгнанием Пушкина. И как-то ехал он в коляске просёлочной дорогой к усадьбе под Екимовским. Стояла осень. В синем небе сбивались уже и готовились к отлёту бесчисленные стаи ласточек. Они кружили высокими щебетливыми стаями над усадьбами и крестьянскими дворами. Над ними высоко кружили коршуны, как это им и положено. Осень была ранняя. А по перелескам здесь и там, вдали слышались псовые охоты. Псы, словно откормленные орденоносцы при дворе, показывали свои сноровки. Они ретиво несли свою службу. Раевский обыкновенно избегал таких забав и старался не участвовать в них. А псовые голоса то удалялись, то приближались в просторах осени. Обочь дороги стояли высокие травы и уже костенели в своей перезрелости. С правой стороны от дороги в высоком кипрее вдруг увидел Николай Николаевич маленькую, трогательно насторожившуюся головку. Изящная серебристая головка тревожно поводила высокими ушами, как бы слушая стремительные голоса, не понимая ещё, что это означает, но догадываясь, что это что-то ужасное.
Глянув на коляску Раевского, голова встрепенулась. Она встрепенулась, метнулась в сторону и как бы рухнула. И больше из травы не появлялась. Но какое-то судорожное движение чувствовалось, приметно было там, в траве.
Николай Николаевич остановил коляску и спрыгнул на сухой и мелкий песок дороги. Осторожно направился он в заросль кипрея. Там что-то встрепенулось, встрепенулось ещё... И затихло. Неторопливо генерал двинулся на эти шорохи, которые больше не подавали о себе знать. И вскоре он увидел... На земле, прижавшись к ней всем телом, как бы стремясь уйти в неё, лежала молоденькая косуля. Нога её задняя была откинута и кровь струилась по ней чуть-чуть. Косуля закинула голову и судорожно дышала. И смотрела искоса на Раевского она. Смотрела полузакрытыми глазами, в которых стояло выражение ужаса.
Раевский притронулся к ней, косуля, к удивлению, не шелохнулась. Только вся мелко-мелко дрожала. Раевский решительно поднял её на руки и, мелко всю дрожащую, понёс к коляске.
С этой осени во дворе усадьбы Раевского под Тулой, которое он обычно называл «своей деревней», появилась весёлая и кокетливая жительница, глаза которой чёрные были всегда настороженными и любопытными. Особенно любила она есть хлеб свежий из рук Софьи Алексеевны».
ЧЕТВЁРТОЕ ВЫСОКОЕ СОБРАНИЕ
1
Всё было, как и прежде. Бутылки водки. Варёная картошка. Была ещё селёдка с луком и уксусом. Народ прежний, даже были некоторые из тех, кто имел обыкновение вставать и уходить, когда проблемы обсуждений приобретали непредсказуемый характер. Появился и один новенький. Войдя в квартиру и представляясь, сообщил: «Лев Ястребов. Ем сырое мясо, правда, не человеческое».
– А когда будете есть человеческое? – осведомился хозяин квартиры.
– Это посмотрим, – с улыбочкой ответил Лев Ястребов, – уж если придётся, то и это отведаем.
– Нам не привыкать? – вопросительно добавил Иеремей Викентьевич.
– Ко всему привыкнешь понемногу, – с улыбочкой ответил любитель сырого мяса.
На этот раз я приехал с Олегом. Я представил его хозяину. Тот принял моё представление к сведению и предложил Олегу выбрать место по вкусу и желанию, чувствовать себя как дома, принять участие в беседе, а при желании высказать и свой взгляд на обсуждаемое не первый день великое событие.
– Весьма признателен, – учтиво поклонился Олег и добавил: – Всенепременно воспользуюсь вашим предложением и, если обстоятельства будут сопутствовать, на следующем обсуждении выскажусь.
А выступал сегодня вновь пришедший. Он в первых словах своих сразу предложил пропустить по первой рюмке, поскольку на улице мороз, а душа человеческая, как известно, хочет всегда тепла. Все по первой рюмке пропустили. После такого зачала Ястребов молча вышел в прихожую и появился с большим и плоским блюдом кремового фаянса, блюда явно старинного, даже чуть мелко потрескавшегося.
– Прошу внимания! – громко обратился докладчик ко всем присутствующим. – Я не зря с первых слов сообщил, что весьма обожаю сырое мясо. У наших друзей поляков в социалистической Варшаве оно продаётся в крупных магазинах и в хороших ресторанах. Это мелко рубленная баранина. Она была занесена в Польшу ещё во времена татарского нашествия, потому и называется «татара». Я принёс говядину, молодую, свежую, так как баранины в магазинах столицы нет.
– Хорошо, что есть говядина, – заметил кто-то с места.
– Вот именно, – согласился докладчик, взмахнув длинным пальцем в воздухе.
– Это мелко рубленная молодая говядина, почти фарш, в варшавских магазинах она продаётся фаршем. Замечу, что это на самом деле дурной тон.
– Признаки польского социализма, – добавил кто-то.
– Вот именно, – взмахнул в воздухе длинным пальцем докладчик, – сообщу также, что с перцем, луком и другими специями она необычайно усиливает так называемую мужскую силу. Когда, изгнав Наполеона из России, наши воины двинулись в Европу, то польки, весьма охочие до мужчин разных национальностей, этой татарой потчевали наших офицеров.
– Вы намекаете на то, что русские офицеры якобы слабоваты оказались в сравнении с французскими? – озадачился Иеремей Викентьевич.
– Отнюдь, – ответил любитель татары, – французских офицеров они потчевали так же именно, как и всех других – немецких, австрийских, шведских и всех прочих. Я вам рекомендую это пикантное угощение... – Лев Ястребов поставил на середину стола блюдо, с верхом наполненное мелко рубленным мясом, и предположил, что вторую рюмку все предпочтут закусить именно этим угощением, чтобы убедиться в том, как великолепно сочетается водка с татарой.
– А пока я начну своё выступление со всем прекрасно известного произведения, короткого, но на большие размышления подвигающего. Итак – небольшой рассказ, скорее даже новелла «Повесить его!». Обращаю ваше внимание именно на то, что название рассказа идёт у автора под восклицательным знаком, завершающим название как некий путеводительный жезл. «Это случилось в 1805 году, – начал мой старый знакомый, – незадолго до Аустерлица. Полк, в котором я служил офицером, стоял на квартирах в Моравии.
Нам было строго запрещено беспокоить и притеснять жителей; они и так смотрели на нас косо, хоть мы и считались союзниками.
У меня был денщик, бывший крепостной моей матери, Егор по имени. Человек он был честный и смирный; я знал его с детства и обращался с ним как с другом.
Вот однажды в доме, где я жил, поднялись бранчливые крики, вопли: у хозяйки украли двух кур, и она в этой краже обвиняла моего денщика. Он оправдывался, призывая меня в свидетели... «Станет он красть, он, Егор Автамонов!» Я уверял хозяйку в честности Егора, но она ничего слышать не хотела.
Вдруг вдоль улицы раздался дружный конский топот: то сам главнокомандующий проезжал со своим штабом. Он ехал шагом, толстый, обрюзглый, с понурой головой и свислыми на грудь эполетами.
Хозяйка увидела его и, бросившись наперерез его лошади, пала на колени; вся растерзанная, простоволосая, начала громко жаловаться на моего денщика, указывая на него рукою.
– Господин генерал! – кричала она. – Ваше сиятельство! Рассудите! Помогите! Спасите! Этот солдат меня ограбил!
Егор стоял на пороге дома, вытянувшись в струнку, с шапкой в руке, даже грудь выставил и ноги сдвинул, как часовой, – и хоть бы слово! Смутил ли его весь этот остановившийся посреди улицы генералитет, окаменел ли он перед налетающей бедою, только стоит мой Егор да мигает глазами, а сам бел, как глина!
Главнокомандующий бросил на него рассеянный угрюмый взгляд, промычал сердито:
– Ну?..
Стоит Егор как истукан и зубы оскалил. Со стороны посмотреть: словно смеётся человек.
Тогда главнокомандующий промолвил отрывисто:
– Повесить его! – толкнул лошадь под бока и двинулся дальше – сперва опять-таки шагом, а потом шыбкой рысью. Весь штаб помчался вслед за ним; один только адъютант, повернувшись на седле, взглянул мельком на Егора.
Ослушаться было невозможно... Егора тотчас схватили и повели на казнь.
Тут он совсем помертвел и только два раза с трудом воскликнул:
– Батюшки! Батюшки1 – А потом вполголоса: – Видит Бог – не я.
Горько, горько заплакал он, прощаясь со мною. Я был в отчаянии.
– Егор! Егор! – кричал я, – как же ты это ничего не сказал генералу?
– Видит Бог – не я, – повторял, всхлипывая, бедняк.
Сама хозяйка ужаснулась. Она никак не ожидала такого страшного решения и в свою очередь разревелась. Начала умолять всех и каждого о пощаде, уверяла, что куры её отыскались, что она сама готова всё объяснить...
Разумеется, всё это ни к чему не послужило. Военные, сударь, порядки! Дисциплина! Хозяйка рыдала всё громче и громче.
Егор, которого священник уже исповедал и причастил, обратился ко мне:
– Скажите ей, ваше благородие, чтобы она не убивалась... Ведь я ей простил.
Мой знакомый повторил эти последние слова своего слуги, прошептал: «Егорушка, голубчик, праведник!» – и слёзы закапали по его старым щекам».
Любитель сырого мяса читал ровно, спокойно, без всякой интонации, не поднимая от книги головы. Прочёл и вопросительно поднял глаза, всех обводя взглядом по очереди. Все молчали. Все смотрели вниз, в стол или в пол.
– Я всегда считал Тургенева самым великим нашим писателем, – сказал Олег, приблизив свою щёку к моей.
– А Лев Толстой? – спросил кто-то со стороны встревоженно.
На вопрос Олег не ответил. А все молчали. Тогда чтец спросил:
– Ну как? Выпьем или ещё почитаем что-нибудь?
Все молчали.
Тогда он вынул из внутреннего кармана своего полувоенного френча довоенного покроя бумажку и развернул её перед собой: «Подойдя к селу, – начал докладчик тем же полуравнодушным голосом, – разъездные привели несколько неприятельских солдат, грабивших в окружных селениях. Так как число их было невелико, то я велел сдать их старосте села Спасского для отведения в Юхнов. В то время как проводили их мимо меня, один из пленных показался Бекетову, что имеет черты лица русского, а не француза. Мы остановили его и спросили, какой он нации. Он пал на колени и признался, что он бывший Фанагорийского полка гренадер и что уже три года служит во французской службе унтер-офицером. «Как! – мы все с ужасом возразили ему, – ты – русский и проливаешь кровь своих братьев!» – «Виноват, – было ответом его, – умилосердитесь, помилуйте!» Я послал несколько гусаров собрать всех жителей, старых и молодых, баб и детей, из окружных деревень и свести к Спасскому. Когда все собрались, я рассказал как всей партии моей, так и крестьянам о поступке сего изменника, потом спросил их: находят ли они виновным его? Всё единогласно сказали, что он виноват. Тогда я спросил их: какое наказание они определят ему? Несколько человек сказали – засечь до смерти, человек десять – повесить, некоторые – расстрелять, словом, все определили смертную казнь. Я велел подвинуться с ружьями и завязать глаза преступнику. Он успел сказать: «Господи! прости моё согрешение!» Гусары выстрелили, а злодей пал мёртвым».
Любитель сырого мяса и в этот раз читал всё с той же полуравнодушной интонацией, а лицо его ничего не выражало. Он окончил чтение и с вопросом в глазах смотрел на сидевших вокруг. И снова все молчали. Двое с разных концов комнаты встали. Один ушёл в прихожую и вскоре хлопнул входной дверью. Другой в соседней комнате позвонил и тоже удалился, на ходу всем торопливо поклонившись.
– Это был Денис Давыдов, известный партизан, друг Пушкина. Генерал. Его внуку в Париже объяснял некоторые детали убийства Пушкина престарелый Дантес, – пояснил Иеремей Викентьевич.
– Да, это так, – подтвердил Лев Ястребов и прямо рукой в сомкнутые горсткой пальцы взял из большой фаянсовой тарелки щепотку сырого мяса. Прожёвывая съеденное и поглядывая по сторонам, своеобразный этот докладчик с любопытством и усмешкой поглядывал на окружающих. Прожевав, пояснил:
– Это, милостивые государи, из «Дневника партизанских действий 1812 года».
– А что вы хотели этим чтением сказать? – спросил Мефодий Эммануилович, человек с бородкой Наполеона Третьего.
– Я более хотел бы спросить, чем сказать, – ответил любитель сырого мяса. – Я хотел бы знать, что думают по поводу первого и второго чтения?
– Вывод из них, в общем-то, напрашивается один, – задумчиво заметил Иеремей Викентьевич.
– Вы правы, – согласился Мефодий Эммануилович, – и в первом и во втором чтении мы видим варваров.
– Вы так думаете? – удивился кандидат исторических наук.
– А как иначе? – спросил Мефодий Эммануилович. – Всё происходит, как у дикарей. И наиболее дикими выглядят здесь персона главнокомандующего, всеми нами любимого Михаила Илларионовича Кутузова и нашего знаменитого генерала-партизана.
– Как? – удивлённо спросил кто-то.
– А так! – ответил Мефодий Эммануилович. – В нормальном обществе даже тех времён должен был быть суд. Разбирательство. Но уж никак не расстрел или повешение на месте.
– Это всё спорные ситуации и неоднозначные, – задумчиво подняв брови, проговорил субъект.
Но спора на этот раз опять не получилось. Все как-то молчали и смотрели кто в пол, кто в потолок.
– И хорош же этот барин повешенного денщика, который не нашёл ни слова в его защиту, – сжал губы Мефодий Эммануилович. – Его самого надо было повесить в первую очередь.
– К сожалению, это по-нашенски, из века в век, из эпохи в эпоху, – вздохнул кто-то из находящихся за спиной, тех, кто сгрудился вокруг татары.
Евгений же Петрович опять сидел в стороне, молчал, но время от времени поглядывал на Олега.
И опять, когда расходились, Евгений Петрович, спускаясь рядом с кандидатом исторических наук, тихо сказал ему:
– Нет, этот человек не имеет права на...
И опять он добавил какое-то латинское слово, которое я не понял. Видимо, это был какой-то специфический, конечно же научный, термин. Так я думаю.








